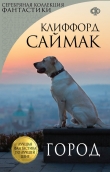Текст книги "Русская фантастическая проза XIX - начала XX века (ил. И.Мельникова)"
Автор книги: Александр Куприн
Соавторы: Владимир Одоевский,Валерий Брюсов,Велимир Хлебников,Алексей Апухтин,Николай Полевой,Осип Сенковский,Михаил Михайлов,Петр Драверт,Константин Аксаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Глава вторая
Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал.
Шиллер
I
Одна выше другой величавыми террасами встают горы. Вершины дальней цепи как будто уходят в небо и сливаются с ним своими легкими голубыми очертаниями. Местами полосы нетающих снегов ослепительно сияют розовыми отливами под тропическим солнцем. Они кажутся ступенями, с которых можно перешагнуть в эту лазурную глубь.
Эти горы, обступившие амфитеатром морское прибрежье, стоят так близко, если смотреть на них с длинной песчаной косы, заплескиваемой теплыми волнами. Воздух так прозрачен, что каждая белая тучка, набегающая на их синие вершины, видна ясно с прибрежья. Но между им и этою грядой гор, замыкающих собою амфитеатр, лежит еще недостижимая даль для людей, которые живут в ближайших окрестностях берега. Они назвали бы эти дальние горы концом мира, глухою стеной, которая поддерживает с этой стороны небесную кровлю, – если бы мысль их могла хоть на минуту останавливаться на таком далеком для них предмете. Конец мира гораздо ближе для них. Но и до этой пограничной черты мысль их не доходила. Она едва уловляет, – и то ненадолго, не успевая запечатлеть в слове, – явления и более близкие, когда они не касаются самых неизбежных потребностей. А потребности все в том, чтоб быть целу, быть сыту. Каждый день встает солнце, и каждый день блещет в лучах его бесконечное море; каждую ночь выходит в небо месяц и загораются над землей лампады звезд. Недвижимо стоят дальние горы. О них нет заботы человеку. Что же и думать о них? Они не возбуждают его воображения. Минута спокойствия есть для него минута сна. В грезах его бессознательно повторяются картины окружающей его природы. В этих грезах не все является в совершенно таком виде, как наяву. Но, пробуждаясь, он забывает за насущной заботой свою грезу и не останавливается на ней мыслью. Только то, что необходимо нужно, без чего нельзя жить, – только то, что грозит неминуемою гибелью, занимает его; только для этого есть у него название. Он дал имя морю, потому что оно страшно своими приливами; но у него нет еще имени небу. Потом он, может быть, назовет его неподвижным морем. У него есть название тигру – и нет названия солнцу. Когда-нибудь солнце превратится в его воображении и слове в небесного тигра.
Он говорит, как грудной младенец, но уже говорит. Значит, он живет не одиноко; значит, необходимость защиты сомкнула уже людей.
Если бы предание не ограничивалось у них только указанием на то, что можно есть и какого зверя надо бояться, если бы память их могла обнимать не несколько лишь ближайших дней, – эти люди, еще так похожие на обезьян, рассказали бы предание о всемирном потопе и об огненном дожде, истребившем их эдем. Но потоп и огненный дождь застали их еще разрозненными и бессловесными и оставили им только страх и нужду. И вот создалось человеческое стадо.
Эти места, где люди впервые почувствовали необходимость соединиться, действительно были раем еще недавно. Пятое или шестое поколение жило в скудных его остатках. Грозный геологический переворот видоизменил здесь морские берега. Такой же райский остров, к которому полосой шли коралловые рифы от этих берегов материка, был поглощен волнами, и взамен его выдвинулся гораздо далее другой, больше, выше и шире. Страшное землетрясение погубило половину растительной и животной жизни на прибрежье. На месте лесов явились болота, река изменила свое ложе, в провалах гор образовались озера. Вместо холмов, одевавшихся кустами и деревьями, торчали голые скалы, которым еще долго ждать новой зеленой одежды.
Пройдут века, прежде чем солнце выпарит влагу из этих болот и семена, заносимые ветром, пустят в них ростки и корни и поднимутся опять роскошными лесами. Пройдут века, прежде чем периодические дожди и муссоны размочат и выветрят эти бесплодные скалы и облекут их корою плодоносной почвы. А до тех пор жизнь людей пойдет здесь печально, в вечной заботе о своем самосохранении. То время, когда каждый из них жил отдельно и самостоятельно, когда каждый носил в самом себе и свое право и свою защиту, когда встреча с другим нужна была только для забавы, для наслаждения, – то время миновало безвозвратно. Если природа этих берегов опять возвратит себе прежний блеск и прежнюю обильную красоту, она, может быть, не увидит уже тут людей, а если и увидит, то увидит совсем непохожими на тех, которые блаженствовали когда-то посреди ее неистощимых даров в райской анархии. «Они были зверями», – скажет нынешний человек, самолюбию которого обидно признавать свое родство с орангутангом и гориллой, гордости которого тяжело назвать негра своим братом. Да, они были зверями, но зверями сытыми, здоровыми, спокойными, счастливыми, огражденными от нужды и опасности богатством окружающей природы. В этот второй период их развития, когда они видят, что жить врознь и вразброд стало нельзя, они все еще звери, но уже без прежнего довольства и счастья.
II
Остатки лесов, подходящих к первым отрогам прибрежных гор, еще очень пышны и тенисты. Будто чудом их пощадил подземный огонь, и они цветут в прежней красоте. Их семенам суждено оплодотворить когда-нибудь все пустынные теперь места этих гор и равнин; но семена, разносимые ветром с их деревьев и кустов, падают еще на камень, на песок, – и леса остаются только оазисами среди окружающей бесплодной почвы. Их роскошное убежище перестало уже быть безопасным для человека. Ему нельзя, как прежде, кочевать с дерева на дерево, спать в воздушной, зыбкой постеле из ветвей и листов; нельзя привольно гулять, не страшась встречи ни с каким зверем.
Эти встречи становились ему очень опасны. Хищный зверь, не находя вокруг себя прежнего обилия, стал смотреть на человека, как на хорошую добычу. А чем бы стал бороться и защищаться человек?
Этого оружия было мало, чтобы сражаться с врагом сильнейшим.
А между тем встречи с этим врагам были все-таки, неизбежны. Лес доставлял всего более пищи, нужной человеку.
Прежде ему нечего было враждовать с другими животными. Для всех было довольно пищи – и мир не нарушался, как не нарушается он между сытыми домашними кошками и собаками, врагами на воле. Правда, истребительная борьба шла уже и прежде между сильнейшими и слабейшими породами. Но в этой борьбе человеку незачем еще было принимать участие. Он знал, что есть звери с зубами острее и крепче его зубов, с когтями, перед которыми ничтожны его ногти, с мускулами, невредимыми, как камень. Но они все-таки были не опасны. Им не приходилось еще вступать с ним в борьбу из-за существования. Теперь зверь стал голодать, и встретиться один на один с тигром, с медведем значило пасть в неравной борьбе. Человеку и самому приходилось чаще голодать – и он становился слабее.
Пещеры, бывшие прежде лишь местом его отдыха, стали теперь ему почти постоянным жильем, из которого он выходил только искать пропитания.
Вот эти пещеры в первой, ближайшей к берегу гряде гор. Некоторые из них не больше как узкие и неглубокие трещины с просветом вверху; другие похожи искусственно выбитые в скале гроты: третьи начинаются очень узким устьем, но расширяются дальше и иду коридором в глубь горы. Первые люди, решившиеся пролезть в черную узкую пасть подземных коридоров были Бартами и Ливингстонами{91} этих неведомых мест. Были и менее счастливые исследователи. Немало их задохлось от удушливых газов, наполнявших некоторые из пещер, или погибло в провалах, или потонуло в тине подземных ключей. Но у них не было еще имен, и о них не оставалось памяти, как о первых «жертвах науки».
Входы почти всех пещер завалены большими камнями. Это первые двери, в которые не может пробраться никто, кроме человека. Силы отвалить эти камни достало бы у многих других животных; но не достало бы ловкости. Но как долго нужно было напрягаться уму, чтобы придумать себе и эту защиту. И он не сам придумал ее. Ее указал ему случай; но и тут он еще не сразу последовал его указанию, а старался только воспользоваться счастливой случайностью. У самого устья одной из пещер лежал огромный, обрушившийся с ее сводов камень. За него можно было забраться, хотя и с трудом. Эта ограда была не вполне безопасна; но все же не всякий зверь мог пролезть в небольшое отверстие. И все стали тесниться в эту пещеру. Произошло немало ожесточенных драк за ночлег в ней. Надо было, чтобы несколько раз забралась туда голодная гиена, чтобы навести обитателей пещеры на мысль приваливать камень ближе к отверстию и совсем запирать вход. Так же трудно было придумать заваливать камнями входы других пещер. И удивительно ли это? Сколько десятков тысячелетий пар заставлял подпрыгивать и подниматься крышку над котлом с кипящей водой, прежде чем человек обратил внимание на это явление как на указание нового средства для своего благосостояния!
Но вот пещеры все снабжены дверями, – и с этой стороны обеспечена безопасность. Но довольно ли в них места для всех? Не совсем. Духота и теснота заставляют гнать оттуда тех, кто послабее. Первая аристократия уже создалась – аристократия силы. Бессильное ожесточение слабого мало-помалу обращается в хитрость; но она еще плохо помогает. Люди не успели доразвиться до подлости и лести, чтобы найти в них замену силы.
Не взаимное условие, не договор соединили все людское население прибрежья в этих соседних друг с другом пещерах. Их просто согнал туда страх преследования от хищных зверей, – и они остались вместе. При первом же сближении между ними закипели ссоры, для которых прежде не было у них повода. Ночлег, лишний кусок, женщина – стали предметами вражды и столкновений. Из-за женской ласки происходили отчаянные схватки между мужчинами, такие же, какие мы видим теперь между так называемыми низшими животными. Не хуже собак рычали и грызлись они около женщины, ожидавшей себе мужа. Победа оставалась за самым сильным. Женщина тотчас же брала его сторону и помогала ему скорее соединиться с нею, отгоняя от себя с ожесточением всех более слабых. Сила была высшим достоинством человека, и ей еще по праву доставалось тогда первенство. Для борьбы с ожидавшими людей опасностями были нужны более всего физические силы, – и сама природа, казалось, указывала только наиболее одаренным силой становиться родоначальниками будущих поколений. Слабый жил почти без наслаждений, умирал без потомства.
Прежде вырвать из рук другого какой-нибудь надкушенный им плод – было только шуткою. Стоило протянуть руку, чтобы сорвать другой, – и ссориться было не из-за чего. Теперь это стало иначе. Первые зачатки собственности, хотя и не прочной, уже появились. И собственность принадлежала только сильным.
Забота данной минуты слишком поглощала все внимание, и люди не делали еще запасов. Надобны были опыты долгого повального голода, чтобы заставить их приберечь часть сегодняшней пищи на завтра.
III
Поутру на песчаном берегу, с которого только что отхлынул прилив, собрались почти все обитатели прибрежья. У пещер не осталось никого. Женщины принесли с собой и грудных детей.
Море, отхлынув, оставило на песке берега множество раковин, слизняков, мелкой рыбы. Все это потребляется с жадностью жителями прибрежья.
Только очень внимательный взгляд, обращенный на них, мог бы заметить в их лицах и в форме их тела некоторое изменение сравнительно с тем временем, когда главным местопребыванием их был лес. В глазах их светится как будто больше внимания, осторожности, спина стала прямее, ступня потеряла часть своей гибкости. Многим поколениям людей приходилось больше бегать и ходить, чем лазить по деревьям. Но у лучших представителей расы все еще очень широки плечи и все кости, все еще очень крепки мускулы. У всех их живот уже не выдается так вперед, как у их беззаботных предков. Умеренность в пище придала многим худобу. Умеренность эта, конечно, невольная; стоит посмотреть, с каким сладострастием их зубы рвут сырую и несколько уже испорченную рыбу, как разгрызают они раковины и выхлебывают из них слизистого моллюска.
Разговора не слыхать. Только женщины покрикивают иногда на детей, которые возятся в песке или бегают, отыскивая себе еду. Гортанные звуки их слов отрывисты, бессвязны. Порою слышатся будто одобрительные замечания от гастрономов, разлегшихся на песке и загребших поближе к себе свой завтрак. Они, кажется, похваливают его своими односложными восклицаниями. Есть люди, которым не нравится этот пир под самыми лучами палящего солнца. Они набирают запас разных разностей в руки и уходят в тень утесов и пещер – и удовлетворяют свой аппетит там.
Около полудня, когда солнце станет палить еще жарче, можно будет забраться и в опушку леса. Прекрасные плоды на верхушках деревьев, кажется, ждут сбора. Но редкий уносит хотя часть их с собою. Вот одному приходит в голову сорвать огромный лист и в него положить яблок и ягод, чтобы снести в пещеру, может быть, для оставшихся детей своих. Другие бросаются вслед за ним, отнимают у него его жатву, и он убегает лишь с скудными ее остатками в пальмовом листе. Не сразу догадываются другие, что могут и сами сделать такие запасы, каждый для себя.
Не все ограничивают свою прогулку по лесу одною его опушкой. Многие забираются и в глубь его. Самые страшные из лесных зверей – это тигр и буйвол. Но в полдень они не бродят близко, и их можно избежать. А в глубине леса все растет обильнее. Да и поневоле надо искать пищи подальше. У самой опушки ее недостаточно для всех, и ее плоды обираются ежедневно.
Счастливый день, когда всем можно быть сытым и не драться из-за куска тухлой рыбы! Такие дни не всегда бывают. Как ни горячо это солнце, но оно не может заставить деревья приносить плоды круглый год. В эти промежутки надо питаться только тем, что приносит море. Но его даяния скудны. Надо вместо плодов и орехов питаться древесной корой. Эта кора вкусна и не похожа на жесткую и горькую кору наших печальных лесов. Но с нее не разжиреешь, ею не будешь очень сыт.
Между тем в пещерах довольно места, и на время недостатка можно бы устроить кладовую в их глубине. До этого они еще не скоро додумаются. Надо, чтобы сначала истощенье принесло с собою болезнь, смертность. Но и на умирающих собратий они посмотрят, может быть, как на помощь в беде. Голодные живые станут есть своих мертвых. Но этого им нельзя будет делать спокойно. Запах трупов приведет к их жилищам стаи гиен, шакалов и волков. Надо будет побросать им мертвых, чтобы только звери ушли в свои трущобы.
Все это тяжелые уроки; надо их пережить, чтобы сделать хоть шаг вперед в том, что мы называем теперь наукой. Да и довольно ли бывало одного такого урока? Конечно, нет. В этом порукой наше образованное время, наше цивилизованное общество с его политической историей, с его народным хозяйством. Разве не такие же уроки переживаем мы беспрестанно; а много ли дают они нам предусмотрительности? много ли отвращают бедствий и зла в будущем?
Чего же хотят от «зверей», какими еще были люди?
IV
Еще недавно человек стоял в уровень со всеми остальными животными; теперь он ниже большей части их. У него нет еще и той цивилизации, до которой нужда и опыт довели многие слабейшие породы. Он мог бы поучиться у них многому, но ученье тяжело ему, как ребенку. На жизнь другого животного, если оно не вредит ему прямо или не прямо полезно ему, он смотрит совершенно равнодушными глазами. Гнезда птиц, норы подземных зверков, стройный порядок муравьиных куч, хлопоты о будущем, запасы их, поиски лучших мест для житья – все эти примеры перед ними постоянно; но когда еще они научат людей следовать им, делать то же? Паук плетет перед ними свою сеть и ловит в нее мух; они не думали еще, что можно так же ловить рыбу. Червь прядет нити из листка и делает из них себе мягкую постель; люди не думали еще об его искусстве. Муравьи делают вал вкруг своих жилищ; огораживают их, обращают стада тли в стада своего домашнего скота. У людей не являлось еще мысли о прочной ограде, о дружеском обмене услуг с другими, кроткими и способными к приручению животными. На все эти успехи нужны им века страданий, века нужды. Как прежде полное довольство мешало их развитию, так теперь мешает нужда. А будет время, когда человек станет гордо называть разум своею привилегиею перед остальною тварью.
Море принесло и оставило на берегу полусгнивший пень, весь окутанный цепкими и крепкими, как струны, стеблями какого-то вьющегося морского растения. При отливе пень уперся своими острыми и широкими корнями в вязкий песок, и волны не унесли его обратно. В путанице оплетавших его веток засело, как в сети, много рыбы и другой морской живности. Эту добычу открыл один из туземцев и завладел ею, пока другие, посильнее, не заметили нового удобного места ловли и не оттеснили его от его открытия. Пень стал самым привлекательным пунктом на берегу. Каждый раз после отлива к нему теснились с жадностью. В лесу довольно лоз. Самый случай учит их сплести из них первую вершу. Они умеют завязывать узел из двух веток. Это искусство появилось между ними еще в ту пору, когда они еще не умели различать себя от орангутангов. От узла нетрудно перейти и к связыванию трех-четырех веток вместе. Но нет, для них еще и это трудно. Мысль о верше придет им в голову разве тогда только, когда волны станут подмывать пень и он станет покачиваться, грозя уплыть назад в море.
Сказка об изобретении финикийцами стекла, об открытии пурпура, эта сказка остается историею всех человеческих изобретений чуть не до самого нашего времени, до таких открытий, как пар, как электричество, как фотография. Недаром рассказываются такие же анекдоты, как про финикийцев, про Гуттенберга с попавшеюся ему строчкой Цицерона, про Ньютона с его яблоком. Только теперь начинаем мы – и то еще как слабо! – копить опыты и проверять их с определенною целью.
Как бы то ни было, первая верша изобретена, и прибрежное население превратилось в рыбаков. Шаги от какого-нибудь изобретения к его новым применениям, конечно, легче, чем самое изобретение. Но искать усовершенствований и новых применений может заставить только опять-таки какая-нибудь неудача, нужда или же столь могущественный для этих людей случай.
Эти потребности и нужды, эти случаи превратят сплетенную из лоз вершу в залитое глиною ведро, которое не будет пропускать сквозь себя воду; это ведро, плавая на поверхности воды, подаст и первую мысль о жалкой ладье. Острая раковина будет первым ножом, круглая и полая – первой чашкой. И между каждым из этих простых открытий будут проходить столетия, пока эти люди дойдут и до тех жалких успехов, на каких мы застали прибрежных жителей Австралии.
V
С первой же поры, как населению прибрежья пришлось сойтись в кучу, с первых же годов, когда им стало невозможно разделяться и разбрасываться по разным местам, явились и начатки того, что мы называем теперь обществом.
Только необходимость стоять ближе друг к другу, держаться крепче один за другого для своей защиты связала их. Как же самая эта необходимость принесла с собою и все то, что более всего было способно нарушить эту неизбежную и необходимую связь? В ту же минуту, как окружающий мир нарушил равенство в наслаждении для всех, нарушилось в детском сознании человека и равенство прав на наслаждение. Высшим правом стала сила, – исключительно сила физическая, потому что она одна была необорима. Наслаждения для всех уже недостаточно; то, что есть, пусть принадлежит сильному. Люди перестали быть просто людьми; явились отличия.
VI
Вот уже несколько дней, как неподалеку от пещер каждую ночь слышится громкое рыканье льва. Он, видно, голоден и ищет пищи. Иногда, проснувшись посреди ночи, обитатель пещеры слышит отчаянно-быстрый топот и бег. Это, верно, олень, спасающийся от преследования. Шаги его замерли в отдалении; примолк и голос льва. Его не будет уже слышно до завтрашней ночи.
Перед вечером все собрались на ночлег в свою пещеру. Она невелика. Устье ее довольно широко; каменный свод дальше поднимается так, что под ним можно свободно стоять не нагибаясь. Еще дальше, в самой глуби ее, небольшой поворот, в который можно только проползти, и то лишь так, что, когда голова коснется глухой стены, ноги все-таки остаются по щиколку снаружи. Это пространство годно разве на то, чтобы сделать в нем кладовую для каких-нибудь запасов. И точно, там стоят плетенные из лоз корзины с орехами и плодами.
Пол пещеры высоко устлан весь листьями. Нижние слои этой настилки давно превратились бы в сухую труху, если б постоянная влажность почвы долго не поддерживала в них свежести. На этих лиственных коврах располагаются спать жители пещеры. Их нет и десяти. Больше не было бы где поместиться. Тут четыре женщины и двое мужчин; остальные – дети. Все, сколько их ни есть, только что воротились в пещеру из своих поисков по ближайшей опушке леса. Многие жуют. Один набрал острых и разновидных кремней в горе и кладет их около груды таких же камней у самого входа. Он уже ловко умеет пускать их своей сильной и меткой рукой – и не раз спасал себя ими от голодных зверей. Около этих кремней лежат и другие орудия в этом роде – толстые, суковатые палки, некоторые с расщепленными острыми концами, кости больших животных, похожие на булавы. Некоторые из кремней оббиты так друг о друга, что острыми изломами их можно резать не только мясо, даже дерево. В одном углу лежит вся скоробленная и полувылинявшая кожа оленя. Через несколько поколений эти люди, верно, будут хорошими охотниками.
Все они еще совершенно голы; потребности в одежде для тепла еще нет. Украшать себя ею? Эстетическое чувство еще не зарождалось.
Все очень говорливы, – и почти все говорят, разом бедным, однозвучным гортанным языком. Один говорит: «Принес камень и две дубины»; другая говорит: «Лев близко»; третья кричит: «Прочь!» – мальчику, который лезет к ее груди, и засовывает ему в рот кусок какой-то коры; четвертый говорит: «Камень к пещере!»
Пещеру действительно пора заваливать камнем. Солнце скоро спрячется; свет разом почти сменяется ночью; сумерки так быстры. А только едва стемнеет, опять зарычит этот лев. Он все еще не устал бродить около этих мест, все еще не ушел искать себе добычи подальше.
Набегавшиеся в день, усталые, покрытые потом дети свернулись по углам и заснули. Они, как птицы, дают знать своим сном, что и верхняя окраина солнечного венца уже ушла за горизонт.
Все шестеро больших с громким и бессвязным криком берутся за громадный камень, чтобы привалить его ко входу; камень подымается своим влажным боком с своего обычного, давно надавленного им места. Вдруг все приостанавливаются – настороживают уши. Слышен легкий, быстрый, пугливый топот. Вот он ближе, ближе.
Крики в пещере усиливаются. Скорее поднимай камень!. Это лев гонится за кем-то. Но только что громадный камень зашевелился быстрее в их руках, топот раздался у самого входа в пещеру, и между движущимся камнем и верхним сводом, как стрела вскочила в пещеру дикая коза. В одно мгновение камень захлопнул вход… и в пещере стало совсем черно.
С такими же криками изумления и отчасти удовольствия все бросились к, козе. Ее невидно было в потемках; но они тотчас, же ощупали ее на полу. Она лежала, вытянув ноги, и дышала тяжело.
Поднялся оживленный говор, что делать с этою добычей, которая досталась им сама собою: задушить ли ее теперь же, или оставить до утра?
Все были сыты и, покричав еще немного, полегли спать. Коза продолжала неподвижно лежать между ними. Мало-помалу усталость и испуг ее сменились тоже спокойным сном. Ночью на этот раз никого не разбудил голос льва, раскатывавшийся обыкновенно таким громким эхом по всем пещерам и ущельям гор.
Перед утром, когда в щели между камнем, заваливавшим вход, и стенами проходили в пещеру первые лучи света и храп спавших в ней становился тише, один из грудных ребят проснулся и стал кричать и плакать. Его голос услыхала, мать. Ночью ребенок далеко откатился от ее бока, и она слышала голос его почти по самой середине пещеры. Ей не хотелось ни вставать, ни открывать глаза. Грудь ее давно уже начинала скудеть молоком, – и теперь она не чувствовала в ней той тяжести, которая заставляет мать так быстро подниматься утром с постели, и давать свой сосок плачущему ребенку. Вместо того чтобы встать и угомонить плач дитяти, женщина лениво закинула за голову свои руки и потянулась, не открывая глаз. Ребенок на минуту притих, потом опять закричал тем умоляющим голосом, каким обыкновенно просил груди, – потом опять притих, и матери послышалось, что губы ее ребенка как будто ухватили что-то и сосут с великим наслаждением. С быстрым любопытством привстала она с своей лиственной постели, и окинула глазами пещеру, ища, где ее дитя.
В пещеру проникало уже довольно света. Ребенок лежал около козы, смирно оставшейся на том самом месте, на котором она упала вечером. Грудь ее была так полна молоком, что оно капля за каплей срывалось с ее сосков. Ребенок ухватился губами за один из них и с жадностью глотал молоко, почти не шевеля губами: рот его беспрестанно переполнялся, и молоко белыми струями текло по его черным надувшимся щекам.
Крик удивления вырвался у матери:. Коза, лежавшая на боку, вздрогнула, подняла уши; но ребенок продолжал так усердно освобождать ее от молока, что она опять успокоилась.
Все начали уже просыпаться в пещере. Мать ребенка тотчас же обратила внимание всех на невиданное зрелище, – и все с любопытством окружили козу. Свет все больше проникал в пещеру. Коза глядела на окружавших ее людей кроткими и покорными глазами, будто умоляя не делать ей зла, пощадить ее за то, что она накормила маленького человека тем молоком, которого уже не будут есть ее козлята, разорванные львом.
Убьют ли, чтобы потом разорвать на части и съесть ее сырое мясо, или же пощадят ее эти люди?
Может быть, эта женщина, которой уже тяжело кормить своего ребенка грудью, уговорит остальных приберечь ее для него. Может быть, кто-нибудь полюбопытствует узнать вкус козьего молока, надавит его из соска себе в ладонь, попробует его, и оно понравится. Может быть, это будет первый опыт доенья. Но если ее пощадят и она как-нибудь вырвется и убежит? Тогда счастливый случай хорошего обеда пропал даром. Запереть ее в пещере, когда все соберутся уходить, – дать ей корму.
Потом она так привыкнет, что не будет и уходить далеко, – будет возвращаться домой на ночлег. Он безопасен.
Придет для нее пора любви, – и ее голос приведет к пещере самцов. Из них, может быть, ни один не захочет остаться тут; но зато у козы будут малютки. Они вырастут уже вместе с детьми людей, – они станут смотреть на них не пугливыми, а умными и благородными глазами.
Тогда в этих пещерах может появиться и такое хозяйство, какое было у циклопа Полифема{92} на его острове, соседнем с островом коз.
Начали все мы в пещере просторной осматривать; много
Было сыров в тростниковых корзинах; в отдельных закутах
Заперты были козлята, барашки, по возрастам разным в порядке
Там размещенные: старшие с старшими, средние подле
Средних и с младшими младшие; ведра и чаши
Были до самых краев налиты простоквашей густою.
Но, может быть, они приручат прежде кроткого, податливого и робкого, но умного слона.
…До этого, впрочем, верно, еще очень долго ждать.
<…>