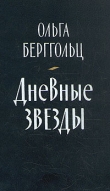Текст книги "Архипелаг ГУЛаг(в одном томе)"
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 117 страниц) [доступный отрывок для чтения: 42 страниц]
Победа под Москвой породила новый поток: виновных москвичей. Теперь при спокойном рассмотрении оказалось, что те москвичи, кто не бежал и не эвакуировался, а бесстрашно оставался в угрожаемой и покинутой властью столице, уже тем самым подозреваются: либо в подрыве авторитета власти (58–10); либо в ожидании немцев (58–1–а через 19–ю, этот поток до самого 1945 кормил следователей Москвы и Ленинграда).
Разумеется, 58–10, АСА, никогда не прерывалась и всю войну довлела тылу и фронту. Её получали эвакуированные, если рассказывали об ужасах отступления (по газетам же ясно было, что отступление идёт планомерно). Её получали в тылу клеветавшие, что мал паёк. Её получали на фронте клеветавшие, что у немцев сильная техника. В 1942 её получали повсюду и те, кто клеветал, будто в блокированном Ленинграде люди умирали с голоду.
В том же году после неудач под Керчью (120 тысяч пленных), под Харьковом (ещё больше), в ходе крупного южного отступления на Кавказ и к Волге, – прокачан был ещё очень важный поток офицеров и солдат, не желавших стоять насмерть и отступавших без разрешения, – тех самых, кому, по словам бессмертного сталинского приказа № 227 (июль 1942),
Родина не может простить своего позора. Этот поток не достиг, однако, ГУЛАГа: ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь гнался в штрафные роты и бесследно рассосался в красном песке передовой. Это был цемент фундамента сталинградской победы, но в общероссийскую историю не попал, а остаётся в частной истории канализации.
(Впрочем, и мы здесь пытаемся уследить лишь те потоки, которые шли в ГУЛАГ извне. Непрерывная же в ГУЛАГе внутренняя перекачка из резервуара в резервуар, так называемые лагерные судимости, особенно свирепствовавшие в годы войны, не рассматриваются в этой главе.)
Добросовестность требует напомнить и об антипотоках военного времени: уже упомянутые чехи; поляки; отпускаемые из лагеря на фронт уголовники.
С 1943, когда война переломилась в нашу пользу, начался, и с каждым годом до 1946 всё обильней, многомиллионный поток с оккупированных территорий и из Европы. Две главные его части были:
– гражданские, побывавшие под немцами или у немцев (им заворачивали десятку с буквой «а»: 58–1–а);
– военнослужащие, побывавшие в плену (им заворачивали десятку с буквой «б»: 58–1–6).
Каждый оставшийся под оккупацией хотел всё–таки жить и поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления: если уж не измену родине, то хотя бы пособничество врагу. Однако практически достаточно было отметить подоккупационность в сериях паспортов, арестовывать же всех было хозяйственно неразумно – обезлюживать столь обширные пространства. Достаточно было для повышения общего сознания посадить лишь некий процент – виноватых, полувиноватых, четвертьвиноватых и тех, кто на одном плетне сушил с ними онучи.
А ведь даже один только процент от одного только миллиона составляет дюжину полнокровных лагпунктов.
И не следует думать, что честное участие в подпольной противонемецкой организации наверняка избавляло от участи попасть в этот поток. Не единый был случай, как с тем киевским комсомольцем, которого подпольная организация послала для своего осведомления служить в киевскую полицию. Парень честно обо всём осведомлял комсомольцев, но с приходом наших получил свою десятку, ибо не мог же он, служа в полиции, не набраться враждебного духа и вовсе не выполнять враждебных поручений.
Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе, хотя бы о^'овским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней, а рассказы эти, и всегда нам неприятные (кроме, разумеется, путевых заметок благоразумных писателей), были зело неприятны в годы послевоенные, разорённые, неустроенные. Рассказывать же, что в Европе вовсе плохо, совсем жить нельзя, – не каждый умел.
По этой–то причине, а вовсе не за простую сдачу в плен и судили большинство наших военнопленных – особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря.
Это не сразу так ясно обозначилось, и ещё в 1943 были какие–то отбившиеся ни на кого не похожие потоки вроде «африканцев», долго так и называвшиеся в воркутинских строёвках. Это были русские военнопленные, взятые американцами из армии Роммеля в Африке ив 1948 отправленные на студебеккерах через Египет–Ирак–Иран на родину. В пустынной бухте Каспийского моря их сразу же расположили за колючей проволокой, содрали с них воинские различия, освободили их от дарёных американских вещей (разумеется, в пользу сотрудников госбезопасности, а не государства) и отправили на Воркуту до особого распоряжения, не дав ещё по неопытности ни срока, ни статьи. И эти «африканцы» жили на Воркуте в межеумочных условиях: их не охраняли, но без пропусков они не могли сделать по Воркуте ни шагу, а пропусков у них не было; им платили зарплату вольнонаёмных, но распоряжались ими как заключёнными. А особое распоряжение так и не шло. О них забыли…
Эта причина наглядно проступает и в том, что неуклонно, как военнопленных, судили и интернированных. Например, в первые дни войны на шведский берег выбросило группу наших матросов. Всю потом войну она вольно жила в Швеции – так обеспеченно и с таким комфортом, как никогда до и никогда впоследствии. Союз отступал, наступал, атаковал, умирал и голодал, а эти мерзавцы наедали себе нейтральные ряжки. После войны Швеция нам их вернула. Измена Родине была несомненная – но как–то не клеилась. Им дали разъехаться и всем клепанули антисоветскую агитацию за прельстительные рассказы о свободе и сытости капиталистической Швеции (группа Каденко).
С этой группой произошёл потом анекдот. В лагере они уже о Швеции помалкивали, опасаясь получить за неё второй срок. Но в Швеции прознали как–то об их судьбе и напечатали клеветнические сообщения в прессе. К тому времени ребята были рассеяны по разным ближним и дальним лагерям. Внезапно по спецнарядам их всех стянули в ленинградские Кресты, месяца два кормили на убой, дали отрасти их причёскам. Затем одели их со скромной элегантностью, отрепетировали, кому что говорить, предупредили, что каждая сволочь, кто пикнет иначе, получит «девять грамм» в затылок, – и вывели на прессконференцию перед приглашёнными иностранными журналистами и теми, кто хорошо знал всю группу по Швеции. Бывшие интернированные держались бодро, рассказывали, где живут, учатся, работают, возмущались буржуазной клеветой, о которой недавно прочли в западной печати (ведь она продаётся у нас в каждом киоске), – и вот списались и съехались в Ленинград (расходы на дорогу никого не смутили). Свежим лоснящимся видом своим они были лучшее опровержение газетной утки. Посрамлённые журналисты поехали писать извинения. Западному воображению было недоступно объяснить происшедшее иначе. А виновников интервью тут же повели в баню, остригли, одели в прежние отрепья и разослали по тем же лагерям. Поскольку они вели себя достойно – вторых сроков не дали никому.
Среди общего потока освобождённых из–под оккупации один за другим прошли быстро и собранно потоки провинившихся наций:
в 1943 —калмыки, чечены, ингуши, балкары, карачаевцы;
в 1944 —крымские татары. Так энергично и быстро они не пронеслись бы на свою вечную ссылку, если бы на помощь Органам не пришли бы регулярные войска и военные грузовики. Воинские части бравым кольцом окружали аулы, и угнездившиеся жить тут на столетия – в 24 часа со стремительностью десанта перебрасывались на станции, грузились в эшелоны – и сразу трогались в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию, на Север. Ровно через сутки земля и недвижимость уже переходили к наследникам.
Как в начале войны немцев, так и сейчас все эти нации слали единственно по признаку крови, без составления анкет, – и члены партии, и герои труда, и герои ещё не закончившейся войны катились туда же.
Само собою, последние годы войны шёл поток немецких военных преступников, отбираемых из системы общих лагерей военнопленных и через суд переводимых в систему ГУЛАГа.
В 1945 году, хотя война с Японией не продолжалась и трёх недель, было забрано множество японских военнопленных для неотложных строительных надобностей в Сибири и в Средней Азии, и та же операция по отбору в ГУЛАГ военных преступников совершена была оттуда. (И не зная подробностей можно быть уверенным, что большая часть этих японцев не могла быть судима законно. Это был акт мести и способ удержать рабочую силу на долыпий срок.)
С конца 1944, когда наша армия вторглась на Балканы, и особенно в 1945, когда она достигла Центральной Европы, – по каналам ГУЛАГа потёк ещё и поток русских эмигрантов– стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. Дёргали на родину обычно мужчин, а женщин и детей оставляли в эмиграции. (Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или прежде того выразил их в революцию. Тех, кто жил чисто растительной жизнью, – не трогали.) Главные потоки шли из Болгарии, Югославии, Чехословакии, меньше – из Австрии и Германии; в других странах Восточной Европы русские почти не жили.
Отзывно и из Маньчжурии в 1945 полился поток эмигрантов. (Некоторых арестовывали не сразу: целыми семьями приглашали на родину как вольных, а уже здесь разъединяли, слали в ссылку или брали в тюрьму.)
Весь 1945 и 1946 годы продвигался на Архипелаг большой поток истинных наконец противников власти (власовцев, казаков–красновцев, мусульман из национальных частей, созданных при Гитлере) – иногда убеждённых, иногда невольных.
Вместе с ними захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны – гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, благополучно укрывшихся на территории союзников, но в 1946–47 коварно возвращённых союзными властями в советские руки [26]26
Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются, – тайна именно этого предательства отлично, тщательно сохранена британским и американским правительствами – воистину, последняя тайна Второй Мировой войны или из последних. Много встречавшись с этими людьми в тюрьмах и лагерях, я четверть века поверить не мог бы, что общественность Запада ничего не знает об этой грандиозной по своим масштабам выдаче западными правительствами простых людей России на расправу и гибель. Только в 1973 [Sunday Oklahoman, 21 янв.) прорвалась публикация Юлиуса Эпштейна, которому здесь я осмеливаюсь передать благодарность от массы погибших и от немногих живых. Напечатан разрозненный малый документ из скрываемого доныне многотомного дела о насильственной репатриации в Советский Союз. «Прожив два года в руках британских властей, в ложном чувстве безопасности, русские были застигнуты врасплох, они даже не поняли, что их репатриируют… Это были, главным образом, простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков». Английские же власти поступили с ними «как с военными преступниками: помимо их воли передали в руки тех, от кого нельзя ждать правого суда». Они и были все отправлены на Архипелаг уничтожаться. В какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так выдать, не боясь в своих странах общественного гнева? [Примеч. 1973г.)
[Закрыть].
Какое–то число поляков, членов Армии Краевой, сторонников Миколайчика, прошло в 1945 через наши тюрьмы в ГУЛАГ.
Сколько–то было и румын и венгров.
С конца войны и потом непрерывно много лет шёл обильный поток украинских националистов («бандеровцев»).
На фоне этого огромного послевоенного перемещения миллионов мало кто замечал такие маленькие потоки, как:
– «девушки за иностранцев» (1946–47)—то есть давшие иностранцам ухаживать за собой. Клеймили этих девушек статьями 7–35 (социально–опасные);
– испанские дети – те самые, которые вывезены были во время их гражданской войны, но стали взрослыми после Второй Мировой. Воспитанные в наших интернатах, они одинаково очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Им давали тоже 7–35, социально–опасные, а особенно настойчивым – 58–6, шпионаж в пользу… Америки.
(Для справедливости не забудем и короткий, в 1947, антипоток… священников. Да, вот чудо! – первый раз за 30 лет освобождали священников! Их, собственно, не искали по лагерям, а кто из вольных помнил и мог назвать имена и точные места – тех, названных, этапировали на свободу для укрепления восставляемой Церкви.)
* * *
Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, унавозившие ГУЛАГ, – а только те из них, которые имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической, так можно заново проследить с 1918 по 1953 потоки бытовиков и собственно уголовников. И это описание тоже заняло бы немало места. Здесь получили бы освещение многие знаменитые Указы, теперь уже частью и забытые (хотя никогда законом не отменённые), поставлявшие для ненасытного Архипелага изобильный человеческий материал. То указ о производственных прогулах. То указ о выпуске некачественной продукции. То указ о самогоноварении (разгул его – в 1922 году, но и все 20–е годы брали густо). То указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней. То указ о военном положении на железных дорогах (апрель 1943, отнюдь не начало войны, а поворот её к лучшему).
Указы эти появлялись всегда как важнейшее во всём законодательстве и без всякого разумения или даже памяти о законодательстве предыдущем. Согласовывать эти ветви предлагалось учёным юристам, но они занимались этим не столь усердно и не весьма успешно.
Эта пульсация указов привела к странной картине уголовных и бытовых преступлений в стране. Можно было заметить, что ни воровство, ни убийства, ни самогоноварение, ни изнасилования не совершались в стране то там, то сям, где случатся, вследствие человеческой слабости, похоти и разгула страстей, – нет! В преступлениях по всей стране замечалось удивительное единодушие и единообразие. То вся страна кишела только насильниками, то —только убийцами, то – самогонщиками, чутко отзываясь на последний правительственный Указ. Каждое преступление как бы само подставляло бока Указу, чтобы поскорее исчезнуть! Именно то преступление и всплескивало тотчас же повсюду, которое только что было предусмотрено и устрожено мудрым законодательством.
Указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и подростков, которые больше всего–то и работали в военные годы на железных дорогах, а не пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего и опаздывали и нарушали. Указ о невыработке обязательной нормы трудодней очень упростил процедуру высылки нерадивых колхозников, которые не хотели довольствоваться выставленными им палочками. Если раньше для этого требовался суд и применение
«экономической контрреволюции», то теперь достаточно было колхозного постановления, подтверждённого райисполкомом; да и самим колхозникам не могло не полегчать от сознания, что хотя они и ссылались, но не зачислялись во враги народа. (Обязательная норма трудодней разная была для разных областей, самая льготная у кавказцев – 75 трудодней, но и их немало потекло на восемь лет в Красноярский край.)
Однако мы в этой главе не входим в пространное и плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем только, достигнув 1947 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских Указов. Уже пришлось нам при 1932 годе упомянуть знаменитый Закон «от седьмого–восьмо–го», или «семь восьмых», закон, по которому обильно сажали– за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток (в протоколе писалось «двести метров пошивочного материала», всё–таки стыдно было писать «катушка ниток») – всё на десять лет.
Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та десятка, которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас, после всемирно–исторической победы, выглядела слабовато. И опять, пренебрегая Кодексом или забыв, что есть уже многочисленные статьи и указы о хищениях и воровстве, – 4 июня 1947 года огласили перекрывающий их все Указ, который тут же был окрещен безунывными заключёнными как Указ «четыре шестых».
Превосходство нового Указа, во–первых, в его свежести: уже от самого появления Указа должны были вспыхнуть эти преступления и обеспечиться обильный поток новоосуждён–ных. Но ещё большее превосходство было в сроках: если за колосками отправлялась для храбрости не одна девка, а три («организованная шайка»), за огурцами или яблоками – несколько двенадцатилетних пацанов, – они получали до двадцати лет лагерей; на заводе верхний срок был отодвинут до двадцати пяти (самый этот срок, четвертная, теперь заменял смертную казнь, за несколько дней перед тем гуманно отменённую [27]27
А сама казнь лишь на время закрывала лицо паранджой, чтобы сбросить её с оскалом через два с половиной года, в январе 1950.
[Закрыть]). Наконец, выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое недоносительство есть государственное преступление, – теперь и за бытовое недоносительство о хищении государственного или колхозного имущества вмазывалось три года лагерей или семь лет ссылки.
В ближайшие годы после Указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов госбезопасности, и без того перенапряжённых в послевоенные годы.
Эта новая линия Сталина – что теперь–то, после победы над фашизмом, надо сажать как никогда энергично, много и надолго, – тотчас же, конечно, отозвалась и на политических.
1948^19 годы, во всей общественной жизни проявившиеся усилением преследований и слежки, ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосудия трагической комедией повторников.
Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недо–битыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые десять лет и вот теперь, в 1947^18, измученными и надорванными, ступить робкою ногою на землю воли—в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая–то дикая фантазия (или устойчивая злобность, или ненасыщенная месть) толкнула генералиссимуса–Победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново, без новой вины! Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину её же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью .
И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили брать. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они. Уж они всё знали заранее – весь крестный путь. Они не спрашивали «за что?» и не говорили родным «вернусь», они надевали одёжку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. (А он и был всего–то один: «Это вы сидели?» – «Я». —«Получите ещё десять»)
Тут хватился Единодержец, что это мало – сажать уцелевших с 37–го года! И детей тех своих врагов заклятых – тоже ведь надо сажать! Ведь растут, ещё мстить задумают. (А может поужинал крепко да сон дурной приснился с этими детьми.) Перебрали, прикинули – сажали детей, но мало. Командармских детей сажали, а троцкистских – не сплошь! И потянулся поток «детей–мстителей». (Попадали в таких детей 17–летняя Лена Косарева и 35–летняя Елена Раковская.)
После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 году снова надежно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года.
И потянулись в 1948, 49–м и 50–м:
–мнимые шпионы (десять лет назад германо–японские, сейчас англо–американские);
– верующие (на этот раз больше сектанты);
– недобитые генетики и селекционеры, вавиловцы и менделисты;
–просто интеллигентные думающие люди (а особо строго– студенты), недостаточно отпугнутые от Запада. Модно было давать им:
ВАТ—восхваление американской техники,
ВАД – восхваление американской демократии,
ПЗ – преклонение перед Западом.
Сходные были с 37–м потоки, да не сходные были сроки: теперь стандартом стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь уже десятка ходила в сроках детских.
Ещё немалый поток пролился от нового Указа о разгласителях государственных тайн (а тайнами считались: районный урожай, любая эпидемическая статистика; чем занимается любой цех и фабричёнка; упоминание гражданского аэродрома; маршруты городского транспорта; фамилия заключённого, сидящего в лагере). По этому Указу давали 15 лет.
Не забыты были и потоки национальные. Всё время лился взятый сгоряча, из лесов сражений, поток бандеровцев. Одновременно получали десятки и пятёрки лагерей и ссылок все западно–украинские сельские жители, как–либо к партизанам прикасавшиеся: кто пустил их переночевать, кто накормил их раз, кто не донёс о них. С 50–го примерно года заряжен был и поток бандеровских жён – им лепили по десятке за недоносительство, чтобы скорей доконать мужей.
Уже кончилось к тому времени сопротивление в Литве и Эстонии. Но в 1949 оттуда хлынули мощные потоки новой социальной профилактики и обеспечения коллективизации. Целыми эшелонами из трёх прибалтийских республик везли в сибирскую ссылку и городских жителей и крестьян. (Исторический ритм искажался в этих республиках. В краткие стиснутые сроки они должны были теперь повторить путь всей страны.)
В 48–м году прошёл в ссылку ещё один национальный поток – приазовских, кубанских и сухумских греков. Ничем не запятнали они себя перед Отцом в годы войны, но теперь он мстил им за неудачу в Греции, что ли? Кажется, этот поток тоже был плодом его личного безумия. Большинство греков попало в среднеазиатскую ссылку, недовольные – в по–литизоляторы.
А около 1950 в ту же месть за проигранную войну или для равновесия с уже сосланными – потекли на Архипелаг и сами повстанцы из армии Маркоса, переданные нам Болгарией.
В последние годы жизни Сталина определённо стал намечаться и поток евреев (с 1950 они уже понемногу тянулись как космополиты]. Для того было затеяно и «дело врачей». Кажется, он собирался устроить большое еврейское избиение.
Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог – похоже, что руками человеческими, – выйти из рёбер вон.
Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность и неослабевающее упорство.
Что пустых тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно переполненные.
Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хайдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, – а воронки непрерывно шныряли по улицам, а ге–бисты стучали и звонили в двери.
И, я думаю, изложением этим доказано, что Органы никогда не ели хлеба зря.