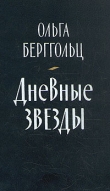Текст книги "Архипелаг ГУЛаг(в одном томе)"
Автор книги: Александр Солженицын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 117 страниц) [доступный отрывок для чтения: 42 страниц]
Расширить применение расстрела! – чего тут не понять? (Много ли высылали за границу?) Террор – это средство убеждения[110]110
Там же. Т. 39, с. 404, 405.
[Закрыть], кажется, ясно!
А Курский всё же недопонял. Он вот чего, наверно, недотягивал: как эту формулировку составить, как эту самую связь запетлять. И на другой день он приезжал к председателю СНК за разъяснениями. Эта беседа нам неизвестна. Но вдогонку, 17 мая, Ленин послал из Горок второе письмо:
«Т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса… Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка: открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически–узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.
Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.
С коммунистическим приветом
Ленин»[111]111
Там же. Т. 45, с. 190.
[Закрыть].
Комментировать этот важный документ мы не берёмся. Над ним уместны тишина и размышление.
Документ тем особенно важен, что он – из последних земных распоряжений ещё не охваченного болезнью Ленина, важная часть его политического завещания. Через девять дней после этого письма его постигнет первый удар, от которого лишь неполно и ненадолго он оправится в осенние месяцы 1922 года. Быть может, и написаны оба письма Курскому в том же светлом беломраморном будуаре–кабинетике, угловом 2–го этажа, где уже стояло и ждало будущее смертное ложе вождя.
А дальше прикладывался тот самый черняк, два варианта дополнительного параграфа, из которого через несколько лет вырастет и 58–4, и вся наша матушка 58–я Статья. Читаешь и восхищаешься: вот оно что значит формулировать как можно шире вот оно что значит – применения более широкого. Читаешь и вспоминаешь, как широко хватала родимая…
«…Пропаганда или агитация, или участие в организации, или содействие (объективно содействующие или способные содействовать) …организациям или лицам, деятельность которых имеет характер…»
Да дайте мне сюда Блаженного Августина, я его сейчас же в эту статью вгоню!
Всё было, как надо, внесено, перепечатано, расстрел расширен – и сессия ВЦИК в 20–х числах мая приняла и постановила ввести Уголовный кодекс в действие с 1 июня 1922 года.
И теперь на законнейшем основании начался двухмесячный
Процесс эсеров (8 июня – 7 августа 1922). Верховный Трибунал. Обычный председатель товарищ Карклин (хорошая фамилия для судьи) был для этого ответственного процесса заменен оборотистым Георгием Пятаковым.
Если бы мы с читателем не были уже достаточно подкованы, что главное во всяком судебном процессе не так называемая вина, а – целесообразность, может быть, мы бы не сразу распахнувшеюся душой приняли бы этот процесс. Но целесообразность срабатывает без осечки: в отличие от меньшевиков эсеры были сочтены ещё опасными, ещё нерассеянными, недобитыми – и для крепости новосозданной диктатуры (пролетариата) целесообразно было их добить.
А не зная этого принципа, можно ошибочно воспринять весь процесс как партийную месть.
Над обвинениями, высказанными в этом суде, невольно задумаешься, перенося их на долгую, протяжную и всё тянущуюся историю государств. За исключением считанных парламентских демократий в считанные десятилетия вся история государств есть история переворотов и захватов власти. И тот, кто успевает сделать переворот проворней и прочней, от этой самой минуты осеняется светлыми ризами Юстиции, и каждый прошлый и будущий шаг его – законен и отдан одам, а каждый прошлый и будущий шаг его неудачливых врагов – преступен, подлежит суду и законной казни.
Всего неделю назад принят Уголовный кодекс – но вот уже пятилетнюю прожитую послереволюционную историю трамбуют в него. И двадцать, и десять, и пять лет назад эсеры были – соседняя по свержению царизма революционная партия, взявшая на себя (благодаря особенностям своей тактики террора) главную тяжесть каторги, почти не доставшейся большевикам.
А теперь вот первое обвинение против них: эсеры – инициаторы Гражданской войны! Да, это – они её начали! Они обвиняются, что в дни октябрьского переворота вооружённо воспротивились ему. Когда Временное правительство, ими поддерживаемое и отчасти ими составленное, было законно сметено пулемётным огнём матросов, – эсеры совершенно незаконно пытались его отстоять. (Другое дело – очень вяло пытались, тут же и колебались, тут же и отрекались. Но вина их от этого не меньше.) И даже на выстрелы отвечали выстрелами, и даже подняли юнкеров, состоявших у того свергаемого правительства на военной службе.
Разбитые оружейно, они не покаялись и политически. Они не стали на колени перед Совнаркомом, объявившим себя правительством. Они продолжали упорствовать, что единственно законным было предыдущее правительство. Они не признали тут же краха своей двадцатилетней политической линии (а крах–то конечно был, хотя выяснился не враз), не попросили их помиловать, распустить, перестать считать партией. (На тех же основаниях незаконны и все местные и окраинные правительства – Архангельское, Самарское, Уфимское или Омское, Украинское, Донское, Кубанское, Уральское или Закавказские, поскольку они объявляли себя правительствами уже после того, как объявил себя Совнарком.)
А вот и второе обвинение: они углубили пропасть Гражданской войны тем, что 5 и 6 января 1918 выступили как демонстранты и тем самым бунтовщики против законной власти Рабоче–Крестьянского правительства: они поддерживали своё незаконное (избранное всеобщим свободным равным тайным и прямым голосованием) Учредительное Собрание против матросов и красногвардейцев, законно разгоняющих и то Собрание, и тех демонстрантов. Потому–то и началась Гражданская война, что не все жители единовременно и послушно подчинились законным декретам Совнаркома.
Обвинение третье: они не признали Брестского мира – того законного и спасительного Брестского мира, который не отрубал у России головы, а только часть туловища. Тем самым, устанавливает обвинительное заключение, налицо «все признаки государственной измены и преступных действий, направленных к вовлечению страны в войну».
Государственная измена! – она тоже перевертушка, её как поставишь…
Отсюда же вытекает и тяжкое четвёртое обвинение: летом и осенью 1918 года, когда кайзеровская Германия еле достаивала свои последние месяцы и недели против союзников, а советское правительство, верное Брестскому договору, поддерживало Германию в этой тяжёлой борьбе поездными составами продовольствия и ежемесячными золотыми уплатами, – эсеры предательски готовились (даже не готовились, а больше обсуждали: а что, если бы…) взорвать путь перед одним таким поездом и оставить золото на родине – то есть они «готовились к преступному разрушению нашего народного достояния – железных дорог». (Тогда ещё не стыдились и не скрывали, что – да, вывозилось русское золото в будущую империю Гитлера, и не навенуло Крыленке с его двумя факультетами, историческим и юридическим, и из помощников никто не подшепнул, что если рельсы стальные – народное достояние, то, может быть, и золотые слитки?..)
Из четвёртого обвинения неумолимо вытягивается пятое: технические средства для такого взрыва эсеры намеревались приобрести на деньги, полученные у союзных представителей (чтобы не отдавать золота Вильгельму, они хотели взять деньги у Антанты), – а это уже крайний предел предательства! (На всякий случай бормотнул Крыленко, что и со штабом Людендорфа эсеры были связаны, но не в тот огород перелетал камень, и покинули.)
Отсюда уже совсем недалеко до обвинения шестого: эсеры в 1918 году были шпионами Антанты! Вчера революционеры– сегодня шпионы! – тогда это, наверно, звучало взрывно. С тех–то пор за много процессов набило оскомину до мордоворота.
Ну, и седьмое, десятое – это сотрудничество с Савинковым, или Филоненко, или кадетами, или «Союзом Возрождения», и даже белоподкладочниками или даже белогвардейцами.
Вот эта цепь обвинений хорошо протянута прокурором. (Вернули ему эту кличку, к процессу.) Кабинетным ли высиживанием или внезапным озарением за кафедрою он находит здесь ту сердечно–сострадательную, обвинительно–дружескую ноту, на которой в последующих процессах будет вытягивать всё увереннее и гуще, и которая в 37–м году даст ошеломляющий успех. Нота эта – найти единство между судящими и судимыми, – и против всего остального мира. Мелодия эта играется на самой любимой струне подсудимого. С обвинительной кафедры эсерам говорят: ведь мы же с вами – революционеры! (Вы и мы – это мы!) И как же вы могли так пасть, чтоб объединиться с кадетами? (да наверно сердце ваше разрывается!) с офицерами? Учить белоподкладочников вашей разработанной блестящей технике конспирации?! (Это – особый характер октябрьского переворота: объявить войну всем партиям сразу и тут же запретить им объединяться между собой: «тебя не гребут – не подмахивай».)
У иных подсудимых и как не разняться сердцу: ну как они могли так низко пасть? Ведь это сочувствие прокурора в светлом зале – оно очень пробирает узника, привезенного из камеры.
И ещё такую логическую тропочку находит Крыленко (очень она пригодится Вышинскому против Каменева и Бухарина): входя с буржуазией в союзы, вы принимали от неё денежную помощь. Сперва вы брали на дело, ни в коем случае не для партийных целей – а где грань? Кто это разделит? Ведь дело – тоже партийная цель? Итак, вы докатились: вас, партию социалистов–революционеров, содержит буржуазия?! Да где же ваша революционная гордость?
Набралась обвинений мера полная и с присыпочкой – и уж мог бы Трибунал уходить на совещание, отклёпывать каждому заслуженную казнь, – да вот ведь неурядица:
– всё, в чём здесь обвинена партия эсеров, – относится к 1917 и 1918 годам;
– в феврале 1919 совет партии эсеров постановил прекратить борьбу против болыпевицкой власти (изнемогши ли от борьбы или проникнувшись социалистической совестью). И 27 февраля 1919 болыпевицкое правительство объявило эсерам амнистию за всё прошлое. Партия была легализована, вышла из подполья – а через 2 недели начались массовые аресты и всю головку тоже взяли (вот это – по–нашему!);
– с тех пор они не боролись на воле, и тем более не боролись, сидя в тюрьме (ЦК сидел в Бутырках и почему–то не бежал, как обычно при царе), – так они после амнистии ничего не совершили до нынешнего 1922 года.
Как же выйти из положения?
Мало того, что они не ведут борьбы, – они признали власть Советов! (То есть отреклись от своего бывшего Временного, да и от Учредительного тоже.) И только просят произвести перевыборы этих советов со свободной агитацией партий. (И даже тут на процессе подсудимый Гендельман, член ЦК: «Дайте нам возможность пользоваться всей гаммой так называемых гражданских свобод – и мы не будем нарушать законов». Дайте им, да ещё «всей гаммой»!)
Слышите? Вот оно где прорвалось враждебное буржуазное звериное рыло! Да нешто можно? Да ведь серьёзный момент. Да ведь окружены врагами. (И через двадцать, и через пятьдесят, и через сто лет так будет.) А вам – свободную агитацию партий, сукины дети?!
Люди политически трезвые, говорит Крыленко, могли в ответ только рассмеяться, только плечами пожать. Справедливо было решено: «немедленно всеми мерами государственной репрессии пресечь этим группам возможность агитировать против власти» (стр. 183). Вот и весь ЦК эсеров (кого ухватили) посадили в тюрьму!
Но —в чём их теперь обвинить? «Этот период не является в такой мере обследованным судебным следствием», – сетует наш прокурор.
Впрочем, одно–то обвинение было верное: в том же феврале 1919 эсеры вынесли резолюцию (но не проводили в жизнь – однако по новому Уголовному кодексу это всё равно): тайно агитировать в Красной армии, чтобы красноармейцы отказывались участвовать в карательных экспедициях против крестьян.
Это было низкое коварное предательство революции! – отговаривать от карательных экспедиций.
Ещё можно было обвинить их во всём том, что говорила, писала и делала (больше говорила и писала) так называемая «Заграничная делегация ЦК» эсеров – те главные эсеры, которые унесли ноги в Европу.
Но этого всего было маловато. И вот что было удумано: «многие из сидящих здесь подсудимых не подлежали бы обвинению в данном процессе, если бы не обвинения их в организации террористических актов»!.. Когда, мол, издавалась амнистия 1919 года, «никому из деятелей советской юстиции не приходило в голову», что эсеры организовали ещё и террор против деятелей советского государства! (Ну кому, в самом деле, в голову могло прийти, чтобы: эсеры – и вдруг террор? Да приди в голову—пришлось бы заодно и амнистировать. Это просто счастье, что тогда – в голову не приходило. Лишь когда понадобилось—теперь пришло.) К это обвинение не амнистировано (ведь амнистирована только борьба)– и вот Крыленко предъявляет его!
Прежде всего: что сказали вожди эсеров (а чего эти говоруны не высказали за жизнь!..) ещё в первые дни после октябрьского переворота? Нынешний лидер подсудимых, да и лидер партии, Абрам Гоц сказал тогда: «Если Смольные самодержцы посягнут и на Учредительное Собрание… партия с–р вспомнит о своей старой испытанной тактике».
От неукротимых эсеров – естественно этого и ждать. И правда, трудно поверить, чтоб они отказались от террора.
«В этой области исследования», – жалуется Крыленко, – из–за конспирации «свидетельских показаний… будет мало… Этим до чрезвычайности затруднена моя задача… В этой области приходится в некоторых моментах бродить в потёмках» (стр. 236, – а язычок–то!).
Задача Крыленки тем затруднена, что террор против Советской власти трижды обсуждался на ЦК эсеров в 1918 и был трижды отвергнут (несмотря и на разгон Учредительного). И теперь, спустя годы, надо доказать, что эсеры всё же вели террор.
Тогда они постановили: не раньше чем большевики перейдут к казням социалистов. А в 1920: если большевики посягнут на жизнь заложников–эсеров, то партия возьмётся за оружие. (А других заложников пусть хоть и добивают…)
Так вот: почему с оговорками? Почему не абсолютно отказались? «Почему не было высказываний абсолютно отрицательного характера?»
Что партия в общем не проводила террора, это ясно даже из обвинительной речи Крыленки. Но натягиваются такие факты: в голове одного подсудимого был проект взорвать паровоз совнаркомовского поезда при переезде в Москву– значит, ЦК виноват в терроре. А исполнительница Иванова с одной пироксилиновой шашкой дежурила одну ночь близ станции – значит, покушение на поезд Троцкого и, значит, ЦК виноват в терроре. Или: член ЦК Донской предупредил Ф. Каплан, что она будет исключена из партии, если выстрелит в Ленина. Так – мало! Почему не – категорически запретили? (Или: почему не донесли на неё в ЧК?) Всё же Каплан прилипает: была эсеркой.
Только то и нащипал Крыленко с мёртвого петуха, что эсеры не приняли мер по прекращению индивидуальных террористических актов своих безработных томящихся боевиков. (Да и те боевики мало что сделали. Семёнов направил руку Сергеева, убившего Володарского, – но ЦК остался чистеньким в стороне, даже публично отрёкся. Да потом этот же Семёнов и его подруга Коноплёва с подозрительной готовностью обогатили своими добровольными показаниями и ГПУ, и теперь Трибунал, и этих–то самых страшных боевиков держат на советском суде бесконвойно, между заседаниями они ходят спать домой.)
Об одном свидетеле Крыленко разъясняет так: «если бы человек хотел вообще выдумать, то вряд ли этот человек выдумал бы так, чтобы случайно попасть как раз в точку» (стр. 251). (Очень сильно! Это можно сказать обо всяком подделанном показании.) О Коноплёвой наоборот: достоверность её показания именно в том, что она не всё показывает то, что необходимо обвинению. (Но достаточно для расстрела подсудимых.) «Если мы поставим вопрос, что Коноплёва выдумывает всё это… то ясно: выдумывать так выдумывать» (он знает!) – а она вишь не до конца. А есть и так: «Могла ли произойти эта встреча? Такая возможность не исключена». Не исключена? – значит, была. Катай–валяй!
Потом – «подрывная группа». Долго о ней толкуют, вдруг: «распущена за бездеятельностью». Так что и уши забиваете? Было несколько денежных экспроприации из советских учреждений (оборачиваться–то не на что эсерам, квартиры снимать, из города в город ездить). Но раньше это были изящные благородные эксы, как выражались все революционеры. А теперь, перед советским судом? – «грабёж и укрывательство краденого».
В материалах процесса освещается мутным жёлтым немигающим фонарём закона неуверенная, заколебленная, за–петлившаяся послереволюционная история этой пафосно–го–ворливой, а по сути, растерявшейся, беспомощной и даже бездеятельной партии, не устоявшей против большевиков. И каждое её решение или нерешение, и каждое её метание, порыв или отступление – теперь обращаются и вменяются ей только в вину, в вину, в вину.
И если в сентябре 1921, за 10 месяцев до процесса, уже сидя в Бутырках, арестованный ЦК писал на волю новоизбранному ЦК, что не на всякое свержение болыпе–вицкой диктатуры он согласен, а только – через сплочение трудящихся масс и агитационную работу (то есть, и сидя в тюрьме, не согласен он освободиться ни террором, ни заговором, ни вооружённым восстанием!), так и это выворачивается им в первейшую вину: ага, значит, на свержение согласны.
Ну, а если всё–таки в свержении не виновны, в терроре почти не виновны, экспроприации почти нет, за всё остальное давно прощены? Наш любимый прокурор вытягивает заветный запасец: «В крайнем случае недонесение есть состав преступления, который по отношению ко всем без исключения подсудимым имеет место и должен считаться установленным» (стр. 305).
Партия эсеров уже в том виновна, что не донесла на себя Вот это без промаха! Это – открытие юридической мысли в новом Кодексе, это – мощёная дорога, по которой покатят и покатят в Сибирь благодарных потомков.
Да и просто, в сердцах выпаливает Крыленко: «ожесточённые вечные противники» – вот кто такие подсудимые! А тогда и без процесса ясно, что с ними надо делать.
Кодекс так ещё нов, что даже главные контрреволюционные статьи Крыленко не успел запомнить по номерам—но как он сечёт этими номерами! как глубокомысленно приводит и истолковывает их! – будто десятилетиями только на тех статьях и качается нож гильотины. И вот что особенно ново и важно: различения методов и средств, которое проводил старый царский кодекс, у нас нет! Ни на квалификацию обвинения, ни на карательную санкцию они не влияют! Для нас намерение или действие – всё равно! Вот была вынесена резолюция – за неё и судим. А там «проводилась она или не проводилась – это никакого существенного значения не имеет» (стр. 185). Жене ли в постели шептал, что хорошо бы свергнуть советскую власть, или агитировал на выборах, или бомбы бросал – всё едино! Наказание – одинаково!!!
Как у провидчивого художника из нескольких резких угольных черт вдруг восстаёт желанный портрет—так и нам всё больше выступает в набросках 1922 года – вся панорама 37–го, 45–го, 49–го.
Это – первый опыт процесса, публичного даже на виду у Европы, и первый опыт «негодования масс». И негодование масс особенно удалось.
А вот как дело было. Два социалистических Интернационала– 2–й и 2Ѵ2–й (Венское Объединение), если не восторженно, то вполне спокойно наблюдали четыре года, как большевики во славу социализма режут, жгут, топят, стреляют и давят свою страну, это всё понималось как грандиозный социальный эксперимент. Но весной 1922 объявила Москва, что 47 эсеров предаются суду Верховного Трибунала—и ведущие социалисты Европы забеспокоились и встревожились.
В начале апреля 1922 в Берлине собралось – для установления «единого фронта» против буржуазии – совещание трёх Интернационалов (от Коминтерна – Бухарин, Радек), и социалисты потребовали от большевиков отказаться от этого суда. «Единый фронт» очень был нужен в интересах мировой революции, и коминтерновская делегация самовольно дала обязательство: что процесс будет гласный; что представители всех интернационалов могут присутствовать, вести стенографические отчёты; что будут допущены защитники, желаемые подсудимыми; и, самое главное, опережая компетентность суда (для коммунистов дело плёвое, но социалисты тоже согласились): на этом процессе не будет вынесено смертных приговоров.
Ведущие социалисты радовались: они просто решили ехать сами защитниками подсудимых. А Ленин (он доживал свои последние недели перед первым параличом, но не знал того) сурово отозвался в «Правде»: «Мы заплатили слишком много». Как же можно было обещать, что не будет смертных приговоров, и разрешить допуск социал–предателей на наш суд? По последующему мы увидим, что и Троцкий с ним был вполне согласен, да и Бухарин вскоре раскаялся. Газета германских коммунистов «Роте Фане» отозвалась, что большевики были бы идиотами, если бы сочли необходимым выполнять принятые обязательства: дело в том, что «единый фронт» в Германии провалился, так что зря и обещания все были даны. Но коммунисты уже тогда начали понимать безграничную силу своих исторических приёмов. Ближе к процессу, в мае, «Правда» написала: «Мы в точности выполним обязательство. Но вне судебного процесса эти господа должны быть поставлены в такие условия, которые обеспечили бы нашу страну от поджигательской тактики этих негодяев». И под такой аккомпанемент в конце мая знаменитые социалисты Вандервельде, Розенфельд и Теодор Либкнехт (брат убитого Карла) выехали в Москву.
Уже начиная от пограничной станции и на всех остановках вагон социалистов штурмовали гневные демонстрации трудящихся, требуя отчёта в их контрреволюционных намерениях, от Вандервельде же – почему он подписал грабительский Версальский договор? А то – вышибали в вагоне стёкла и обещали самим морду набить. Но наиболее пышно их встретили на Виндавском вокзале в Москве: площадь была заполнена демонстрациями со знаменами, оркестрами, пением. На огромных плакатах: «Господин королевский министр Вандервельде! Когда вы предстанете перед судом Революционного Трибунала?» «Каин, Каин, где брат твой Карл?» При выходе иностранцев – кричали, свистели, мяукали, угрожали, а хор пел:
Едет, едет Вандервельде, Едет к нам всемирный хам. Конечно, рады мы гостям, Однако жаль, что нам, друзья, Его повесить здесь нельзя.
(И тут случилась неловкость: Розенфельд разглядел в толпе самого Бухарина, весело свистевшего, пальцы в рот.) В последующие дни по Москве на разукрашенных грузовиках разъезжали балаганы Петрушек, на эстраде близ памятника Пушкину шёл постоянный спектакль с изображением предательства эсеров и их защитников. А Троцкий и другие ораторы разъезжали по заводам и в зажигательных речах требовали смертной казни эсерам, после чего проводили голосование партийных и беспартийных рабочих. (Уже в то время знали много возможностей: несогласных уволить с завода при безработице, лишить рабочего распределителя – это уж не говоря о ЧК.) Голосовали. Затем пустили по заводам петиции с требованием смертной казни, газеты заполнялись этими петициями и цифрами подписей. (Правда, несогласные ещё были, даже выступали – и кое–кого приходилось арестовывать.)
8 июня начался суд. Судили 32 человека, из них 22 подсудимых из Бутырок и 10 раскаявшихся, уже бесконвойных, которых защищал сам Бухарин и несколько коминтерновцев. (Веселятся в одной и той же трибунальской комедии и Бухарин и Пятаков, не чуя насмешки запасливой судьбы. Но оставляет судьба и время подумать – ещё по 15 лет жизни каждому, да и Крыленке.) Пятаков держался резко, мешал подсудимым высказываться. Обвинение поддерживали Луначарский, Покровский, Клара Цеткин. (Обвинительный акт подписала и жена Крыленки, которая вела следствие, – дружные семейные усилия.)
В зале было немало– 1200 человек, но из них только 22 родственника 22–х подсудимых, а остальные все – коммунисты, переодетые чекисты, подобранная публика. Часто из публики прерывали криками и подсудимых и защитников. Переводчики искажали для защитников смысл процесса, для процесса – слова защитников, ходатайства их Трибунал отвергал с издёвкой, свидетели защиты не были допущены, стенограммы велись так, что нельзя было узнать собственных речей.
На первом же заседании Пятаков заявил, что суд заранее отказывается от беспристрастного рассмотрения дела и намерен руководствоваться исключительно соображениями об интересах советской власти.
Через неделю иностранные защитники имели бестактность подать суду жалобу, что как будто нарушается берлинское соглашение, – на что Трибунал гордо ответил, что он – суд и не может быть связан никаким соглашением.
Защитники–социалисты окончательно упали духом, их присутствие на этом суде только создавало иллюзию нормального судопроизводства, они отказались от защиты и только хотели теперь уехать к себе в Европу – но их не выпускали. Пришлось знатным гостям объявить голодовку. – лишь после этого им разрешили выехать, 19 июня. И жаль, потому что они лишились самого впечатляющего зрелища – 20 июня, в годовщину убийства Володарского.
Собрали заводские колонны (на каких заводах запирали ворота, чтобы прежде не разбежались, на каких отбирали контрольные карточки, где, напротив, кормили обедом), на знаменах и плакатах – «смерть подсудимым», воинские колонны само собою. И на Красной площади начался митинг. Выступал Пятаков, обещая суровое наказание, Крыленко, Каменев, Бухарин, Радек, весь цвет коммунистических ораторов. Затем манифестанты двинулись к зданию суда, а возвратившийся Пятаков велел подвести подсудимых к открытым окнам, под которыми бушевала толпа. Они стояли под градом оскорблений и издевательств, в Гоца угодила доска «смерть социалистам–революционерам». Всё это вместе заняло пять послерабочих часов, уже смеркалось (полубелая ночь в Москве), – и Пятаков объявил в зале, что делегация митинга просит впустить её. Крыленко дал разъяснение, что хотя законами это не предусмотрено, но по духу Советской власти вполне можно. И делегация ввалилась в зал, и здесь два часа произносила ругательные грозные речи, требовала смертной казни, а судьи слушали, жали руки, благодарили и обещали беспощадность. Накал был такой, что подсудимые и их родственники ожидали прямо тут и линчевания. (Гоц, внук богатого чаеторговца, тоже сочувственника революции, такой успешливый террорист при царе, участник покушений и убийств – Дурново, Мина, Римана, Акимова, Шувалова, Рачковского, – вот уж, за всю свою боевую карьеру так не попадал!) Но кампания народного гнева тут и оборвалась, хотя суд продолжался еще полтора месяца. Через день и советские защитники с суда ушли (ждал и их арест и высылка).
Тут – узнаётся много знакомых будущих черт, но поведение подсудимых ещё далеко не сломлено, и ещё не понуждены они говорить против самих себя. Их ещё поддерживает и традиционное обманное представление левых партий, что они – защитники интересов трудящихся. После утерянных лет примирения и сдачи к ним возвратилась поздняя стойкость. Подсудимый Берг обвиняет большевиков в расстреле демонстрантов, защищавших Учредительное Собрание; подсудимый Либеров говорит: «я признаю себя виновным в том, что в 1918 году я недостаточно работал для свержения власти большевиков» (стр. 103). И Евгения Ратнер о том же, и опять Берг: «Считаю себя виновным перед рабочей Россией в том, что не смог со всей силой бороться с так называемой рабоче–крестьянской властью, но я надеюсь, что моё время ещё не ушло». (Ушло, голубчик, ушло.) Есть тут и старая страсть к звучанию фразы – но есть же и твёрдость!
Аргументирует прокурор: обвиняемые опасны Советской России, ибо считают благом всё, что делали. «Быть может, некоторые из подсудимых находят своё утешение в том, что когда–нибудь летописец будет о них или об их поведении на суде отзываться с похвалой».
Подсудимый Гендельман зачёл декларацию: «Мы не признаём вашего суда!..» И, сам юрист, он выделился спорами с Крыленкой о подтасовке свидетельских показаний, об «особых методах обращения со свидетелями до процесса» – читай: о явности обработки их в ГПУ. (Это уже всё есть! – немного осталось дожать до идеала.) Оказывается: предварительное следствие велось под наблюдением прокурора (Крыленки же), и при этом сознательно сглаживались отдельные несогласованности в показаниях.
Ну что ж, ну есть шероховатости. Недоработки – есть. Но в конце концов «нам надлежит с совершенной ясностью и хладнокровностью сказать… занимает нас не вопрос о том, как суд истории будет оценивать творимое нами дело» (стр. 325).
А пока, выворачиваясь, Крыленко – должно быть первый и последний раз в советской юриспруденции – вспоминает о дознании, о первичном дознании, ещё до следствия! И вот как это у него ловко выкладывается: то, что было без наблюдения прокурора и вы считали следствием, – то было дознание. А то, что вы считаете переследствием под оком прокурора, когда увязываются концы и заворачиваются болты, – так это и есть следствие! Хаотические «материалы органов дознания, не проверенные следствием, имеют гораздо меньшую судебную доказательную ценность, чем материалы следствия» (стр. 238), когда направляют его умело. Ловок, в ступе не утолчёшь.
По–деловому говоря, обидно Крыленке полгода к этому процессу готовиться, да два месяца на нём гавкаться, да часиков пятнадцать вытягивать свою обвинительную речь, тогда как все эти подсудимые «не раз и не два были в руках чрезвычайных органов в такие моменты, когда эти органы имели чрезвычайные полномочия; но благодаря тем или иным обстоятельствам им удалось уцелеть» (стр. 322), и вот теперь на Крыленке работа – тянуть их на законный расстрел.
Конечно, «приговор должен быть один – расстрел всех до одного»! Но, великодушно оговаривается Крыленко, поскольку дело всё–таки у мира на виду, – сказанное прокурором «не является указанием для суда», которое бы тот был «обязан непосредственно принять к сведению или исполнению» (стр. 319).
И хорош же тот суд, которому это надо объяснять!..
После призыва прокурора к расстрелу – подсудимым предложено было заявить о раскаянии и об отречении от партии. Все отклонили.
А Трибунал в своём приговоре проявил дерзость: он изрёк расстрел действительно не «всем до одного», а только двенадцати человекам. Остальным – тюрьмы, лагеря, да ещё на дополнительную сотню человек выделил дело производством.
И – помните, помните, читатель: на Верховный Трибунал «смотрят все остальные суды Республики, [он] даёт им руководящие указания» (стр. 407), приговор Верхтриба используется «в качестве указующей директивы» (стр. 409). Скольких ещё по провинции закатают – это уж вы смекайте сами.