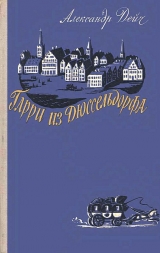
Текст книги "Гарри из Дюссельдорфа"
Автор книги: Александр Дейч
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Старый незнакомец
Невысокий человек с копной черных волос, выбивавшихся из-под шапки, сдвинутой набок, пристально посмотрел на Гейне, прошедшего мимо него по небольшой улочке на парижской окраине. Незнакомец, сделав несколько шагов, остановился, вернулся обратно, чтобы снова встретиться глазами с удивленным поэтом. В странном волнении он подошел к Гейне и спросил прерывающимся голосом:
– Вы… сударь… не узнаете меня? Мне кажется…
Гейне, в свою очередь, щуря близорукие глаза, стал вглядываться в прохожего. Он сказал нерешительно:
– Ваше лицо мне будто знакомо. Но, простите, не могу вспомнить, где я вас видел.
Незнакомец тихо, почти таинственно произнес:
– Церковь Сен-Мери… Статуя святого Себастиана…
Лицо Гейне озарилось воспоминанием. Конечно, конечно, он припомнил все – и похороны генерала Ламарка, и уличные бои, и неожиданную встречу с молодым рабочим, искавшим убежище в церкви Сен-Мери. С тех пор прошло уже десять лет, и Гейне, может быть, не узнал бы его…
– Как же вы меня запомнили? – спросил поэт.
Рабочий улыбнулся:
– Таких людей, как вы, не забывают. Кто бы вы ни были, вы мой спаситель. Позвольте пожать вам руку.
И тонкая, почти женская рука поэта очутилась в крепкой жилистой руке рабочего.
Гейне узнал, что рабочего зовут Анри Торсель, что он работает здесь же в предместье Сен-Марсо, в мастерской по обработке металла, а живет совсем близко, в соседнем домике. И, недолго думая, Гейне согласился зайти к гостеприимному Анри.
По дороге поэт рассказал старому незнакомцу о себе, добавив:
– Я немец, но вот уже много лет живу во Франции и считаю вашу страну моей второй родиной.
Анри Торсель привел Гейне в маленький дворик, поросший чахлой травой, вытоптанной ребятишками. На протянутых веревках сушилось белье. Потрескавшиеся стены домика, обвалившаяся штукатурка, сквозь которую проступали гнилые доски, жалкая утварь, валявшаяся у порога, зловонная навозная куча в углу – все говорило о бедности здешних обитателей.
Анри заметил грустное выражение на лице Гейне и сказал:
– Вы не привыкли ко всему этому, но что же делать?
И он повел неожиданного гостя вверх по крутой темной лестнице на второй этаж. Дойдя до низкой неокрашенной двери, Анри Торсель толкнул ее ногой, и хозяин с гостем очутились в небольшой, но аккуратно прибранной комнате. Вдоль стен стояли простые деревянные кровати, так что оставалось место лишь для стола, на котором лежало много книг и газет. Гейне стал перебирать книги, и от них повеяло Великой Французской революцией: здесь были речи главы якобинцев Максимилиана Робеспьера, памфлеты Жака Поля Марата в дешевых изданиях по два су. Увидел он «Историю французской революции» социалиста-утописта Этьена Кабе, и тут же лежали ядовитые сатиры публициста Корменена на Луи-Филиппа.
– Это все книги, от которых пахнет кровью, – сказал Гейне. – Будем верить, что кровь французов в недалеком будущем даст богатые побеги свободы.
Торсель задумчиво выслушал эти несколько напыщенные слова поэта и добавил совсем просто:
– Да, господин Гейне, мы, рабочие, живем надеждой, что грядущая революция принесет нам победу.
И сразу, переменив тон, сказал спокойно и мягко:
– Как жаль, что я не могу вас познакомить с женой и дочками. Они допоздна работают на прядильной фабрике. Но я должен сделать это. Если бы вы не отказали нам в чести придти в воскресенье, моя семья была бы в сборе.
С этого дня Гейне часто заходил к Анри Торселю. Ему давно хотелось завязать знакомство с французскими рабочими, узнать, как они живут и о чем думают.
Торсель был коренным парижанином, так сказать, потомственным рабочим французской столицы. Его отец славился как искусный медник, и Анри с детства пошел работать в мастерскую, одну из тех, которую содержали мелкие, но жадные и бессердечные владельцы. Не по книгам, а на суровом опыте жизни познавал он непреложные законы эксплуатации и с горечью видел, какие крепкие перегородки отделяют предпринимателей от рабочих. С первых сознательных лет Анри научился ненавидеть тех, кто за гроши покупал его силу, его здоровье, его жизнь. Он рано женился на крестьянской девушке Луизе. Родившись в большой и бедной семье, она пятнадцатилетней девушкой вынуждена была отправиться в Париж, чтобы там зарабатывать себе на пропитание. Луиза стала ткачихой. Шестнадцатичасовой ежедневный труд в полутемном сыром помещении, почти сарае, громко именовавшемся прядильной фабрикой, изнурял ее день за днем, год за годом. Они жили в шумном, торопливом Париже, подобно тысячам других таких же тружеников. В будние дни виделись только на рассвете или поздним вечером, а по воскресеньям и праздникам старались выбраться за город на какую-нибудь зеленую лужайку или в небольшую рощицу. Они скромно обедали в рабочем ресторанчике на скопленные за неделю мелкие деньги. Это было пределом счастья для бедной Луизы в ее трудной и однообразной фабричной жизни. Потом родились дет Двое мальчиков умерло, остались две девочки, уже в двенадцать-тринадцать лет разделивших участь матери и ставших за прядильный станок на той же фабрике. Работала вся семья, а денег едва хватало, чтобы оплатить комнатку и скудно питаться.
Анри Торсель, всегда жизнерадостный и полный энергии, не унывал в самые горькие минуты. Часто заставая жену в слезах, он ласково утешал ее, говоря, что ждать уже недолго, что скоро придет для скромных тружеников счастливая пора и надо торопить ее приближение. Он это делал со всей энергией сознательного рабочего: не только вел политические беседы с товарищами по мастерской, но и участвовал в тайных кружках, ставивших своей целью свержение Июльской монархии. Судьба как бы берегла его: он чудом уцелел в дни Июньского восстания 1832 года. Когда Огюст Бланки организовал тайное «Общество семей», состоящее главным образом из рабочих, среди тысячи с лишним членов этого общества был и Анри Торсель. Полиция напала на след общества и разгромила его, но и тут Торсель сумел скрыться. Он уехал ка некоторое время в далекую нормандскую деревню.
Как драгоценное воспоминание об этом объединении рабочих, Анри хранил, тщательно спрятав под половицу, «Инструкцию» о приеме в члены «Общества семей».
Генрих Гейне вскоре привязался к Анри Торселю и подружился с ним. Однажды поздним вечером, когда Гейне сидел у Торселя и никого из семьи не было дома, Анри приподнял половицу в комнате и вынул спрятанную там «Инструкцию». Тонкие листки бумаги, завернутые в плотную тряпку, покоробились и пахли плесенью. Но текст легко можно было прочитать. Гейне с глубоким интересом вникал в смысл этой «Инструкции», содержавшей вопросы вступающему в члены общества. Принимаемого вводили в комнату из предосторожности с завязанными глазами. Председатель торжественно задавал вопрос: «Что ты думаешь о нынешнем правительстве Луи-Филиппа?» «Инструкция» давала желательный ответ: «Думаю, что оно является предателем страны и народа». Далее следовали такие вопросы и ответы:
«В чьих интересах действует правительство? – В интересах небольшого количества привилегированных.
Кто теперь является аристократами? – Денежные мешки, банкиры, оптовые поставщики, монополисты, крупные земельные собственники, спекулянты на биржах, одним словом – эксплуататоры, которые жиреют за счет народа…
Чем заменены честь, честность, добродетель? – Деньгами..
Что такое народ? – Народ это совокупность граждан, которые трудятся.
Как обходится закон с народом? – Закон его считает рабом.
Каков удел бедняка при правительстве богачей? – Удел бедняка подобен судьбе рабов и негров, его жизнь соткана из нищеты, изнурения и страданий.
Какой принцип должен лежать в основе правильного общества? – Равенство.
Каковы должны быть права гражданина в хорошо налаженной стране? – Право на существование, бесплатное образование, право участвовать в правительстве… его обязанности – преданность обществу и братство со своими согражданами.
Нужно ли произвести социальную революцию? – Необходимо произвести социальную революцию.
Позднее, когда пробьет час, мы возьмемся за оружие, чтобы свергнуть правительство, которое является предателем отечества. Будешь ли ты с нами в тот день? Обдумай хорошенько, это опасное дело: наши враги могущественны; у них – армия, богатство, поддержка иностранных королей; они царствуют при помощи террора. Мы же, бедные пролетарии, располагаем лишь нашим мужеством и неоспоримым правом. Решил ли ты умереть с оружием в руках за дело человечества, когда будет дан сигнал к борьбе?»
Эти последние слова Гейне прочитал дрожащим от волнения голосом. Он увидел, как нервно подергивалось лицо Анри Торселя. Долго они в этот вечер разговаривали о грядущих судьбах Франции.
– Вместо одного разгромленного тайного общества вырастают десятки других, – говорил Торсель. – Таких, как я, много, очень много, и мы добьемся своего.
– Да, – сказал Гейне, – рано или поздно вся эта буржуазная комедия во Франции с ее королевской властью и парламентскими «героями» будет освистана. Вы, дорогой Анри, со своими товарищами поставите на исторической сцене эпилог, который будет называться: коммунистический строй!
Поэтическая восторженность Гейне очень нравилась Торселю, он и сам был горячим романтиком революции.
В один из светлых весенних дней Торсель повел поэта в мастерскую по обработке металла. Длинное одноэтажное здание выделялось своим унылым видом даже среди мало привлекательных домов рабочего предместья. Высокие окна, застекленные маленькими квадратиками, были до того закопчены, что внутри стояли какие-то странные сумерки. На грязном кирпичном полу валялись разные обломки и куски железа, слесарные инструменты, металлические опилки. Был обеденный перерыв, очень короткий, так что рабочие не могли отлучиться из мастерской. Торсель познакомил Гейне с товарищами по работе. Они торопливо проглатывали принесенную из дома еду и запивали кипятком.
– Вам надо посмотреть, как мы работаем, – сказал Торсель. – Кстати перерыв кончается.
Раздался пронзительный свисток, и длинный дымный барак наполнился рабочими. Кузнецы раздували мехами горны, и красные гибкие языки пламени ярко освещали их мужественные, полуобнаженные фигуры. Торсель ловко схватил длинными щипцами кусок металла и положил его на наковальню. Двое рабочих били в такт молотами и при этом пели песню. Снопы разноцветных искр вылетали из-под молотов, и Гейне не мог оторваться от этого зрелища. Он видел в рабочих, кующих железо, живое воплощение силы того класса, которому принадлежит будущее.
Улица Пигаль
Если парижанину в начале 40-х годов прошлого века говорили «Улица Пигаль», это означало «Жорж Санд». Небольшая гористая улочка, поднимавшаяся на Монмартрский холм, стала центром умственной жизни Парижа, с тех пор как там в небольшом особняке, под № 16, поселилась Жорж Санд. Особняк находился в глубине сада и был почти не виден с улицы, особенно летом, когда разрасталась зелень. Зимой сквозь черную сетку ветвей можно было разглядеть за садовой оградой приветливый домик, где помещался салон Жорж Санд.
В теплый декабрьский день Гейне подъехал на фиакре к саду на улице Пигаль. В саду стояли лужи от растаявшего льда, и пришлось шагать к крыльцу особняка по воде. Слуга, открыв дверь, встретил Гейне, как старого знакомого, впустил его в прихожую и отправился доложить о нем. Несмотря на то что был третий час дня, Жорж Санд еще спала. У нее была привычка работать по ночам, и часто она ложилась лишь утром. Из гостиной доносились приглушенные звуки рояля, и поэт сразу догадался, что это играет Шопен, прославленный польский композитор и пианист, близкий друг Жорж Санд. Поэт осторожно вошел в гостиную, чтобы не помешать музыканту, и уселся в зеленое бархатное кресло в углу комнаты. Гейне любил эту уютную гостиную с большими китайскими вазами, наполненными цветами, с удобной мебелью и прекрасным роялем палисандрового дерева, за которым теперь сидел Шопен. Он не замечал гостя и продолжал играть, по временам вдохновенно откидывая голову, мгновенно отрывая пальцы от клавишей и снова принимаясь за игру. Неожиданно Шопен остановился, захлопнул крышку рояля, обернулся и увидел Гейне. Худой и бледный, с болезненным выражением запавших глаз, Шопен выглядел гораздо старше своих тридцати лет. Композитор дружески пожал руку Гейне и сказал, улыбнувшись, что он первый слушатель его новой музыки.
– Да, она сочинена, – продолжал Шопен, – но это не главное. Для меня составляет величайший труд записать музыкальную пьесу. Я страдаю нерешительностью, записываю какой-нибудь такт на нотных линейках, стираю его и снова записываю.
– Я думаю, – возразил Гейне, – что это не нерешительность, а требовательность к себе.
Разговор зашел о музыкальном сезоне в Париже. Гейне пожаловался на форменное нашествие пианистов, но тут же спохватился и добавил, что о присутствующих не говорят. К тому же он считает Шопена не гастролером, а парижанином, таким же, как он сам.
– Мы оба будем жить в Париже, – добавил Гейне, – пока наши родины-мачехи, Польша и Германия, не освободятся от деспотов. – И, переводя разговор на менее опасную тему, поэт сказал: – Не угодно ли вам, мосье Шопен, послушать веселые стихи, сочиненные мной совсем недавно под аккомпанемент зимней стужи:
Мороз-то на самом деле
Огнем обжигает лица
В густых облаках метели
Народец продрогший мчится.
Промерзли носы и души.
О, холод зимой неистов!
И раздирают нам уши
Концерты пианистов.
Насколько приятней лето!
Брожу я в лесах, мечтаю
И о любви поэта
Стихи нараспев читаю.
Оба засмеялись.
– Уж не хотите ли вы предложить мне эти стихи для композиции? – спросил Шопен. И, не ожидая ответа, добавил: – А если говорить серьезно, то Шуман написал недавно цикл романсов на ваши слова. Знаете ли вы об этом? Мне рассказывал Лист, что Шуман собирается послать вам эти песни.
Гейне задумался. Перед его глазами встал юноша Шуман, с которым он когда-то встретился в Мюнхене. Теперь Шуман знаменит, но ему, верно, трудно приходится в Германии.
В это время вошла Жорж Санд, закутанная в коричневый утренний халат своеобразного покроя. Большая круглая голова была не покрыта, и черные густые волосы, завязанные узлом, спадали на затылок. Она обрадовалась, увидев Гейне, упрекнула его за долгое отсутствие и сказала, что он пришел кстати, потому что скоро придут Бальзак и Ламенне. При упоминании имени Ламенне Гейне поморщился, и Жорж Санд заметила это:
– Я знаю, кузен, что вы недолюбливаете этого священника-социалиста. Но он ведь принес немало огорчений церкви…
– Ах, – сказал Гейне, – он совсем не священник, а скорее ханжа и еще меньше социалист!
Жорж Санд не успела ответить, как в гостиную вошел низенький человек в длинном потертом сюртуке, в грубых деревенских башмаках и высоких чулках из серой шерсти. Щуря близорукие глаза, новый гость стал неуклюже здороваться и наконец опустился на табурет, обитый зеленым шелком. Это и был Ламенне, модный проповедник христианского социализма. Он начал делать карьеру католического священника и до того угодил папе римскому, что тот собирался возвести его в звание кардинала. Однако Ламенне уклонился от этой чести и выпустил книгу «Слова верующего», где изложил, правда довольно путано, свои мысли о социализме, который должен быть неразрывно связан с основами христианства. Такое сочетание социализма с религией многим казалось естественным и плодотворным. Жорж Санд увлекалась учением Ламенне, но Гейне, который уже разочаровался даже в утопическом социализме, считал христианский социализм аббата Ламенне совершенно беспомощным в разрешении социальных вопросов.
Через некоторое время пришли еще два гостя: Бальзак и актер Бокаж, пленявший зрителей французского театра в романтических драмах Виктора Гюго.
Шопен возился у камина, готовя кофе, и Жорж Санд уверяла, что этого никто не умеет лучше делать, чем он.
– Здесь он действительно достиг виртуозности! – со смехом сказала хозяйка дома.
Гости вскоре убедились в этом, когда перед ними задымился душистый черный кофе, бывший подлинной страстью Бальзака. Жорж Санд по обыкновению курила толстые сигареты и предлагала их своим собеседникам. По-видимому, Гейне не терпелось затеять спор с Ламенне. Подсаживаясь к бретонскому священнику, без особенного расположения смотревшему на него сквозь толстые стекла очков, Гейне сказал:
– Итак, уважаемый аббат, вы выдвигаете принцип: «Бог и свобода»?
Ламенне утвердительно кивнул головой.
– А известно ли вам, – продолжал Гейне, – что там, где бог, там нет свободы? Ведь он, как мы знаем из библии, самый строгий самодержец, и никакая демократия, ни ангельская, ни человеческая, при нем недопустима.
Гости засмеялись. Ламенне молчал.
– Жаль, – сказал Гейне, – что вы не свергли папу Льва XII и не сели на его трон. Бывали всякие папы на свете, даже папесса Иоанна, но вы бы могли быть первым папой-социалистом.
– Як этому не стремился и не стремлюсь, – коротко сказал Ламенне.
Жорж Санд вмешалась:
– Не лучше ли прекратить разговор на религиозные темы?
– Хорошо, – сказал Гейне. – Я только добавлю, что все ваши теории высосаны из пальца. Но вы должны знать, что во Франции существует и другой социализм. Недавно я был в мастерских предместья Сен-Марсо, я видел рабочих, кующих железо. Эти полунагие суровые люди пели революционные песни и ударяли в такт молотами по раскаленному металлу так, что слепящие искры взлетали в воздух. Это было очень эффектное зрелище, уверяю вас, и я понял, что этим людям будущего не нужна ваша газета «Будущее», господин Ламенне.
Аббат растерянно посмотрел на Гейне. Поэт был в ударе: глаза его горели, хотя левая полупарализованная рука его висела, но он свободно распоряжался правой, и, патетически подняв ее вверх, хотел продолжать речь.
Но Ламенне перебил его:
– Если послушать вас, господин Гейне, то все рабочие – сплошь безбожники.
– Я убежден в одном, – ответил Гейне, – что им ваш социализм не нужен. Они плохо верят, что те, которым приходится есть слишком мало на земле, будут угощаться наилучшими блюдами в раю, а синяки от земных побоев там будут стираться руками ангелов с их изможденных тел. Не верят они также и в то, что те, которые в этой жизни наслаждались изобилием счастья, в будущем будут страдать от этого расстройством желудка…
Жорж Санд умоляюще посмотрела на Гейне, но он с едким остроумием продолжал уничтожать учение Ламенне.
Чтобы перебить разговор, вмешался Бальзак. Он полушутя сказал:
– А вы, Гейне, как всегда, – ярый якобинец и решительный республиканец.
– Ах, республика, монархия! – бросил Гейне. – Все это только вывески. Сейчас начинается бой за самые основы жизни, и, по-моему, единственные люди, заслуживающие уважения во Франции, – это коммунисты. Им принадлежит будущее. Когда я прохожу по предместьям Парижа, я часто слышу плач бедноты, а иногда нечто, похожее на звук оттачиваемого ножа. И я жду того часа, когда устои старого общества рухнут, потому что их даже некому защищать.
– А что будет, когда эти люди возьмут власть в свои руки? – спросил Бальзак.
– Этого я пока не знаю, – сказал Гейне; и тихо добавил: – Я даже порой боюсь за будущее…
Поэт сказал последние слова так искренне и проникновенно, что все почувствовали, какая внутренняя борьба происходит в сердце этого вдохновенного человека.
В этот день еще долго шли разговоры и споры в особняке на улице Пигаль…
Играл Шопен новые мазурки и прелюды, Бокаж декламировал стихи Гюго. Гейне и Адам Мицкевич, пришедший позднее, под шумные аплодисменты долго читали свои произведения – на немецком и польском языках. Но никто из посетителей салона Жорж Санд не забыл волнующих слов Гейне, остроумных и глубоких, сказанных в этот вечер…
Ночные мысли
Парижская сутолока, стук колес, далекий колокольный звон врывались в уютную квартирку на Фубор Пуассоньер, но там было еще шумнее, чем на улице. Матильда Гейне в нарядном домашнем платье играла с несколькими ребятишками. Она сама веселилась, как ребенок, звонко хохотала, завязывая глаза мальчикам и играя с ними в жмурки, загадывала загадки, угощала детей конфетами. Попугай Кокотт передразнивал детский крик и смех. Гейне, с утра сидевший за письменным столом, оставил работу и тоже увлекся игрой с детьми.
Раздался робкий звонок в передней, и поэт пошел открывать дверь. На пороге стоял худощавый человек среднего роста, с резкими чертами лица. На его губах играла скромная, застенчивая улыбка. Гейне сразу узнал гостя: это был датский сказочник Ганс Христиан Андерсен.
– Вы снова в Париже! – воскликнул Гейне. – Прошу вас, входите.
– Я, кажется, помешал вам? – спросил Андерсен.
– О нет, – возразил Гейне. – Мы как раз находимся в вашем царстве.
Видя недоумение Андерсена, который встречался с Гейне, когда он был еще холостым, поэт объяснил ему:
– У меня и моей жены Матильды нет детей, поэтому мы их берем напрокат у наших соседей… А вот и Матильда!
И Гейне сказал ей по-французски, что это тот самый датчанин, который написал сказку «Стойкий оловянный солдатик». Матильда хорошо его знала по рассказу Гейне: он прекрасно передавал сказки различных народов.
Не прошло и десяти минут, как Андерсен втянулся в игру с детьми, отчего шум в комнате удвоился. Гейне вернулся в кабинет. Через некоторое время он пригласил гостя к себе и прочел ему только что написанное стихотворение в его честь:
Мы пели, смеялись, и солнце сияло,
И лодку веселую море качало,
А в лодке, беспечен, и молод, и смел,
Я с дорогими друзьями сидел.
Но лодку, беснуясь, разбили стихии,
Пловцы, оказалось, мы были плохие,
На родине потонули друзья,
Но бурей на Сену был выброшен я.
И новых нашел я товарищей в горе,
И новое судно мы наняли вскоре,
Куда-то несет нас чужая река…
Так грустно! А родина так далека!
Мы снова поем, и смеемся мы снова,
А небо темнеет, и море сурово,
И тучами весь горизонт облегло…
Как тянет на родину! Как тяжело!
Слезы заблестели на глазах необычайно чувствительного Андерсена. Он тоже много выстрадал у себя на родине и так же тосковал, когда ему приходилось быть вдалеке от Дании. Гейне приписал на листке бумаги: «Это стихотворение, которое я пишу в альбом моего дорогого друга Андерсена, сочинено в Париже 4 мая 1843 года. Генрих Гейне».
Андерсен бережно спрятал листок бумаги в карман сюртука.
– Это самое драгоценное из всего, что я привезу домой, – сказал Андерсен и крепко пожал руку собрату.
Мягкость и чистосердечие Андерсена располагали к себе Гейне, а его сказки всегда привлекали глубокой поэтичностью. В них оживали вещи, наделенные человеческими чувствами, характерами и мыслями. Когда-то Гейне в «Путешествии по Гарду» писал о светлой природе сказки, умеющей все будничное и обычное сделать ярким и исполненным поэзии и красоты. Именно таким был этот датский сказочник, умевший рассказать и про оловянного солдатика, и про штопальную иглу, и про героическое сердце матери, и про розу с могилы Гомера, и про музу будущего XX века.
Оба писателя – немецкий и датский – просто и непринужденно говорили каждый о своей родине, о ее муках и радостях. Гейне сетовал на то, что вот уже двенадцать лет, как он не виделся с матерью, что в Гамбурге год назад был огромный пожар, уничтоживший целые кварталы, что тоска по отечеству будит в нем вечную тревогу, а ночные мысли не дают спать.
Гейне порылся в рукописях, нашел небольшой листок и прочитал, как всегда, тихим, ровным голосом:
Как вспомню к ночи край родной,
Покоя нет душе больной:
И сном забыться нету мочи,
И горько-горько плачут очи.
Проходят годы чередой..
С тех пор как матери родной
Не видел я, прошло их много!
И все растет во мне тревога.
И грусть растет день ото дня.
Околдовала мать меня:
Все б думал о старушке милой, —
Господь храни ее и милуй!
Как любо ей ее дитя!
Пришлет письма, – и вижу я:
Рука дрожала, как писала,
А сердце ныло и страдало.
Забыть родную силы нет!
Прошло двенадцать долгих лет.
Двенадцать лет уж миновало,
Как мать меня не обнимала.
Андерсен с грустью смотрел на бледное, измученное лицо Гейне, на закрывающиеся глаза, на бессильно висящую левую руку. Как не похож Гейне на того молодого и стремительно-живого поэта, с которым он впервые встретился в Париже десять лет назад! На прощание Андерсен сказал поэту как-то строго и значительно:
– Вы непременно должны добиться разрешения поехать на родину. Слышите: непременно!
С тех пор Гейне называл про себя «ночными мыслями» мечту посетить родину и даже так озаглавил стихотворение, начало которого он прочитал Андерсену.
Хлопоты не привели ни к чему. Прусское правительство наотрез отказало Гейне в разрешении на въезд. Было подтверждено, что, как только Гейне ступит на прусскую землю, он будет тотчас арестован. И все же он решил во что бы то ни стало посетить Гамбург, повидаться с матерью, устроить издательские дела с Кампе.
Пришлось добираться через Брюссель и Амстердам, а дальше в обход морским путем до Бремена. Мать просила его в письмах не ехать морем, она считала такое путешествие опасным, но еще опаснее было попасть в лапы прусским жандармам.
Двадцать первого октября 1843 года Гейне выехал из Парижа. Только теперь он почувствовал, как тяжело ему оставлять Матильду хотя бы и на короткое время. Но все его мысли были о Германии. В голове складывались строки стихов:
Прощай, чудесный французский народ,
Мои веселые братья!
От глупой тоски я бегу, чтоб скорей
Вернуться в ваши объятья.
Я даже о запахе торфа теперь
Вздыхаю не без грусти,
О козочках в Люнебургской степи,
О репе, о капусте,
О грубости нашей, о табаке,
О пиве, пузатых бочках,
О толстых гофрятах, ночных сторожах.
О розовых пасторских дочках
И мысль увидеть старушку мать,
Признаться, давно я лелею.
Ведь скоро уже тринадцать лет,
Как мы расстались с нею.
Прощай, моя радость, моя жена,
Тебе не понять эту муку,
Я так горячо обнимаю тебя —
И сам тороплю разлуку.
Жестоко терзаясь – от счастья с тобой,
От высшего счастья бегу я,
Мне воздух Германии нужно вдохнуть,
Иль я погибну, тоскуя.
Двадцать девятого октября Гейне прибыл в Гамбург. Он с трудом узнавал город. Свыше четырех тысяч домов сгорело во время прошлогоднего пожара. Тяжелое впечатление производили торчавшие из земли обгоревшие стены, почерневшие от дыма. Дом, где жила мать Гейне, тоже сгорел; сгорели и его рукописи и книги, оставленные матери на хранение. Но самое страшное было то, что изменились и люди: постарели, поблекли. Мать, всегда державшаяся прямо и гордо, превратилась в сгорбленную старушку, непривычно для него слезливую, с дрожащими руками и неверной походкой. Но и она не узнала своего любимого сына, хотя он старался скрыть от нее признаки болезни: неподвижную левую руку, закрывающиеся веки глаз, сильнейшие головные боли. Да, время шло: сестра Шарлотта из тоненькой изящной женщины превратилась в обрюзгшую толстушку, занятую только заботами о детях.
Гейне посетил Оттензен. Грустно он бродил по аллеям загородного парка в поместье дяди. Беседка, в которой когда-то Амалия со смехом читала его стихи, развалилась, все имело запущенный вид. Старого камердинера дяди уже не было в живых. Соломон Гейне тяжело болел и почти не выходил. Банкирским делом руководил Карл. Когда Генрих пришел к дяде, он застал его в больничном кресле с какой-то робкой улыбкой на лице. Но все же он оживился, увидев племянника, стал расспрашивать его о Париже, о Ротшильде, а потом – о Матильде, с которой хотел бы познакомиться. Доброта Соломона дошла до того, что он увеличил ежегодную ренту Гарри до четырех тысяч восьмисот франков.
Встреча с Кампе не принесла Гейне особых радостей. Издатель жаловался на плохие дела, на запрет прусского правительства продавать книги его издания и в доказательство даже показал квитанции о конфискации книг Гейне в берлинских магазинах. Однако Кампе все же просил у своего автора новых рукописей, новых книг. А в награду обещал новое издание «Книги песен», но, разумеется, на старых условиях, то есть за прежний гонорар.
Прошел месяц. Гейне стосковался по Матильде, по Парижу, его тянуло домой, потому что его домом теперь была Франция. Он писал жене нежные письма, сообщал, что все родные упрекают его за то, что он не взял ее с собой, и обещал в будущем исправить эту оплошность.
Постепенно, чтобы не растравлять сердце матери мыслями о предстоящей разлуке, он стал собираться в обратный путь. В голове уже созрели строфы будущей поэмы, которую он назовет «Германия».
Восьмого декабря Гейне выехал из Гамбурга. Его мучило тяжелое чувство: сможет ли он еще раз побывать здесь, застанет ли в живых мать и дядю? Да и он сам не знал, к чему приведет его болезнь, которую никто из врачей не мог определить. По временам боли во всем теле мучили его, странно перекашивалось лицо, глаза слабели, головные боли доводили его до обморока. Все это были приступы, кончавшиеся так же неожиданно, как начинались.
Восемнадцатого декабря Гейне благополучно возвратился в Париж.








