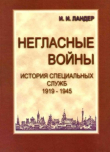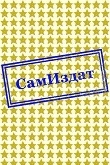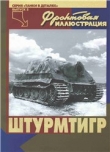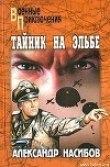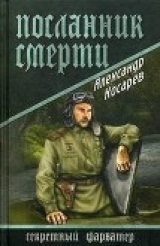
Текст книги "Посланник смерти"
Автор книги: Александр Косарев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Часть вторая
Глава седьмая
По пыльному следу«хромого призрака»
На следующее утро Илья Федорович Хромов примчался на Лубянку, едва забрезжил рассвет. Расчистив стол от бумаг и канцелярских принадлежностей, Хромов уселся на стул и принялся вынимать из чемоданчика ветхие от старости мешочки.
«Затевать сейчас полномасштабное изучение всех этих причудливых штуковин, пожалуй, несколько рановато, – подумал он. – Сначала надо прочесть дневник и хотя бы попытаться расшифровать письмена на пергаментах».
Пересняв все тексты, Илья сфотографировал и выцветший квадратный коврик с неясными кольцевыми рисунками.
«Попробую-ка я вытащить дополнительную информацию из коврика при дополнительном усилении контрастности во время печати, – решил он, – а то очень здесь все блекло. А чемоданчик, пожалуй, отдам на спектроскопию. Пусть посмотрят, где и когда он изготовлен и соответствует ли он рассказанной Александром легенде».
Несмотря на то что могучий ранее организм Комитета госбезопасности подвергался в то бурное время постоянным реорганизациям и сокращениям, технические службы его избежали кадровых перетрясок и работали вполне стабильно и профессионально. И поэтому уже к вечеру того же дня на столе у майора Хромова лежали фотографии документов. Он сложил их в папку и, поскольку было достаточно поздно, отправился домой.
Уложив в постель сынишку и оставив жену за просмотром очередного сериала, он уединился у себя в кабинете и, сняв с полки два потрепанных немецко-русских словаря, открыл дневник. Первая его страница не имела никакой даты и содержала довольно длинный перечень припасов, явно собранных для длительного путешествия. Перечислялись веревки и ледорубы, шоколад и галеты, чай и медикаменты.
– Так, так, – прошептал Илья, – если судить по количеству спальных мешков, то в поход собрались четверо, но ледорубов они с собой берут почему-то шесть. А может быть, с ними шли еще двое проводников, которым стандартные альпинистские мешки были ни к чему? Экспедиция наверняка направлялась в горы и, судя по набору альпинистского снаряжения, горы весьма солидные. Жаль, что здесь не упоминаются ни их маршрут, ни фамилии участников экспедиции. Вот только одно имя – Гюнтер. Да и то в какой-то странной связке: «Аптечка Гюнтера». Причем слово «аптечка» почему-то взято в кавычки. Так, – перевернул он страничку, – вот и первая дата – 16 апреля 1939 года. Прекрасно, и о чем же здесь идет речь?
За час упорной работы майор Хромов осилил не более двух десятков страниц и, почувствовав в глазах нестерпимую резь, отложил дневник в сторону. Откинувшись на кресле, он принялся анализировать материал.
«Экий, однако, сухой педант писал, – думал он. – Всюду повторяются непонятные значки да бесконечные промеры пройденных отрезков пути, азимутные замеры компаса да показания шагомера за рабочий день. Впрочем, не все. Есть еще и суточный расход продуктов. Вот откуда мы и попробуем плясать». Илья включил лампу и вновь придвинулся к столу.
– Итак, – вернулся он к началу датированных записей, – что же они лопали, голубчики, во время путешествия, а главное, сколько?
Вынув из ящика стола чистый лист бумаги, он начал записывать вычитанные из дневника сведения: «Две пачки галет, три банки тушенки, копченые колбаски, сухое молоко, твердый сыр, чай черный…» Закончив подсчет выделяемых на сутки порционных блюд, Илья удовлетворенно побарабанил пальцами по столешнице.
– Все-таки их было шестеро, – удовлетворенно прошептал он. – Следующая дата двадцать восьмое, – отметил он на своем листочке, – вторник. «Ветер тихий, северный. Минус восемь. Спускаемся четыре часа с осыпи в ущелье N-15. Азимут 103. Стоянка два часа. 11 704. Голец с запада в виде расщепленного лезвия топора. Вышли на старую китайскую тропу к 16 часам. К. и Р. советуют сделать остановку и дать отдых животным. Говорят, что завтрашний подъем на перевал будет очень тяжел. “Алеф” натер левую ногу, и наш милосердный “Силум” наложил ему на лодыжку повязку». Да кто же там был-то? – заерзал на сиденье Илья. – Что за имена у них такие? «Алеф», «Силум», да в те годы людей с такими именами в Германии и днем с огнем нельзя было сыскать. – Он перевернул страницу и, не став изучать список съеденных продуктов, торопливо пробежал глазами следующую запись: «Минус два у подножья… Средний угол подъема… Ветер…» Не то, – шептал он, – не то. Вот. «Азимут 117, до отметки 5468, затем 122, до отметки 8223». Так, есть, – он быстро перевел взгляд на другую часть страницы. – А тут? Вот и тут есть. «Азимут до отметки 9008, 125 – 128. Ветер…» Да черт с ним, с ветром. – И тут Илью озарила догадка. – А тут на самом деле есть что-то интересное. Азимут, азимут, – повторил он, – угол между какой-либо точкой и направлением на север. И здесь на каждой странице мы имеем и азимут, и связанное с ним упоминание об определенной числовой отметке. Если перевести данные в графическую форму, то можно начертить приблизительную схему движения экспедиции.
Приняв пятьсот условных шагов за один миллиметр, Илья обозначил на листе миллиметровки разлинованной бумаги стороны света и принялся с помощью транспортира, линейки и циркуля прокладывать пройденный экспедицией маршрут. Примерно через полтора часа кропотливой работы Илья Федорович стал понимать, что странная шестерка альпинистов описывала в своем движении громадное, протяженностью в десятки километров, кольцо. И когда, к трем утра, он наконец завершил свой кропотливый труд, то перед ним лежало изображение корявого, более похожего на шестеренку со сточенными и сломанными зубьями, но явно кольца, правда, не замкнутого…
«Весьма необычная складывалась ситуация, – размышлял он, сидя по вечерам в зале компьютерного архива, – совершенно не типичная для того периода. Внезапное появление немецкой автоколонны в нашем тылу было вполне возможно в начальный период войны, когда зачастую не существовало сплошной линии фронта и немцы смело совершали глубокие прорывы в расположение наших войск. Но прорвавшиеся части двигались в основном на восток. Нечто подобное происходило и позже, во время нашего наступления. Только в этом случае через линию фронта прорывались отставшие части немецких войск, и двигались они теперь на запад. В случае же с броневиком все происходило в полном противоречии с логикой. Немецкие войска всей своей массой рвались на восток, а эта странная автоколонна, напротив, мчалась на запад. Кроме того, непонятно, почему такое рвение для поимки удиравшей колонны проявляли части Смерша. Стало быть, по нашим тылам гуляла не обычная заплутавшая воинская часть, а особое подразделение германского абвера, выполнявшая некое специальное задание. Отсутствие каких-либо документов у убитых немцев и тот факт, что на них были наши армейские сапоги, только подтверждают мою догадку. Стало быть, они заранее готовились к любой ситуации и допускали, что в случае осложнения ситуации им придется уходить пешком и врассыпную. В этом случае довольно легко можно подобрать себе одежду с захваченных или убитых военнослужащих, но подобрать подходящую по размеру обувь в столь экстремальных условиях гораздо сложнее. Таким образом, получается, что наш спецназ гонялся за их спецназом. Но вот зачем? Что привело к нам немцев? Груз автомобиля, его пассажир или что-то иное?»
Ответа на эти вопросы Илья Федорович, сколько ни старался, не находил ни в документах фронтовой разведки, ни в штабных телеграммах, ни в отчетах Главного разведуправления. Только в одном из отчетов, по действиям фронтовой авиации с 10 по 15 июля 2-й воздушной армии Воронежского фронта, он обнаружил объяснительную записку командира второй эскадрильи двенадцатого полка штурмовой авиации. Тот писал, что не сам санкционировал вылет пары самолетов под общим командованием старшего лейтенанта Романа Таранцева, который привел к гибели ведущего и вынужденной посадке второго самолета из-за повреждения мотора. Приказ на облет прифронтовой полосы с целью поиска и уничтожения неприятельской автоколонны поступил к нему от начальника особого отдела дивизии подполковника Черкасова. Поскольку на аэродроме оказалась только одна пара самолетов, то он был вынужден послать их снова в полет, не дав пилотам времени даже на минимальный отдых. Только этот документ и можно было хоть каким-то образом связать с легендой об утонувшем броневике. Тем более что дополнительная проверка показала, что подполковник Черкасов на самом деле был начальником особого отдела и что вторая воздушная армия действительно базировалась в том самом районе, в котором спустя сорок семь лет со дна реки был поднят загадочный автомобиль. Оставалась единственная возможность – попробовать разыскать оставшихся в живых участников или хотя бы свидетелей тех далеких событий. Илья тяжело вздохнул, понимая, какой каторжный ему предстоит труд, но делать было нечего. Желание узнать как можно больше заставляло его вновь и вновь посылать запросы во всевозможные архивы, рыться в картотеках и перечитывать многочисленные военные мемуары, где могли быть описаны события тех июльских дней. Но все его титанические усилия не давали никаких результатов. Тогда Илья Федорович решил действовать иначе. Он принялся как бы между делом расспрашивать своих сослуживцев, в надежде выявить среди них того человека, который бы подсказал ему, как можно найти старых сотрудников Комитета. Именно среди них он надеялся отыскать тех из них, кто в годы войны служил в военной контрразведке и в июле 1943 года мог находиться в районе затопления бронеавтомобиля. Он даже подключил к этим поискам своего тестя, который, казалось, знал всех сотрудников Лубянки поименно. Только после такого отчаянного натиска он получил-таки адрес человека, который совершенно точно должен был хоть что-то знать о событиях на Курской дуге. Тот проживал в небольшом городе Борисоглебске, на улице Чапаева. Илья решил навестить его как можно скорее. Сняв трубку, он заказал по телефону билет на ближайший поезд.
Позвонив в разболтанный, висящий на одном шурупе звонок, Илья приник ухом к черному дерматину, частично покрывающему древнюю двустворчатую дверь.
Кажется, никого дома нет, решил Хромов, поворачиваясь к лестнице.
Вдруг дверь позади него жалобно скрипнула и приоткрылась. Илья обернулся. На него через небольшую щель грустными глазами смотрел старик, одетый в обвисшую застиранную майку и полосатые пижамные брюки.
– Семеновых нет, – глухо произнес он, – уехали вчера к себе на дачу. – Он потянул было на себя ручку двери, но Илья его опередил.
– Да я, собственно, к вам приехал, Станислав Петрович. Я из Комитета, из Москвы, – добавил он, чувствуя, что его собеседник не расположен принимать гостей.
– Неужели из самой московской «конторы» приехали? – удивился старик. – Зачем же я им понадобился?
– Да нет, не им, а лично мне, – сказал Илья Федорович.
Мужчина нерешительно потоптался на месте, но потом все же снял с двери цепочку и распахнул дверь пошире.
– Заходите, коли так, – проговорил он, медленно отступая в глубь коридора.
С трудом протиснувшись в дверной проем, Илья последовал за хозяином по длинному, загроможденному старой мебелью коридору.
– Ну что же, – гораздо бодрее произнес хозяин квартиры, когда они уселись за накрытый малиновой бархатной скатертью круглый стол. – Как мне вас звать-величать?
– Хромов, Илья Федорович, майор Федеральной службы безопасности, вот мое удостоверение.
Он протянул хозяину квартиры свою красную книжечку, но тот отрицательно помотал головой.
– Не надо, молодой человек, я и так вижу, кто передо мной. Чай за сорок восемь лет работы в органах я на вашего брата насмотрелся.
Старик высморкался в скомканный носовой платок и, торопливо спрятав его в карман пижамы, приветливо улыбнулся Хромову.
– Да ты спрашивай, сынок, не стесняйся, память меня, слава Богу, еще не сильно подводит.
Воодушевившись любезным приемом и видя во взгляде собеседника неподдельный интерес к разговору, Илья рассказал загадочную историю о броневике. Закончив рассказ, Илья умолк и вопросительно посмотрел на, казалось, пребывающего в глубоком раздумье хозяина квартиры. Несколько минут продлилось их обоюдное молчание, пока наконец старик не завозился на своем месте и как бы про себя, не обращаясь к гостю, прошептал:
– Неужели же призрак так страшно окончил свои дни?
Потом он потер виски и, хорошенько откашлявшись, принялся рассказывать Хромову историю, на первый взгляд совсем не перекликающуюся с только что услышанным рассказом.
– Был я тогда совсем мальчишкой, – начал он. – Но меня назначили в помощники к Виталию Матвеевичу Логунову, довольно известному в то время оперативнику из особого отряда ОГПУ на Дальнем Востоке. Могу объяснить такое везение двумя обстоятельствами, – криво усмехнулся старик, – крайней нехваткой личного состава из-за массовой отправки народа на фронт и еще тем, что в моей стремительной карьере наверняка сказалась протекция моего дяди со стороны матери, Викентия Трофимовича Порезова, который в то время командовал Прибайкальским военным округом. Был я, по молодости лет, приставлен к старшему инспектору Логунову в качестве стажера, но заниматься приходилось практически всем. Моталась наша команда по огромному пространству от Владивостока до Барнаула и от Абакана до Вилюйска. Время было напряженное. Вокруг толпами шныряли японские и немецкие диверсанты. Из-за китайской границы казали зубы недобитые белогвардейцы, кругом кишели мародеры всех мастей – китайцы, корейцы, маньчжуры. Господи, и какой только швали не повылезало в то время на свет Божий. А поскольку положение наших войск на германском фронте было в то время крайне неблагоприятное, обнаглели эти недобитки чрезвычайно. Помнится, у нашей группы месяцами не было и дня спокойного. Отсыпались мы только в поездах, спеша от одного чрезвычайного происшествия к другому. Да, а то, о чем вы сейчас рассказали, я, пожалуй, могу связать только с серией загадочных происшествий, с которыми нашей группе пришлось столкнуться в самом начале сорок второго года.
Илья Хромов затаил дыхание и весь внутренне напрягся, боясь пропустить даже слово. Однако вместо продолжения Станислав Петрович, покряхтывая, выбрался из кресла и, шаркая тапочками по вытертому ковру, подошел к узкому книжному шкафчику, стоявшему в углу комнаты. Распахнув скрипучие дверцы, он нагнулся и с видимым усилием вытащил из него старинный фотоальбом, облаченный в тисненую кожаную обложку.
– Вот, молодой человек, – он бережно положил его перед Ильей, – можете посмотреть. Большинство снимков, кстати, сделал я сам, поскольку в те годы очень увлекался фотографией. Готов был ночи напролет проявлять и печатать. Да. Был у меня отличнейший по тем временам катушечный фотоаппарат «Лейка», которым я почти всю войну и снимал. Видите, на левом снимке, высокий представительный мужчина стоит вполоборота у белой лошади? Так вот это и есть мой тогдашний начальник Виталий Логунов. А здесь, у забора, в портупее – Леня Кольцов, он к нашей группе примкнул в Находке. Вот Михеич и Толя Лазарев на бревнышке покуривают. Помню, я их в Благовещенске снимал, на вокзале. Как раз после того, как мы банду из пятнадцати китайских контрабандистов определили в местную комендатуру.
Старик поправил очки, перевернул страницу альбома и гордо взглянул на гостя.
– А вот и я сам, собственной персоной, с ручным пулеметом «Гокчис» наперевес.
Но Хромов уже не слушал его. Он внимательно всматривался в счастливое, еще безусое, лицо молодого парня, со сбитой на правое ухо меховой шапкой, облокотившегося на толстый ствол неуклюжего, допотопного пулеметика, и никак не мог отождествить вихрастого молодого человека с сидящим около него древним старцем.
– Именно в ту пору мы и встретились с тем, кого потом долгое время называли между собой «хромым призраком».
– Так, так, – очнувшись от своих дум, встряхнул головой Илья, – что-что вы сказали о призраке?
Старик недоумевающе уставился на Хромова.
– Ах, ну да, – раздосадованно взмахнул он ладонью, – вечно я увлекусь и половину пропускаю. Виноват, товарищ майор, сейчас начну с самого начала.
В общем виде рассказ старого чекиста выглядел так.
– Зима в сорок втором году выдалась в Забайкалье на удивление мягкая. Частые и липкие от теплого ветра с океана снежные метели наглухо завалили даже натоптанные звериные тропы, и пограничная застава, на которой в то время находилась наша оперативная группа, оказалась совершенно изолирована от внешнего мира. Почему нас так срочно, буквально за неделю до Нового 1943 года, перебросили на эту забытую Богом заставу, я не знал, но об этом наверняка был осведомлен наш начальник, капитан Логунов. Наше затворническое житье продолжалось около двух месяцев, что само по себе было довольно необычно, ибо на одном и том же месте мы практически никогда не оставались больше двух-трех недель. Изрядно наскучившее нам сидение закончилось только в ночь с тринадцатого на четырнадцатое февраля. Был как раз банный день. После почти двухчасового блаженства в русской бане мы всей командой вышли на улицу и долго сидели, закутавшись в длиннополые овчинные тулупы на сложенных позади бани поленницах. Глядели на очистившееся, наконец-то, от облаков небо с крупными искрами звезд и вслух мечтали о том, как будем жить после войны. Где-то в половине первого ночи мы угомонились и отправились спать, но буквально через час вся застава была поднята по тревоге. Когда мы построились во дворе, командир гарнизона объявил, что, по его сведениям, на нашем участке из-за кордона прорывается крупная банда и весь личный состав отправляется на ее перехват. Поскольку наша группа начальнику заставы формально не подчинялась, то он, обращаясь к Виталию Матвеевичу, попросил, чтобы мы остались на месте и взяли на себя функции защитников нашего крошечного военного поселка. Вначале наш командир согласился, но потом, когда вдали затрещали частые выстрелы, он изменил свое решение и приказал нам тоже выступать. Собраться в поход для нашей пятерки было минутным делом. Разобрав оружие и укрепив на валенках лыжи, мы с большим сожалением покинули нашу теплую казарму. Поскольку звуки выстрелов неумолимо отдалялись в глубь нашей территории, то наш командир задал такой темп бега, что мы еле-еле за ним поспевали. Как мне теперь представляется, догадавшись, что диверсанты отнюдь не старались отступить на сопредельную территорию, наши пограничники, бросив первоначально все свои силы на то, чтобы перекрыть им пути отхода, оказались в крайне неудобном положении. Получалось так, что никого, кто бы мог прикрыть непосредственно нашу территорию от проникновения лазутчиков, у них в резерве не оставалось. Оценив ситуацию, Логунов повел нас таким путем, чтобы мы смогли перерезать единственную проезжую дорогу к железнодорожной ветке, ведущей к Транссибирской магистрали. Несмотря на нашу отличную по тем временам спортивную подготовку, мы опоздали. Выскочив через какое-то время на наезженный тракт, мы сразу же наткнулись на лежащего поперек дороги политрука нашей заставы. Он был ранен в ногу, но поскольку четверых бывших с ним бойцов он тоже послал в погоню, то помочь ему было практически некому. Увидев нас, он очень обрадовался и сообщил, что прорвавшиеся из-за кордона бандиты вооружены автоматическим оружием и, двигаясь на север, устанавливают мины-ловушки и устраивают засады.
– Будьте осторожнее, – предупредил он, – у нас уже двое убитых и четверо раненых, а диверсанты, кажется, потеряли пока только одного.
Оставив совершенно запыхавшегося Михеича с политруком, мы помчались дальше. Выстрелы хлопали совсем близко, когда из-за поворота дороги показался еще один из солдат с заставы. Левой рукой он держался за предплечье. Шапки на голове у него не было, а винтовка, путаясь в ногах, бренчала и волочилась за ним. Луна прекрасно освещала дорогу, по которой мы бежали вниз по небольшому увалу, и поэтому боец сразу нас увидел.
– Стойте, стойте, – морщась от сильной боли, простонал он.
– Ты, никак, ранен? – спросил наш командир.
– Болит, просто спасу нет, – сквозь зубы ответил тот, опускаясь на снег.
– Стасик, – мотнул головой в мою сторону Виталий Матвеевич, – перевяжи-ка его быстренько. На морозе потеря крови опаснее самой раны.
– Что там у вас творится? – кивнул он в сторону возобновившейся перестрелки. – Ты уже второй раненый, кого мы встречаем всего-то на двух километрах.
– Там их пятеро или шестеро, не меньше, – ответил несколько приободрившийся после перевязки боец. – Было больше, но мы их тоже сильно пошерстили.
Он застонал, поднимаясь, и неуклюже закинул винтовку на плечо.
– Вы, товарищ командир, попытайтесь обойти их оврагом, слева, – посоветовал он, – там есть пологий склон. А напрямую их нам не взять, светло очень. Сдается мне, что они специально нас здесь сдерживают. Видимо, дают кому-то возможность к станции прорваться.
– За мной, – скомандовал Логунов, и, свернув с дороги, мы двинулись дальше через снежные завалы. Не менее получаса мы преодолевали овраг. Наконец, видимо, посчитав, что мы достаточно зашли в тыл к бандитам, командир повел нас в сторону почти затихшей перестрелки. Я первым вышел на опушку леса и неожиданно увидел двух человек, бегущих от оврага к столбовой дороге.
– Стой, руки вверх, поганцы! Стрелять буду! – заорал я, в надежде привлечь криком увязших в лесной чаще товарищей.
Но в ответ на мой крик один из бегущих мгновенно повернулся и на ходу выпустил в мою сторону короткую пулеметную очередь. Как он в меня не попал с такого близкого расстояния, я до сих пор не понимаю! Инстинктивно отшатнувшись к ближайшему дереву, я вскинул свой карабинчик и приготовился выстрелить, но следующая очередь буквально вышибла его у меня из рук. Не рискуя более искушать судьбу, я упал на снег и достал свой служебный браунинг. Видимо, посчитав, что я убит или серьезно ранен, бандиты снова бросились бежать. Тем временем мои товарищи открыли из леса ответный огонь. Я встал на колени и, стараясь целиться как можно лучше, расстрелял вдогонку диверсантам всю обойму. По счастью, какая-то из выпущенных мною пуль сразила одного из бандитов. Другой же метнулся в сторону и исчез за кустами. Поскольку патроны в браунинге закончились, я снова упал в снег и затаился. Так вот. Пролежал я в канавке не более минуты, пока из леса не показались мой командир, Кольцов и Толька Лазарев.
– Ложись! – крикнул я им, увидев, что они бегут ко мне в полный рост. – Стреляют!
Но они меня не слушали. Командир принялся ощупывать мои плечи и спину, видно, подумав, что я ранен. А остальные ребята бросились к сраженному мной человеку.
Логунов помог мне выбраться из ямы, и мы подбежали к лежащему. Только тут я увидел, что пулемет, огня которого я так опасался, лежит в снегу, прямо под телом подстреленного. Скорее всего, диверсант, падая, накрыл его своим телом, а второй решил не тратить время на то, чтобы его вытянуть его из-под раненого. Кстати, с этим «Гокчисом» я изображен на фотокарточке. Оказалось, что раненый еще дышит, и в этой суматохе я совсем упустил из виду второго. Когда к нам подбежали начальник заставы и еще несколько пограничников, я сказал, что где-то неподалеку прячется напарник подбитого мной диверсанта. Пограничники обшарили окружающие заросли, но, кроме уходящих к станции следов, так ничего и не обнаружили. Было решено направить двоих бойцов с раненым нарушителем. Остальные же двинулись по следу улизнувшего диверсанта. Тем временем небо начало вновь затягивать облаками, и к утру, когда мы добрались до железнодорожной станции, вновь началась пурга. Как назло, в тот день было воскресенье, и нам пришлось долго разыскивать местного оперуполномоченного. Только к полудню мы отыскали его в гостях у кого-то из родственников. Уполномоченный к тому времени был уже «на бровях», но, к его чести, довольно быстро вник в суть дела и предпринял все, что было в его силах, а именно: позвонил на местную автобазу и выяснил, на месте ли все стоявшие в гаражах машины. Оттуда ответили, что три из них заняты на коммунальных работах. Одна перевозит муку, на другой бригада врачей выехала еще затемно в соседнюю деревню для проверки сообщения о массовом отравлении, а третья накануне сломалась и стоит на окраине поселка из-за отсутствия запчастей. Когда начальник заставы и Логунов обсуждали план поиска исчезнувшего диверсанта, в отделение милиции ворвался человек в шинели железнодорожника. Вся правая половина его лица представляла собой фиолетовый синяк, который он прикрывал красной обмороженной ладонью.
– Беда, Петрович! – крикнул он с порога. – Семен, напарник мой, час назад убит, да и маневровую нашу станционную «Овечку» из тупика угнали.
– Вот дьявол! – окончательно протрезвел начальник местного отделения милиции. – Не видать мне теперь повышения!
Он тут же принялся звонить на ближайшую узловую станцию, но все его попытки были тщетны, телефонная связь действовала только в пределах поселка.
– Он на паровозе ушел, гад! Все на выход! – скомандовал Логунов.
Мы построились у крыльца. Осмотрев свое измученное и голодное воинство, наши командиры поняли, что проку от нас будет немного, и повели нас к дороге. Спасибо секретарю местной партийной ячейки, выславшему нам вдогонку двое саней, иначе вряд ли мы в тот же день смогли бы вернуться обратно. Добравшись до заставы, я первым же делом побежал в лазарет, узнать про подстреленного мной нарушителя. Оказалось, что он хотя и очень плох, но находится в сознании и кое-что уже успел рассказать нашему комиссару, который снимал с него допрос.
Вечером того же дня мы ознакомились с его показаниями. Выяснилось, что он принадлежал к банде контрабандистов, действовавшей под руководством некоего Николая Лебедкина, более известного как Шестокрыл. За несколько дней до описываемых событий к Шестокрылу явились двое неизвестных и за сорок царских червонцев договорились с ним о том, что несколько его проводников проведут одного из них через границу и прикроют огнем в случае столкновения с пограничниками. Видимо, они пообещали главарю еще кое-что, поскольку обычно очень осторожный Лебедкин выделил аж шестерых человек, которых снабдил двумя пулеметами и крупнокалиберными американскими карабинами с оптикой. Они рассчитывали, что обычная для этого времени года пурга позволит им перейти границу незамеченными, но именно в ночь перехода погода неожиданно и резко изменилась. Попытавшийся было передвинуть срок выступления, Шестокрыл предложил своим заказчикам дождаться нового циклона, но, видимо, их спутника поджимали сроки, и было решено прорываться в ночь с субботы на воскресенье, то есть тогда, когда у пограничников обычно бывает банный день.
Что случилось потом, мы уже знали, но нас интересовали особые приметы лазутчика и с каким заданием он шел на нашу сторону. Однако на другой день раненому стало хуже и было решено переправить его и двоих наших раненых товарищей в шахтерскую больницу, располагавшуюся на окраине поселка, из которого мы накануне вернулись.
Часа примерно через два мы добрались до поселковой больницы. Логунов с двумя своими помощниками поехал на станцию, а я с Михеичем был оставлен при раненых. Больничка та была убогая и бедная, но более везти нам раненых было некуда. Только дождавшись редкого в тех местах эшелона с пассажирскими вагонами, можно было попытаться вывезти их на лечение в Хабаровск. Но обстоятельства сложились так, что никого никуда везти не пришлось. Раненому контрабандисту ночью сделалось совсем худо. Он дрожал как осиновый лист, поминутно пытался соскочить с койки, и то мне, то Михеичу приходилось чуть ли не насильно удерживать его на ней. Единственная санитарка была занята молодой роженицей в соседней палате. В ту ночь я получил от жизни суровый урок. Я ведь сам стрелял в мучающегося в горячке контрабандиста и теперь должен был бороться за его жизнь. Я постоянно обтирал его покрытое потом лицо мокрым полотенцем и поил морсом. Ближе к утру, когда за стеной закричал новорожденный, мой пациент вдруг выгнулся и замер в таком положении минут на пять или шесть. Потом обмяк, открыл глаза и взглянул на меня своими безумными, выкатившимися из орбит глазами.
– Маша, – довольно отчетливо произнес он, – накрой меня чем-нибудь, Маша.
Я сидел неподвижно, охваченный поистине животным ужасом. Я впервые видел, как умирает человек. Сжав зубы от непосильного напряжения, он сел и устало положил одну руку на металлическую спинку койки. Несколько секунд он судорожно вдыхал сырой больничный воздух, потом поднял голову и скороговоркой выпалил фразу, которую я помню и по сию пору.
– Ничего, Савелька, «Хромой призрак» и за тобой тоже вернется…
Рука его соскользнула, и он, обмякнув, рухнул с койки на пол. Я бросился его поднимать, но понял, что он уже мертв. В ту ночь я впервые напился до положения риз и утром, стоя вместе со всеми во дворе крохотной рудничной гостиницы, или, как тогда говорили, постоялого двора, ожидал от Логунова разноса. Но я ошибся. Он, казалось, не обратил на мое состояние ни малейшего внимания, а может, просто сделал вид, что не обратил. Его речь была коротка и энергична. Нам надлежало немедленно двигаться к грузовым пакгаузам. Уложив котомки и вычистив оружие, мы все собрались в указанном месте и вскоре увидели приближающийся крытый грузовик, на котором и началось наше почти полугодовое путешествие. Как скоро стало известно, мы переименовывались в специальную поисковую группу под патронажем только что образованного Смерша, и теперь нашей основной задачей были поиск и уничтожение засылаемых абвером в наши тылы шпионов и диверсантов. Опять началась кочевая жизнь. Постепенно мы продвигались на запад, к Уралу, очищая от немецкой агентуры железнодорожные полустанки и, самое главное, узловые станции. Однажды на станции Зима я поведал своим товарищам о той ужасной ночи наедине с умирающим контрабандистом, упомянув, естественно, и о словах, сказанных им перед смертью. Помню, Анатолий Лазарев и наш командир тогда многозначительно переглянулись.
С тех пор, хотя мне, разумеется, ничего не говорили, везде, где нам случалось бывать, они продолжали поиски скрывшегося от нас диверсанта. Иногда, перешептываясь между собой во время наших бесконечных разъездов, они, вольно или невольно, упоминали так и прилипшее к этому диверсанту прозвище. Наша группа пополнялась новыми людьми. Пришел к нам одессит Леня Годовиков, Семен Горский из Вологды, Павел Резанный из подмосковного Реутова. Он однажды меня удивил. Я, помнится, сидел на куче шпал и чистил пистолет, он подошел ко мне и протянул свою узкую, но цепкую ладонь.