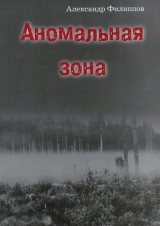
Текст книги "Аномальная зона"
Автор книги: Александр Филиппов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
4
В ту пору в Особлаге содержалось около четырёх тысяч заключённых. Несмотря на распространившиеся и на пенитенциарную систему законы военного времени, отменившие выходные дни, повысившие норму выработки и позволявшие администрации лагеря расстреливать отказчиков от работы, саботажников, злостных нарушителей режима содержания, жить осужденным стало чуть легче. Прежде всего потому, что новый приток заключённых резко сократился. Уголовников-бытовиков, блатных, как социально близкий рабоче-крестьянской власти элемент эшелонами гнали на фронт, опустошая лагеря. В зонах оставались в основном «политические», осуждённые по 58-й статье, да инвалиды, негодные к военной службе. Так что ковать победу в тылу приходилось малыми силами. А потому Марципанов распорядился беречь людей. И по-прежнему вышибая из них план по добыче золота, лесозаготовкам, кормить стали получше, не разворовывая из котла и без того скудный паёк, не морозя без толку на долгих просчётах, не наказывая жёстко, как прежде, когда за малейшую провинность избивали до смерти или калечили, расходуя тем самым понапрасну человеческий материал.
Полковник сам едва ли не ежедневно появлялся на лагерной кухне, следил за строгим соблюдением нормы закладки продуктов в котёл, контролировал раздачу пищи, чтобы миска с баландой была до краёв наполнена у каждого зека, выполняющего норму выработки, а пайка выданного ему хлеба весила ровно пятьсот положняковых грамм.
Начальник лагеря лично изловил и собственноручно расстрелял хлебореза, «наэкономившего» на порциях две полновесные буханки, которые тот намеревался продать блатным.
Для секретной лаборатории за пределами промзоны выгородили дощатым забором, пустив поверху несколько рядов колючей проволоки, участок тайги размером в пять гектаров. На раскорчёванной от пней площадке ударно, днём и ночью тюкая топорами и визжа пилами, зеки возвели общежитие для учёных, помещение для научных исследований, склады, тёплый барак для волосатых подопытных, вахту с тяжёлыми и крепкими, из бревён-окатышей воротами, расставили по четырём углам периметра вышки для часовых.
Никто из сотрудников лагеря, за исключением полковника Марципанова, не имел доступа на секретную территорию. Даже надзорсостав ограничивался охраной только внешних заграждений лаборатории. Внутри командовал академик Чадов. Еженедельно подавал на имя начальника лагеря заявку, в которой указывал перечень необходимых для жизнедеятельности закрытого объекта продуктов питания, оборудования и которая неукоснительно удовлетворялась в полном объёме. Кое-какую аппаратуру через наркомат внутренних дел выписывали аж из Москвы, из других городов, где располагались военные «номерные» заводы.
Даже когда пожилой академик, пожаловав в кабинет начальника лагеря, попросил предоставить в распоряжение учёных для продолжения эксперимента десять женщин-заключённых детородного возраста, Марципанов, не сморгнув глазом, приказал отобрать и направить в спецлабораторию партию зечек от двадцати до тридцати лет из вновь прибывшего этапа. Война катилась к победоносному завершению, Советская армия отбирала назад оккупированные немцами территории, и в лагеря косяком пошли женщины, осуждённые за связь с врагом.
Академик, тряся седенькой бородкой, уверял Марципанова, что ничего страшного в ходе эксперимента с подопытными заключёнными не произойдет. Полковник равнодушно пожал плечами:
– Как их использовать – ваша забота. Вы мне, главное, если не живыми, то хотя бы мёртвыми их верните. Для списания и актировки. Впрочем, можете только руки отрубить и для отчёта предоставить. Мы по отпечаткам пальцев с личным делом сличим и как умерших спишем…
Академик закашлялся, уткнулся в платок и, замахав руками, выскочил из кабинета. Но женщин, отобранных спецчастью для опытов, чуть позже взял.
Марципанов не без умысла дистанцировался от деятельности лаборатории. Ещё неизвестно, чем эти эксперименты закончатся, и разделять с учёными ответственность за их результат он вовсе не собирался.
С тех пор минуло уже десять лет. Умер академик Чадов. На смену ему из столицы прислали нового руководителя секретных работ. Менялись и другие сотрудники. Двое умерли своей смертью, один повесился, другой, опившись лабораторного спирта, попытался бежать и был застрелен часовым ещё в запретке, на подступах к основному заграждению.
На смену им приезжали новые. Иногда это были честолюбивые молодые учёные-комсомольцы, готовые посвятить жизнь, казавшуюся им по малолетству безбрежной, науке и ради неё добровольно забиравшиеся в таёжную глухомань, все – с вольнодумным блеском в глазах, который, впрочем, скоро гас в тени крепких заборов и стальных решёток на окнах. Другие новички приходили этапом. Это были истощённые на лесоповалах и в золотых забоях матёрые зеки, отбывшие на общих работах по нескольку лет. Кто-то где-то в верхах, перебирая их личные дела, наткнулся на былую принадлежность осуждённых к науке и пристроил туда, где нужнее они были в данный момент стране – в секретную лабораторию.
Эти воспринимали новое место заключения как подарок судьбы.
Марципанову особо запомнился один такой паренёк. Он не был, в отличие от других зеков, прибывших в одном с ним этапе, худ, измождён. По шкодливому выражению глаз полковник безошибочно распознал в новичке стукача.
– Как твоя фамилия, сынок? – спросил его, распределяя в карантине этап, полковник.
– Осуждённый Великанов, – с готовностью вытянулся тот, сжимая в руках узелок с личными вещами, на зоновском жаргоне – сидор.
– Кто по профессии?
– Биолог, химик.
– Готовил взрывчатку для террористических целей, – пояснил начальник оперчасти, присутствовавший при том. – Статья пятьдесят восьмая. Срок – двадцать лет.
– Не-е-е, – добродушно улыбнулся молодой зек. – Я самогон гнал. А маманя его на рынке сбывала. Ну, и милиционерам наливала, чтоб, значит, не замели. А водку я из говна делал. Начерпаю из сортира в бочку, дрожжей добавлю, а как перебродит – в аппарат. Ну, милиционеры про то и прознали. Шибко обиделись, что целый год мою продукцию говённую пили. Напрасно я им растолковывал, что исходный компонент значения не имеет. Главное, что конечный продукт – химический чистый спирт. Нет, припаяли статью и спрятали, – вздохнул парнишка. – А спирт – его из чего угодно гнать можно. Из той же целлюлозы, к примеру. Проще говоря, из опилок. А их здесь, в тайге, полно.
Полковник сообразил, что такой специалист ему самому вполне сгодиться. И не стал направлять шустрячка в лабораторию. Ведь оттуда, вплоть до особого распоряжения Берии, выхода никому не было!
Приспособив юного химика гнать спирт в промзоне для нужд начальника лагеря, Марципанов тем самым, не подозревая, спас будущего академика, гуманиста и совесть нации от бесследного исчезновения как участника секретного проекта.
Через год способный зек заболел, попал в центральную больницу ГУЛАГа, откуда в Особлаг уже не вернулся. Умение гнать спирт из дерьма и опилок, как подозревал полковник, оказалось востребованным и тамошними докторами…
Так неспешно, по заведённому должностными инструкторами порядку, шли дела в Особлаге до марта 1953 года. Даже амнистия, изрядно обезлюдившая ГУЛАГ, хозяйства Марципанова, где содержались в основном политические, не слишком коснулась. И вот теперь этот внезапный вызов в Москву. Лично к товарищу Берия.
5
Как было оговорено при первой встрече, полковник, выбрав наугад уличный телефон-автомат, позвонил по заученному ещё тогда номеру, назвал себя и произнёс условленную фразу:
– Здравствуйте. Я привёз посылку – баночку красной икры для вашего папы…
В трубке что-то щёлкнуло, и невыразительный голос предупредил:
– Минуту… – а потом сообщил буднично: – Арбат, дом восемнадцать, вход со двора, квартира двадцать один. Семь часов вечера.
И сигнал отбоя, как многоточие: бип-бип-бип…
Марципанов посмотрел на часы. Времени до встречи оставалось достаточно. Он решил прогуляться по центру Москвы.
Толчея на тротуарах вначале сковывала, а обилие вольных, идущих свободно, без всякого конвоя, людей, даже пугало. Непривычным было то, что встречные не замирали почтительно, не тянулись во фрунт перед полковником в грозной синей фуражке, не замечали будто бы человека, в другом месте и при других обстоятельствах способного одним движением брови стереть любого из них в порошок, превратить в лагерную пыль, в ничто.
Лишь изредка козыряли ему военные, да и те, особенно фронтовики, легко узнаваемые по иконостасу орденов и медалей на кителях и гимнастёрках, отдавали честь походя, небрежным взмахом руки к козырьку, что тоже раздражало изрядно.
«Ну, ладно, герои, погарцуйте, посияйте орденами пока, – скривил губы в усмешке полковник. – Ишь, расчувствовались, победители хреновы… Рано Иосифа Виссарионовича схоронили… Погодите, мы с Лаврентием Палычем ещё научим вас Родину любить. Всех построим по ранжиру и заставим по струнке ходить! Перед нами, бывалоча, генералы да маршалы на брюхе ползали!»
Что-то, и Марципанов остро чувствовал это, изменилось в людях после смерти вождя. Например, отчётливых флюидов ужаса при виде его гэбэшной формы от них он уже не улавливал. Более того, раза два его грубо задели плечом, не посторонившись, в толпе, наступили на сияющий носок хромового сапога, что тоже было немыслимым в прежние времена.
Шестиэтажный дом с облупившейся штукатуркой, с фанерными листами вместо стёкол в некоторых окнах, где была назначена встреча, оказался обыкновенным жилым. В сумрачном, без единого деревца дворе-колодце, тесно зажатым с четырёх сторон мрачными корпусами дореволюционной постройки, гомонила расплодившаяся после возвращения оголодавших в окопах по женской ласке отцов послевоенная голопузая малышня. Вполне мирный, заурядный московский двор. Однако по тому, как мгновенно напрягся при его появлении угрюмый дворник-татарин, до того безразлично шаркавший метлой по растрескавшемуся асфальту, по профессионально оценивающему взгляду, брошенному из-под кустистых бровей на подошедшего к подъезду полковника точильщиком, покрикивающим заунывно: «Точу ножи, ножницы, бритвы пра-а-авлю…», Марципанову стало ясно, что подступы к месту явки надёжно блокированы.
Поднявшись по истёртым тысячами ног ступеням, миновав довольно натурально милующуюся на подоконнике парочку, Эдуард Сергеевич оказался на лестничной площадке второго этажа, заставленной детскими колясками, велосипедами, старыми сундуками и прочей рухлядью. Отыскав нужный номер квартиры, он позвонил в дверь с бронзовой табличкой «Доктор Шлоссберг».
Ему открыли практически сразу – наверное, наблюдали в окно за тем, как он вошёл во двор.
– Полковник Марципанов, – отрекомендовался с порога Эдуард Сергеевич.
Человек в штатском, кавказской внешности, с тонкими усиками на верхней губе, внимательно осмотрел визитёра, кивнул и, шагнув в сторону, предложил коротко:
– Входите.
Полковник прошёл в просторную полутёмную прихожую. Провожатый, маячивший за его спиной проскользнул вперёд и, тихо постучав костяшками пальцев в одну из дверей, тронул за погон гостя:
– Прошу.
И в этой комнате было сумрачно из-за плотно зашторенных окон. Войдя, Марципанов сразу признал сидевшего за столом и, вытянув руки по швам, поприветствовал дрогнувшим от волнения голосом:
– Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза! Прибыл по вашему приказанию.
– Садись, полковник, – сухо предложил Берия, указав на стул напротив. И, не вставая, протянул пухлую вялую ладонь. – Здравствуй.
Марципанов, несмотря на полумрак, заметил, как изменился за те десять лет, что они не виделись, второй человек после Сталина. Постарел, обрюзг, совсем облысел. Сейчас, в штатском костюме, всесильный шеф государственной безопасности больше напоминал пожилого южанина – торговца фруктами на столичном базаре.
– Как дела в вашем хозяйствэ? – с лёгким грузинским акцентом поинтересовался маршал.
– Работаем, Лаврентий Павлович, – осторожно ответил Эдуард Сергеевич. – Плановые задания выполняем. Лаборатория функционирует нормально.
– Нэ нормально! – повысил голос маршал, но, заметив, как дёрнулся визитёр, махнул вяло рукой. – Сиди спакойна! Это к тебе не относится. Видишь, в каких условиях встречаться приходится? В подполье. А ты гаварышь – нармальна! – потом, успокоившись, достал из бокового кармана пиджака смятый клетчатый платок и утёр лоб, лысое темя. – Ладно. Оставим эмоции, – акцент в его произношении снова исчез. – Слушай приказ. – Увидев, что полковник вскочил со стула, поморщился досадливо: – Говорю – сиди. Вернее, присаживайся. Сидят в твоём лагере преступники и враги народа. А мы с тобой не враги, а друзья советского народа. Причём самые лучшие и преданные друзья! Не то что разные там ревизионисты… Так вот. Приказ тебе будет такой. Сегодня же возвращаешься домой. В пути не задерживайся – время дорого. Как вернёшься – лагерь объявишь находящимся на особом положении. Всю охрану – в ружьё, зеков – в бараки. Любые выезды за пределы гарнизона, включая служебные командировки личного состава запрещены. Мотивируешь этот приказ осложнением политической ситуации в стране, попыткой государственного переворота…
– Не может быть! – побледнел Марципанов. – Никто не посмеет…
– Это у тебя в тайге не посмеют, – усмехнулся Берия. – А здесь такие вихри враждебные задувают!
Полковник кивнул и даже позволил себе поддакнуть:
– То-то я смотрю, товарищ маршал Советского Союза, народишко хвост распушил. Фронтовики совсем обнаглели… Опять же амнистия эта… Столько швали из лагерей на волю вырвалось!
– Шваль – это хорошо, – задумчиво подтвердил Берия. – Это я специально так распорядился. Тут, в Политбюро, нашлись такие: дескать, после смерти вождя народу-победителю послабление надо дать. Либералы хреновы. Ну, нате вам послабления. Жрите. Вот он, ваш народ, – из-за колючей проволоки, тупой, злобный, с финкой за голенищем… Ничё-ё-о-о, как начнут здесь, в Москве, уголовники всех подряд резать – быстро по железной руке, по ежовым рукавицам соскучатся! А пока… пока, полковник, в Политбюро ЦК предатели оказались! Заговоры плетут. Всё, что хозяином сделано, разрушить хотят. Компромат собирают. На меня, на других верных ленинцев…
Полковник не выдержал, вскочил-таки со стула, сжал кулаки:
– Не допустим… Только прикажите… В порошок, в лагерную пыль сотрём… Как собак бешеных перестреляем!
– Не кипятись, – растянул губы в недоброй улыбке маршал. – Будет и на нашей улице праздник. В твоей личной преданности делу вождя и партии я не сомневаюсь. Таких, как ты, старых служак, много. Придёт день – на фонарях вражескую мразь вешать по всей Москве будем! На Красной площади башки рубить! Но всему свое время. А сейчас… Я распорядился. Все документы, касающиеся твоего лагеря и спецлаборатории, все личные дела на сотрудников и зеков из архивов изъяты. Нет больше такого лагеря. Тебя нет, людей нет и никогда не было. Понял?
– Не совсем… – замороченно тряхнул головой Марципанов.
– Сейчас, после реформ, в документах сам чёрт не разберётся, – терпеливо объяснил маршал. – Передаём архивы, личные дела из МВД в Минюст, из Минюста – опять в МВД… Кое-что, по моему указанию, убрали совсем, кое-что подчистили, подправили. В итоге всё, что касалось твоего Особлага, любое упоминание о нём – уничтожено. Фамилии охраны и заключённых из всех ведомостей, списков, перечней вымараны. Никто не знает, куда вы делись. Не знают даже, что вы вообще на свете существовали. Теперь понял?
– Понял! – с готовностью кивнул, так и не уразумев, куда клонит шеф, Марципанов.
– Хорошо. В ближайший месяц ты ещё успеешь принять эшелоны с продуктами питания, медикаментами, оборудованием. От меня лично. Это – последние. Потом рассчитывай только на свои силы. На внутренние, так сказать, ресурсы. Любая связь с внешним миром запрещена. Главная твоя задача – обеспечить дальнейшую деятельность спецлаборатории. Любое неповиновение пресекаешь самым беспощадным образом. Всех, отказывающихся подчиняться дисциплине и работать в особых условиях, колеблющихся, ненадёжных – ликвидировать. Под мою ответственность. Сколько у тебя сейчас под охраной?
– Четыре тысячи. Три тысячи мужчин и тысяча женщин. В основном опасные государственные преступники, изменники Родины. Уголовников, рецидивистов человек триста. Ну, это социально близкий нам элемент, с ними проблем не будет.
– Персонал лагеря?
– Вохра, вольнонаёмные, члены семей – с полтысячи наберётся.
– Хорошо, – кивнул удовлетворённо Берия. – А сколько прокормишь, если без помощи извне?
– Половину, пожалуй, потянем. А если подсобное хозяйство расширить – то тысячи три человек обеспечим.
– Остальных – в расход. Все подступы к лагерю замаскировать. Железную дорогу разобрать. Сёла поблизости есть?
– Да нет, там болота одни, товарищ маршал.
– Вот и отлично. Да, постарайся сделать так, чтобы тебя с воздуха не засекли. Я имею в виду постройки.
– Замаскируемся, – уверил Марципанов.
– Ну и добро, – удовлетворённо вздохнул Берия. – Значит, все концы в воду. Вернее, в болото. Спрячься. Затаись. Никаких контактов с внешним миром. Продержись так… э-э… скажем, год. А потом, когда здесь всё уляжется, я тебя не забуду, полковник.
О том, что Берия арестован и расстрелян, Марципанов узнал полгода спустя. И не без основания полагая, что может разделить судьбу маршала, решил ничего не менять в устоявшемся быте секретного лагеря. И продержался так почти шестьдесят лет…
6
Полковник, встречаясь с последний раз с маршалом, не знал, что незадолго до внезапной кончины, Сталин пригласил Берия и, кроме прочего, поинтересовался работой секретной лаборатории, спрятанной от глаз и своей, и зарубежной общественности в таёжной глуши.
Правда, разговор этой деликатной темы коснулся не сразу. В начале министр внутренних дел был вынужден присутствовать при разносе, учинённом генералиссимусом Хрущёву.
Когда секретарь Иосифа Виссарионовича Поскрёбышев предложил Берии пройти в кабинет хозяина, то успел шепнуть:
– Он не один. Там Никита Сергеевич.
Маршал открыл дверь и нерешительно застыл у порога.
– Входи, Лаврентий, – кивнул ему Сталин.
Он по обыкновению прогуливался по ковровой дорожке вдоль длинного стола и раздражённо попыхивал трубкой. А посреди кабинета застыл по стойке смирно секретарь ЦК, первый секретарь Московского областного комитета партии Хрущёв.
Берия шагнул на мягкий ворс ковра и остановился поодаль от Никиты Сергеевича, всем своим видом показывая, что даже находиться рядом с этим обладуем и клоуном ему, министру внутренних дел, неприятно.
– Посмотри, Лаврентий, на этого дармоеда! – указал Иосиф Виссарионович мундштуком трубки на провинившегося. Последнее слово генералиссимус выговорил с нарочито-броским кавказским акцентом, отчего оно прозвучало ещё более уничижительно и зловеще – «да-а-р-р-моэд!». – Я поручил ему лично курировать деятельность научно-исследовательского института в Ленинских Горках, который возглавляет академик Трофим Лысенко. Что ты мне обещал, Никита?
Хрущёв, апоплексично-красный, вращал глазами – вверх-вниз, по стенам, не фиксируя взгляд на хозяине кабинета, сопел тяжело, предынфарктно.
– Ты ведь не просто Сталину обещал, Никита, – продолжил между тем генералиссимус грустно. – Ты всему советскому народу в лице его руководителя обещал. Что будет выведена новая порода крупного рогатого скота, дающего молоко с жирностью до тридцати процентов. Разве советский народ, вынесший на своих плечах все тяготы второй мировой войны и одержавший в ней блистательную победу, не заслужил такого качественного продукта питания? Разве израненные на фронтах бойцы доблестной Красной Армии не должны поправлять своё здоровье, кушая свежее молочко? А дети – наше будущее? Ты лишаешь советскую власть будущего, Никита!
При этих словах Берия подобрался и, как снайпер сквозь оптический прицел, глянул уничтожающе на Хрущёва. Преступление против советской власти – это серьёзно… Он вопросительно посмотрел на Сталина: дескать, прикажете увести?
– Подожди, Лаврентий, – правильно расценив намерения маршала, успокоил его генералиссимус. – Это ещё не всё. Наши моряки, бороздящие мировой океан, со всех широт земного шара доставляли в Горки морских коров, тюленей и даже китов. Лысенко спаривал этих животных с нашими коровами. Денег потратили столько, что на них можно было бы три танковых колонны купить. Знаешь, с кем забыли спарить кита, Никита? – грозно топорща усы, посмотрел Иосиф Виссарионович на Хрущёва.
– С кем? – чуть слышно, совсем упавшим голосом выдохнул тот.
– С тобой, Никита! А в итоге такого акта не осталось бы ни кита, ни Никиты! – Сталин развеселился от удавшегося каламбура и с удовольствием повторил: – Ни кита, ни Никиты!
Берия тоже заулыбался, хищно скаля зубы в сторону Хрущёва и позволил себе заметить:
– Это мы быстро оформим, Иосиф Виссарионович! Нам такой эксперимент провести – раз плюнуть. Можем с китом товарища Хрущёва скрестить. А можем – со слоном…
Сталин, став серьёзным, подошёл к своему столу, взял несколько листков бумаги стал читать, дальнозорко отставив от глаз.
– Вот послушай, Лаврентий, какие рекомендации направил академик Лысенко с благословения большевика-ленинца Хрущёва в колхозы Куйбышевской области. Эти, с позволения сказать, коммунисты рекомендуют председателям колхозов для получения жирномолочной породы крупного рогатого скота выпаивать телят жирным молоком с раннего возраста. Эти горе-академики, Лаврентий, утверждают, что гены телят изменятся под воздействием жирного молока и обеспечат в последующем жирномолочность потомства таких животных! В колхозах кормили телят таким жирным молоком. И знаешь, что получили в итоге, Лаврентий? Фигу с маслом они получили!
– Э-э… – проблеял нерешительно Хрущёв.
– Что, Никита? – участливо глянул на него Сталин.
– В опытном хозяйстве Лысенко научный эксперимент завершился успешно. И потомство давало молоко повышенной жирности…
– Ты дурак, Никита! – с отвращением сказал ему Сталин. – Ты веришь разным проходимцам-учёным. А я никому не верю. И когда заинтересовался результатами опытов Лысенко, мне донесли верные люди, что для повышения содержания жира в молоке хитрый Трофим кормил коров шоколадом! Что мы сделаем с этими лгунами, Лаврентий? – повернулся он к Берии. – Давай их, как вредителей, расстреляем!
Хрущёв изменился в лице, пошатнулся, бухнулся на колени.
– Простите, товарищ Сталин! Я… я всё искуплю! Собственной кровью! Слово убеждённого большевика!
Генералиссимус посмотрел на него задумчиво, пыхнул трубкой, а потом, пряча под рыжими усами усмешку, пообещал:
– Прощу, Никита. Если ты мой сапог поцелуешь.
И выставил вперёд ногу в мягком, сшитом на заказ из козьей кожи, потёртом изрядно сапожке.
Хрущёв упал пузом на ворс ковра, елозя, дополз до пахнущего ваксой голенища, чмокнул его громко, взасос. Потом, с всхлипом, ещё раз. И ещё.
Сталин отдёрнул ногу, покачал удручённо головой:
– Тридцать шесть лет советская власть на дворе! А что в человеке изменилось, Лаврентий? – А потом брезгливо бросил Хрущёву: – Говно ты, а не большевик, Никита. Прощаю тебя. Пошёл вон!
Хрущёв на удивление шустро для свой комплекции вскочил, шариком на кривоватых ножках выкатился из кабинета.
Генералиссимус вернулся за стол, сел в жёсткое, обитое чёрное кожей кресло, устало махнул рукой.
– Садись, Лаврентий. Что ты скажешь об этом перерожденце?
– Сегодня же арестую, товарищ Сталин.
– Да ладно, – генералиссимус обессиленно откинулся на спинку кресла. – Пусть поживёт пока. Мало мы их арестовывали, стреляли? Разве они поумнели от этого? Хитрее стали, подлее и беспринципнее… Этого уничтожим – другой на его место придёт, ещё хуже. Хрущёв – дурак, оттого не опасен. Пока мы живы с тобой – не опасен, – добавил он после некоторого раздумья. Потому выбил содержимое трубки в пепельницу, дунул в мундштук, прочищая, продолжил неторопливо: – Знаешь, Лаврентий, я думаю, это хорошо, что многих коммунистов мы пропустили через лагеря. После революции большинство из них расселись по тёплым должностям, зажирели. Они оторвались от народа. А мы их опять погрузили в народ. В самую его гущу, на самое дно. Неволя закаляет человека, делает его умнее, нравственно чище. Все настоящие революционеры прошли через тюрьмы… Ты видел сейчас этого говнюка Хрущёва? Если бы он оказался в камере, его бы там поместили возле параши. А мы эту дешевую шлюху, петуха лагерного секретарём ЦК сделали… Я семь раз ссылался на каторгу. Десятки тюрем и пересылок прошёл. Блатные урки при моём появлении в камере с нар соскакивали, лучшее место уступали. Знали – если что не так, Коба любому глотку перегрызёт. Я шесть раз бежал. Зимой, сотни вёрст по тайге! Кто из нашего Политбюро способен сейчас на такое? Ты? Ворошилов? Может быть, Каганович или Микоян? Никто из вас не способен на такое. Зажрались, отяжелели, мозги салом заросли! Да… Ушли старые политкаторжане, и партия ослабла… Надо нам чаще коммунистов, Лаврентий, сажать. Пусть закаляются…
Берия, поперхнувшись от неожиданности, закашлялся, конфузливо прикрывая губы рукой. Потом, отдышавшись, напомнил сдавленным голосом:
– Я тоже сидел, Иосиф. Помнишь? В Тифлисе… И потом ещё в Кутаиси…
– Знаю, знаю! – поморщился Сталин и, разломав поочерёдно две папиросы «Герцеговина Флор», принялся набивать душистым табаком трубку. – Не о тебе сейчас речь. Я о другом думаю. А надо ли было вообще затевать?
– Что, Иосиф? – участливо склонился в сторону старого партийного товарища Берия.
– Вот это всё, – неопределённо указал генералиссимус в сторону висевшей на стене карты Советского Союза, утыканной сплошь красными флажками, обозначавшими места строительства новых производственных объектов – фабрик, заводов, электростанций. – Без меня наверняка всё развалят, растащат, разворуют. Вы думаете, легко такую дурную страну, как Россия, на доброе дело всю целиком повернуть? Думаете, ваш вождь – самодур, тиран или, как писака один выразился, – людоед? Да просто, стоя во главе Российской империи, нельзя быть другим, – слабым, снисходительным. Думаешь, мне не жалко людей? Ещё как жалко. Но чтобы счастливо было большинство, требуется жертвовать меньшинством…
Берия слушал сосредоточенно, пряча глаза за стёклышками очков, молчал.
– Может быть, чтобы остаться в истории, в памяти людской на тысячелетия и вызывать при этом восхищение у потомков, надо было не Советский Союз построить, а гигантскую пирамиду? Вроде Хеопса? Где-нибудь в центре Сибири! Чтобы человечество пятьдесят веков спустя благоговело перед гением Сталина?
– Только прикажите, товарищ генералиссимус! – вскочил с готовностью Берия.
– Сядь! – гневно сверкнул на него Сталин глазами. – Не делай из меня дурака. И из себя тоже. – Сердито попыхтев трубкой, успокоился, опять настроился на неторопливый лирический лад. – Когда я умру, Лаврентий, людская молва нанесёт много мусора на мою могилу. Но ветер истории развеет его! – легонько пристукнул чубуком трубки по сукну стола. А потом вдруг добавил пророчески: – Я, Лаврентий, скоро умру. Умру сам. Своей смертью. А тебя они расстреляют. Ты недолго после меня проживешь. И знаешь, кто первый бросит в нас камень? Самый ничтожный из них. Лизоблюд, слизняк, шут гороховый Хрущёв. Потому что мы его пожалели. За ним придут другие, ещё более ничтожные, чьих имён мы с тобой даже не знаем сейчас. Они разрушат всё построенное нами. И чернь будет бесноваться на обломках великого советского государства, построенного нами для этой черни, и психология быдла, удовлетворение его животных потребностей и желаний, станет определяющим в нашей несчастной страны. Но мы с тобой этого, слава богу, никогда не увидим… А пока мы живы, – после короткой паузы обратился вдруг совсем другим, деловым, тоном к собеседнику Сталин, – скажи-ка мне, Лаврентий, зачем ты спрятал в тайге каких-то сумасшедших вейсманистов-морганистов и тратишь народные деньги на их дурацкие опыты? Нам что, одного проходимца Лысенко мало?
Не ожидавший такого вопроса Берия мигом встрепенулся, проклиная себя за то, что на минуту-другую расслабился или забыл, с кем дело имеет. И выдал по-военному чётко и твёрдо:
– Я спасаю настоящих учёных, Иосиф Виссарионович. Вы же сами только что убедились, что в научных кругах творится. Аферисты-лысенковцы, оставь я этих людей в Москве, на свободе, их со свету быстро сживут! А там они у меня в безопасности. Их научным изысканиям ничего не мешает.
– А правда ли, что они изыскивают способ, как нам нового, более совершенного человека вывести?
– Правда, Иосиф Виссарионович. – И выдал заранее заготовленное, а потому прозвучавшее особенно убедительно: – Мы не можем ждать милостей от природы, товарищ Сталин. И от идеологического воспитания человека пора с помощью науки переходить к созданию человека с особой, советской, идеологией, человека-труженика, воина, целиком подчинённого интереса общества, полностью лишённого недостатков, присущих обыкновенным людям – лени, корысти, зависти, трусости…
– Ладно, – перебил его Сталин, – это хорошо, что ты о науке заботишься. Нам с тобой недолго осталось. Пора и о душе подумать. Пусть твои учёные работают. Может быть, у них что-то и получится… Может быть, дело действительно не в нас с тобой, а в человеке как особи… Иди, Лаврентий…
Через неделю, 5 марта 1953 года, Сталин умер. Лаврентия Берию арестовали 26 июня и, по слухам, в тот же день расстреляли.
А секретная лаборатория в Особлаге продолжала работать.








