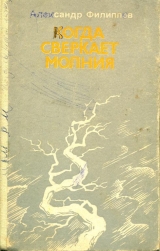
Текст книги "Когда сверкает молния (сборник)"
Автор книги: Александр Филиппов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
«Возлюбленная, узкие брови твои – два легких крыла ласточки. Волосы твои, как ночной ветер, колеблются они густой теменью.
А глаза твои – две влажные смородины, но прекраснее во сто крат, ибо внутри их светится любовь.
Пройди мимо меня, возлюбленная, я коснусь губами травы, на которую ступили ноги твои, родная. Рано утром открой калитку и пройди мимо меня, я испью губами росу на луговых цветах, где только что прошла ты.
Длинные пальцы твои, как стрелы камыша на берегу нашего озера.
Скажи мне, и я достану с неба этот золотой полумесяц и выкую из него дорогие серьги для маленьких мочек ушей твоих.
Возлюбленная, ты слышишь печаль моего сердца? О, если бы было оно драгоценным камнем, я б расколол его на сотни жемчужин и повесил на грудь твою это сверкающее ожерелье.
Возлюбленная, услышь биение моей тоски...»
Послышались всхлипы. Вероятно, заплакала Миннигуль. Стихла мелодия. До меня еле внятно долетел хриплый голос Зарипа:
– Да не плачь ты, дуреха. Не жалей свои кошмаки. Я же не напрасно спину ломал за двоих, день и ночь работал. Приплывем в деревню – отделю тебе от своих бревен сколько надо. Не жалей, не плачь.
– Я не о дровах, Зарип, плачу, не о них дума, – сказала Миннигуль.
– О чем же тогда? – спросил он.
Долго-долго длилось молчание. Й, не дождавшись ответа, он снова с непонятной тревогой в голосе переспросил ее:
– О чем же слезы твои, родная?
– О нас с тобой, Зарип. Печально мне совсем стало. И с тобой рядом печально, а без тебя и вовсе грусть съедает.
– Не надо так убиваться, Миннигуль. Время пройдет – все залечит.
Она, чувствуется, обиделась на его слова. Зашуршала трава: отодвинулась от него, насмешливо сказала:
– Все вы мужики такие. Время залечит...Как бы не так! У женщин сердце другое, у меня тоже другое, Зарип. Я теперь никогда, никогда не забуду твоих ласковых рук, твои сладкие губы...
Опять воскресла мелодия. Она была еще тоскливее, чем минуту назад. Плакал и надрывался печальный курай. Плакал, но мелодия его была по-прежнему прекрасной и светлой.
– Не надо, Зарип, не надо. Плакать хочется, – тихо, покорно сказала Миннигуль.
За горами, за кромкой зубчатого леса прорезалась заря. Предрассветный холодок вместе с белой пеленой тумана опустился с гор к берегу реки. Курай замолк, и тишина разлилась по речной долине.
ТЕЛЕФОНИСТКА ЗИНА
В палисаднике в тесном окружении колючего шиповника и мягкой сирени стояла березка. Весной она самой первой рвалась к солнцу, разбрызгиваясь крохотными пятнышками нежно-зеленых листьев. Весело шумела под окном все лето. А осенью опадала самой последней. Уже голые ветви тополей и черемух грустно покачивали на себе продрогших воробьев, а она, нарядная, все еще пылала оранжевым костром листвы.
Мать говорила, что посадил эту березку отец, когда на фронт уходил. Взяли его весной в сорок третьем, в том же году родилась и она, Зинка. Отца своего она не видела и не знает совсем, пропал он без вести в самом конце войны.
Загустели осенние сумерки. Упавший с клена лист медленно прочертил синее стекло и приземлился, планируя. Сентябрь стоял необычно ведренный, теплый. Почтовая контора вечером опустела, одна дежурная телефонистка осталась за коммутатором. Ночью работы почти никакой, и Зина то книгу какую читает, то несвязно думает о разном. «Пропал без вести – слова-то какие. Как можно пропасть, затеряться на земле, когда ты еще и родиться не успеешь, а за твоей спиной уже десятки справок всяких и документов».
Зина глядит в темноту осенних сумерек и смутно рисует перед собой картину своего житья-бытья в том случае, если б отец жив был. Может быть, она не сидела б сейчас в конторе связи, надоевшей до чертиков, может быть, училась в институте и жила в городе? Кто его знает.
Зина не помнит даже, спрашивала ли она когда про отца у матери. Сиротство ее въелось в кровь с самых первых дней жизни. Постепенно, исподволь. Казалось, что отца не было никогда. И детства тоже не было. Оно проходило бесцветно и безлико. Из всех воспоминаний о детстве только одно, пожалуй, навек врезалось в память – это дикая тоска о хлебе.
Село Красный Ключ большое, крепкое. Стоит оно в глухих башкирских урманах. А потому избы здесь добротные, все под тесом. Глиной их, как где-нибудь в степных районах, никто и никогда не обмазывает. Обнаженные ребра сосновых бревен дышат все лето густым настоем смолы. Хлеба здесь сеют мало. Картошка и та плохо родится. Долго еще в послевоенные годы деревня на обе ноги хромала от недостатка обычного хлеба. В тех домах, где хозяин был, пусть даже безрукий или хромой, достаток, хотя и медленно, но приходил.
Зинке пришлось хуже, чем другим. Мать с утра до ночи работала в колхозе. Приходила домой поздно, тут же хваталась за лопату и бежала на свой огородишко...
Замигал глазок коммутатора. Звонили из города.
– А, это ты, Вера... Чего делаешь?
– Да ничего, скучаю. Работы почти никакой, вот и звоню тебе.
По ночам телефонистки из разных мест часто звонят друг другу. Знакомятся. У некоторых завязывается своеобразная заочная дружба. Не знакомые в лицо, они искренне делятся между собой сердечными тайнами. Вместе думают и мечтают. Зина познакомилась с Верой давно, еще в самые первые дни работы на почте. Сначала телефонные разговоры. Потом Вера пригласила ее в воскресенье приехать к ней в город. Они вместе сходили в кино. Уничтожили добрый десяток пломбира. Вера тоже приезжала в Красный Ключ. На старых вырубках собирали малину и грибы, купались в холодных водах Караидели.
– Красотища-то здесь какая! – ахала изумленная Вера. – Век бы жила здесь...
– Вот и оставайся, никто не, гонит, – улыбалась Зина. – А то все вы так. Красотища, красотища, а чуть что, так сразу в город. Там легче, конечно. Отработал свое – и беги куда хочешь.
– Ну, до свидания. Светать скоро будет.
– Пока...
– На субботу не приедешь?
– Не знаю, сама лучше приезжай. Грибов нынче уйма...
Вот так от дежурства к дежурству бегут дни сельской телефонистки, похожие друг на друга, как огурцы на грядках. На работе – безразличные телефонные звонки, дома – огород, стирка белья, мытье полов, редкая перебранка с матерью. Единственная радость, когда в выходной день приезжают в деревню бывшие одноклассники, кто из города, кто из леспромхоза. Соберутся на лужайке у чьей-либо избы, разболтаются, детство вспомнят. А на утро разъедутся снова, и заболит Зинино сердце пуще прежнего. Осталась она здесь в деревне против воли своей, с неохотой. После школы в институт поступала, да по конкурсу не прошла. На следующий год вовсе экзамены завалила. Так и осталась здесь скучать да завидовать подружкам своим.
– В девках ты засиделась, вот что скажу я тебе, – глядя на дочь, частенько говорит мать. – Иль уж почту брось, в колхоз иди, у нас оно веселей все же.
– Отвязалась бы, – недовольно цедила сквозь зубы дочь. – С рук сбыть скорей хочешь. Вот и замуж торопишь.
– Да я не об этом вовсе, а о том, что жизнь-то мелькнет мимо, заморозит холодом. И не согреет никто... В твои-то годы отец твой погиб уж. А в колхозе до сих пор вспоминают его добрым словом. В палисаднике вон березка радуется – тоже он посадил. А тебе – хоть трава не расти, как петуху дурному: прогорланил, а там хоть не рассветай...
Зина на мать не сердилась. Она понимала ее тревогу, а вот помочь не могла ничем. Разве замуж выйти, мужа в дом привести, чтоб облегчить материнские плечи от нелегкой мужской работы. Замуж выскочить – не проблема. По соседству, в леспромхозе, женихов пруд пруди. А как же любовь? Как жить с нелюбимым? Нет...
– Чего же сама-то не выходишь, – смеется Зина. – Кровь с молоком.
– Сроду ты, – машет рукой мать и уходит.
Марина, мать Зинина, и правда, крепкой была еще и не такой уж старой, чтоб о замужестве совсем не думать. В свои серединные годы она напоминала осенний куст рябины. Отцвела вроде, листва поддала, но созрели ягоды и горят на радость людям огненной красотой.
Зина смутно вспоминает давнишние послевоенные годы, когда зачастили к ним ухажеры, как называла насмешливо мать пришлых дяденек. А они несли Зинке в кулечках то пряников, то конфет. Больше других нравился ей высокий один со сплава. Остановился он квартировать здесь на все лето. А через неделю собрал пожитки свои и через двор к калитке направился.
– Дядя. Куда вы? – испуганно затараторила Зинка. – Лето ведь не прошло...
Выбежала мать из избы.
– Возьми деньги-то, ведь за все лето уплатил.
– Нужны они мне, как попу гармонь...
Она подошла к нему близко-близко, стыдливо и трепетно заглядывая в глаза, бессвязно заговорила:
– Не могу я так, без любви. И хороший ты, и красивый, а вот не могу. Не серчай...
– Да я не серчаю. Спасибо и на этом...
Как-то разбудил Зинку непонятный шум в комнате, где мать спала.
– Вот старый балбес, и он туда же тянет, – тихо смеялась мать.
По голосу Зинка догадывалась, что пришел к ним сельсоветский председатель Фадей Подрядов. Мурлыкал он что-то непонятное.
– Да вы что, с ума спятили, дядя Фадей?
– Марина, голубушка, – хрипел он.
Зина не знала, что делать. То ли кричать, то ль, зажавшись клубочком, уткнуться в подушку и лежать молча. Она никак не могла понять, зачем это старый дяденька пришел так поздно и почему голоса у него вдруг не стало, говорит все шепотом, хрипло, словно пить захотел, а воды нету.
– Марина, голубушка, – доносилось из другой комнаты.
– Уйди, дурачина. А то и взаправду скажу обо всем твоей-то.
– Да ты не вздумай... К ней по-хорошему, а она вон как привечает. Я все ж пока председатель здесь. Сама в ноги кланяться будешь.
Фадей ушел. А мать упала на неразобранную койку и глухо заплакала. Зинка испугалась, неслышно подбежала к ней, обняла ее теплые вздрагивающие плечи и тоже заплакала.
– Зинушка моя, сиротинка. Несчастные мы обе.
Мать вышла замуж поздно, когда Зинка училась уже в восьмом классе. Отчим пришел в дом с одним чемоданчиком. Работал он в конторе связи монтером. Какая-никакая в доме появилась мужская рука. К тому же два раза в месяц приносил Павел Реут, так звали отчима, зарплату. Подружки в школе позубоскалили на первых порах несколько дней, да и забыли все. Но сама Зинка продолжала страдать и ненавидеть отчима: был он немцем.
– Реут, наруби дров, – говорила мать, а у Зинки мурашки по спине.
Сидит, зубрит геометрию, забудется вроде и вдруг снова:
– Реут, а как в нынешнем году сено косить будем?
С отчимом Зинка не сошлась. Коса на камень. И с матерью из-за него разлад вышел. Она никак не могла понять, почему это вышла мать замуж не за того, молодого совсем сплавщика, который каждое лето навещал их, а вот за этого грузного, белесого, начинающего стареть немца. Что она нашла в нем? Может, зарплата смутила материнскую погоню хоть за маленьким, да достатком в доме?
Посмеялись подружки, ладно. Позубоскалили и бросили. Но как-то, возвращаясь из школы,, одноклассник ее Колька Красавин едко царапнул по сердцу:
– Эх вы, немца прикормили. Он может, фашист, отца твоего на войне стукнул. А вы пригрели его...
Метнулась Зинка домой. По скрипучему крыльцу влетела в сенцы. Рванула дверь в избу. Отчим стоял на корточках, разжигая поленья в голландке. В глазах Зины была только его широкая спина, туго обтянутая полотном рубахи. В слезах она кинулась к отчиму, замолотила кулаками по спине. Он приподнялся и встал. Зинка, не помня себя, яростно била его в живот, в грудь маленькими легкими кулачками.
– Зина, зачем? – тихо сказал Реут.
Она бы продолжала в бессильной ярости колотить его кулаками, если б случайно не подняла головы вверх. Отчим стоял неподвижно и глядел поверх ее головы куда-то вдаль. В глазах была такая тоска и отрешенность от всего, что Зинка опешила, смутилась. Она отступила на шаг и вдруг увидела мать. Та стояла в дверях, грузно облокотившись о косяк. Беззвучно плакала.
Отчим вновь нагнулся к голландке. Спички одна за другой неуклюже ломались в его руках. Наконец одна зажглась. Вспыхнула сухая лучинка. Печка разгорелась.
Он встал. Молча вытащил из-под кровати немудрящий, сбитый из фанеры и покрашенный наспех зеленой краской чемоданчик. Стал укладывать в него майки, носки, поношенный костюм.
Зинка перехватила его жалостливый, повинный взгляд. Он глядел на мать. Она подошла к нему. Положила ладонь на седеющую уже голову, сказала:
– Не надо, Павел. Куда теперь-то?
– Не могу я так. Вам плохо, и мне не лучше.
– Не надо, поздно уже, – еще раз сказала она.
На улице густела ночь. Через несколько дней они пошли в сельсовет и оформили брак, как положено, зарегистрировались.
И Зинка стала его законной, по документам, дочерью.
Потянулись тихие семейные вечера. Зинка готовила уроки за отдельным небольшим столиком. Сколотил его из свежих сосновых досок отчим. Мать, бойко перебирая стальными, спицами, вязала то варежки, то носки. Реут обычно сидел перед пылающей печуркой, словно согреться никак не мог, чинил старые телефонные аппараты. Изредка мать стеснительно, как бы извиняясь, спрашивала его о прошлом. Он откладывал в сторону отвертку, болтики, гайки. Задумчиво глядел в горловину печки. Блики пламени прыгали на его всегда спокойном лице. Он тихо, не торопясь, отбирая каждое слово, рассказывал о том, как в первые же дни войны попал в плен. Советские войска быстро катились к востоку. С пленными разговор был короток. Своих-то не успевали эвакуировать, а тут еще немцы.
– Троих, с кем я был, тут же расстреляли. А меня, как хорошо знающего русский язык, не тронули. Посадили в машину и под конвоем; быстро ретировали в тыл. В дорогу под бомбежку попали. В живых я да шофер остались. Конвойный мой погиб. Отступали мы вместе с русским фронтом, шофер, как встретит часть какую, упрашивает всех: возьмите, мол, немца пленного. Кое-кто отвечал ему: «Щелкни его – и точка, чего возиться», «Не могу, – отвечал он, – велели его доставить куда-то, а куда – я не знаю. Конвоир знал, да погиб».
Наверное, дней через шесть-семь встретился нам артиллерийский майор. Он-то и определил мою дальнейшую судьбу. Несколько месяцев пробыл я в тылу. А потом опять попал на фронт, переводчиком в разведку...
Видно было, как воспоминания жгуче обжигали его сердце, и потому мать редко заговаривала с ним о прошлом. Но она знала уже, что у него до войны была жена и сын, что он в конце сорок пятого узнал о их судьбе. Жена погибла в концлагере, а малолетний сынишка затерялся, жив он или нет, никто не знает.
Как-то Реут, уезжая в командировку в город, взял с собой и Зинку. Они долго ходили по шумным улицам. Обошли много магазинов. Отчим купил себе большею меховую шапку и спиннинг, матери взяли цветастый отрез на платье и вязаную кофту. Зинке – новое дорогое пальто и туфли. Купили целый килограмм ирисок «Золотой ключик» и, довольные, всю дорогу сосали вязкие сладкие конфеты.
Зинка несколько раз открывала картонную коробку и жадно рассматривала черные, на тонком каблуке туфли. «Большая, что ли, становлюсь, – незатейливо думала она о себе. – Вот уже и туфли покупают на шпильках». Она с благодарностью глядела на отчима.
Молчали почти всю дорогу. И только в самом конце, подъезжая к селу, когда мимо окон автобуса промелькнула фигура Кольки Красавина на велосипеде, Реут с лукавинкой в голосе спросил:
– Нравится он тебе?
– Кто? – словно бы не догадываясь, о ком идет речь, переспросила Зина. А щеки залил свежий макового цвета румянец.
– А вот он. – Отчим кивком головы указал на Кольку.
– Что вы, нет, – неуверенно ответила она.
– Ну и правильно. Мне кажется, не совсем стоящий он паренек. Говорят, учится хорошо. Да дело ведь не только в этом. Как правило, из отличников толковых мало получается...
Зинка хотела возразить. Сказать, что Колька поступает в этом году в авиационный институт и отметки у него в аттестате зрелости лучше некуда, но промолчала.
В лицевом стекле автобуса мелькнула одинокая березка перед домом с резными ставнями. Шофер притормозил.
– Поблажку сделаю. Около дома высажу, – сказал он. А когда выходили, добавил; – Ты бы, Павел, ко мне забежал на досуге, приемник у меня барахлит что-то.
– Ладно, забегу как-нибудь...
Мать встретила у ворот. А в избе, разложив на табуретках покупки, по-девчоночьи радовалась.
– Ну, уж это совсем ни к чему, дорогой такой, – прикладывая к груди яркий отрез, говорила она Павлу. – Сама буду шить, – ласково глядела на мужа. – Нет, испорчу, пожалуй, лучше модистке отдам...
Зина хорошо помнит, как они классом после последнего экзамена устроили коллективную вылазку за поселок, в лес. Прихватили с собой – кто хлеба, кто вареных яиц, картошки, колбасы.
Полиэтиленовыми клеенками устлали землю, разместились вокруг.
– А ну, перекусим! – весело и громко крикнул Колька Красавин. – Зина, протягивай свою посудину!
Колька верховодил. Он сознавал некоторое свое превосходство перед остальными ребятами. Красивый. На целый год старше всех и отличник к тому же. В аттестате у него четверок – раз, два и обчелся.
Колька придвинулся ближе к Зине. Он тоже после рюмки вина как-то изменился, помрачнел и замолчал. Говорили уже другие, смеялись, пели. Пела и Зина. А Николай в такт песни только подхватывал последние слова музыкальных фраз. Она ясно улавливала в разнобойном хоре других голосов его нестойкий еще басок: «...дальнем море», – повторял он вслед за всеми. Последнюю же строчку куплета он торопливо, обгоняя невпопад других, выкрикивал: «Бригантина подымает паруса!» «Смешной он, хвастунишка немного, но хороший».
И вдруг все встали, как-то разом встали, неожиданно, но одновременно. Это вышло дружно, как по уговору.
– Цветы собирать! – сразу же раздалось несколько голосов. Разбежались вчерашние десятиклассники в разные стороны. Цветов было много. Алые и голубые, многоликие и однотонные, желтые и сиреневые...
Зина побежала вверх по ложбинке. Легкие, еще не успевшие загрубеть на солнцепеке, листья ласково бились в лицо, влажная трава обдавала прохладой голые ее ноги. Она бежала к заветному своему месту, к высокой залысине горы, откуда открывалась взгляду вся округа и краешек улицы их поселка, где алела жестяная крыша ее дома, виднелась, как в перевернутом бинокле, уменьшенная далью зеленая березка, посаженная отцом, тем, погибшим на фронте, которого не помнила и не знала.
Зина слышала за собой чьи-то шаги, тяжелые, не девичьи. Она не оглядывалась, но хорошо чувствовала, что это бежит вслед за ней Колька Красавин. Ее Колька. В какой-то момент шаги за спиной поутихли, слились с шорохом листвы, посвистом птиц, дуновением легкого ветерка. Тайком она резко оглянулась и заметила, что Колька у самой обочины ложбины, идущей в гору, собирает цветы. Он тоже заметил замедленный ее бег и затаенный поворот головы в его сторону.
– Все равно догоню! – крикнул он. – Цветов только наберу и догоню. Все равно дальше обрыва не убежишь...
Там, наверху, где расступался лес и открывалась взгляду даль, действительно был обрыв – скалистая стена, почти отвесно уходящая вниз и кончающаяся у берега реки осыпью мелкого щебня. Он догнал ее у самого края скалы. Здесь ветер был не тем теплым и ласковым, что в лесу, он был резким и сильным. Бил в их лица, трепал золотистые волосы Зины, туго облегал ее тело. Казалось, что стоит она сейчас совсем обнаженная, как на пляже. Стройная, высокая, даже чуточку выше его.
– Это тебе, – протянул Колька букет. Цветы были разные: алые и голубые, многоликие и однотонные, желтые и сиреневые...
– А все-таки больше желтых, – заметила Зина. – А желтый цвет, говорят, к измене.
– Зинка, смотри – поколочу! – засмеялся Николай.
Они стояли совсем рядом, чувствуя, как волнение одного передается другому. Он обнял ее. Руки его дрожали. Оба глубоко дышали, то ли от быстрого подъема в гору, то ли от чувства близости. Она прикрыла глаза и уловила, что его горячие сухие губы еле-еле коснулись ее губ. Нет, они не целовались, они просто касались друг друга губами. После каждого такого, как бы нечаянного, прикосновения резко, как от ожога, отводили головы в стороны. Она не видела ничего перед собой, лишь слышала его дыхание, которое приятно щекотало ухо...
– Эге-гей! – донеслось снизу. – Где вы, разбойники?! – Возглас этот вернул их из непонятного забытья.
– Пойдем, Коля, – еле слышно прошептала она. – Нас ждут, неудобно.
Он ничего не ответил, неожиданно вздрогнул и тоже приоткрыл глаза. Вокруг шумел лес. Веселился прохладный ветер, и простиралась впереди даль, подернутая теплым маревом.
– А вон, видишь, твой дом? Маленький, как спичечный коробок.
– Вижу, Коля. Я здесь часто бываю, люблю это место. Березку около дома видишь? Это отец ее посадил, до войны еще, говорит мама.
– Не этот, не... не... – он осекся, заметив вдруг изменившийся ее взгляд, – не... отчим?
– Нет, отец.
Не торопясь, они возвращались к. ребятам. Ветер в лесу сник, отчетливее наполняли воздух голоса птиц, шорох прошлогоднего валежника и палых листьев под ногами.
– Я буду в авиационный поступать, в Уфе; у меня там дядя, живет, к нему и поеду, на первых порах у него поживу. А потом в общагу, и заживем по-студенчески, не хуже, чем Запорожская Сечь! А ты куда думаешь?
Она доверительно обернулась к нему, замедлила шаг, повисла у него на плече и прошептала в ухо:
– Вместе с тобой, куда ты – туда и я...
...В авиационный она не прошла по конкурсу. А он поступил.
* * *
С дежурства Зина пришла домой перед рассветом. В окнах горел свет, мать не спала.
– Зина, – рванулась она к дочери, – отца все нет. Как ушел по вечеру, сказал, что по грибы пойдет, и до сих пор вот не вернулся. Всю ночь не сплю, чую сердцем, недоброе чего-то стряслось...
– Да брось ты, мама. Куда денется, вернется. Может, по вырубкам зашел далеко засветло, а как стемнело – решил заночевать в леспромхозе. Любой бы на его месте так поступил. К чему ноги бить по темному лесу-то?
– Не знай, дочка, не знай, что и подумать...
Зина легла спать, проснулась лишь к обеду, когда прямые солнечные лучи жгуче прогревали через оконное стекло ее постель, отгороженную от общей комнаты дощатой переборкой. Отчима все не было. Мать сидела рядом и плакала. И так жалко стало ее, так больно резануло по сердцу неожиданной догадкой, что они, мать и дочь, даже когда остаются вдвоем, все-таки одиноки. Разные и одинокие. Промелькнули в памяти слова напутствия молодоженам из кино или из книжки какой прочитанной: «Соединяйте души свои в молодости и вместе состарьтесь...»
– Чего же мы ждем, мама, у моря погоды. Бежим на почту, в леспромхоз позвоним. Негде ему быть, там он наверняка.
Из леспромхоза ответили: отчима не было ни вчера, ни сегодня. Зина подумала: «А может, ушел он совсем, грибы – это только предлог? Может, вернуться решил на родину? Разыскать сына... Да нет, нет, не может этого быть. Сколько лет минуло, камни и те постарели... Ах, что там отчим! Даже Колька, ее Колька, которого любила, к которому рвалась в институт. Три раза сдавала экзамены и все три раза ее ожидали беды. Потом плюнула, устроилась у себя, в поселке телефонисткой. А год назад...»
Да, это было ровно год назад. Она дежурила на почте. Поздно вечером задребезжала и откинулась в сторону бронзовая монетка коммутатора. Звонили из города в леспромхоз. Машинально, ни о чем не думая, слушала она чей-то голос, ровный, спокойный. Кто-то кого-то приглашал в Уфу на свадьбу. И только тут она сообразила, что разговаривают с квартирой Красавиных и что у телефона Колька.
Зина заплакала. Слезы катились по разгоряченным щекам, падали на приоткрытый учебник геометрии. Она уже не слышала слов, какая-то бездумная тоска охватила ее. Она почувствовала свою ненужность в этой жизни, отрешенность от всего. Долгое время она продолжала думать о нем. «Женился, ну и пусть, пусть радуется, черт с ним! И вовсе не любила она его, а просто так. Так просто целовались, когда он бывал на каникулах или она приезжала к нему в Уфу».
Уже не плакалось Зине. Ей казалось, что в свои 23 года она столько пережила, столько выстрадала, что все уже осталось позади. Впереди – медленное старение, одиночество. Уже с затаенной завистью слушает, слушает она ночные переборы гармошки на улице и веселые голоса совсем молоденьких девчонок. Зина жалела себя...
Обзвонив все леспромхозовские телефоны, Зина вместе с матерью пошла домой. Еще с улицы они заметили, что ворота их открыты, а во дворе стоит, большой мотоцикл с люлькой. Они прибавили шаг и почти бегом влетели сначала в дощаные сенцы, потом – в избу.
Реут, большой и грузный, лежал на кровати. Лицо его было в ссадинах и кровоподтеках, одна рука безжизненно свисала с кровати к полу. Он изредка слабо стонал, и в эти моменты слышно было, как клокотало в горле, а на потрескавшихся от сильного жара губах проступала кровянистая пена. Зина по глазам отчима догадалась, что он в сознании: из-под тяжелых его бровей, из-под полуопущенных век глядели два светлых до белизны глаза, в которых явно угадывались боль и страдание.
Мать привстала на колени около кровати, осторожно потрогала ладонью горячий его лоб. Медленно поднялась с пола, присев на краешек постели, и только тут она заметила в комнате двух незнакомых парней. Она сразу же засуетилась, стала собирать на стол, а Зине вскользь, как бы между прочим, сказала, чтоб та сбегала за врачом.
– Не надо, – ответил один из незнакомых парней, – мы сами врачи...
– А что же не видела я вас, не признала. Вроде бы незнакомые. Здешних-то я всех по округе в лицо знаю.
– Из Уфы мы. Приехали вот с товарищем поохотиться малость, грибов пособирать. А вышло – опять на работу приехали, – улыбнулся он.
– Как же так вышло-то? – будто опасаясь чего-то, тихо спросила мать.
– Нашли мы его в лесу. Разбитого. Правда, в сознании он был тогда. То придет в себя, то снова в бреду мечется. У него перелом плечевого сустава, но это еще полбеды. Главное – сильное сотрясение мозга. По видимости, перелом основания черепа.
– Жить-то будет аль уж нет? – с какой-то отрешенностью спросила она.
– Сейчас основное – покой. Лучшее лекарство – лежать и не шевелиться. В бреду он несколько двигает головой, а вообще-то у него парализованы и руки и ноги. Особенно не пугайтесь, все это пройдет со временем. А если нет перелома основания черепа, то, я слово даю, через месяц буквально он в футбол играть сможет.
Закипел, зафыркал, задымил легким свежим парком самовар. Все сели за стол, покрытый белой, вышитой по краям, скатертью.
– Мы даже и познакомиться не успели, – начала тетя Марина. – Даже неудобно как-то перед вами, ребята.
– А я, кажется, немного знаю их, – произнесла Зина.
– Неужели? – опять улыбнулся тот, что помоложе, у которого в чернявых острых глазах будто бы постоянно теплела добрая улыбка. – Откуда же вы можете знать нас?
– А вот так и знаю, догадываюсь, – блеснула ровными зубами Зина. – Вас звать Асхатом, а вот его, – кивнула она в сторону второго парня, – его Алешей звать.
– Смотри, как здорово! – сказал Алеша. – Настоящая цыганочка. Может быть, позолотить ручку, погадаете бедным крестьянам?
Молчаливый до сих пор Асхат несколько удивился словам Зины, недоуменно спросил:
– А действительно, откуда вы знаете нас? Ладно, еще Алексея можно знать, он в этих краях частенько бывает, а вот я здесь впервые.
Мать тоже удивленно посмотрела на Зину.
– Да ничего удивительного нет, я телефонисткой работаю, у меня на голоса память хорошая, профессиональная, можно сказать. А вы как раз звонили вчера директору леспромхоза, что приедете на охоту в наши края.
– И правда же, целый детектив, – засмеялся Асхат.
Они попили чаю, наскоро перекусили и втроем, без матери, вышли во двор. Сразу же за деревней начинался лес. Они медленно вошли в него, и лес встретил их терпким осенним настоем всевозможных запахов. Деревья горели алостью и желтизной. Лишь кое-где дымился нетронутый зеленью молодой дубняк да щетинились колючие посадки сосенок.
– Красотища-то какая кругом! – сказал Алексей. – Так бы и бродил здесь по лесу всю жизнь.
– Это вы только так говорите, одни слова, – равнодушно заметила Зина. – Конечно, если приехать сюда на день-два, то все хорошо. Подышал свежим воздухом, как говорится, и опять в город. А мне так здесь все опротивело до чертиков, сбежала бы куда глаза глядят, да некуда. В деревне, наверно, из молодежи-то одна я осталась, все уже давно в город перебрались или в райцентр...
– Ну и чего хорошего, – продолжал Алексей. – Будь я деревенским – никогда бы не уехал отсюда. Плохо разве – лес, река. В лесу грибов уйма, хоть пруд пруди, дичи навалом. Да и город совсем близко, можно изредка то в театр, то на стадион съездить или. в магазины. Верно я говорю, Асхат-дус[4] 4
Дус – приятель
[Закрыть], или нет?
– Верно, верно...
– У нас любят говорить: орлы покидают гнезда. Но ведь, если честно сказать, настоящий орел не забывает своего родного гнезда и в любое время возвращается назад. Орлы, если и покидают свои гнезда, то вечно помнят их и, коль надо, возвращаются.
Асхат вдруг перебил риторическую тираду друга:
– Слушай, Алексей, давай так сделаем: я поеду, мне завтра на работу, а у тебя целая неделя отпуска впереди, оставайся здесь, заодно и за больным присмотришь, поможешь кое в чем. А я завтра же свяжусь с санавиацией, и пришлю сюда нейрохирурга.
– А что, Зина, ведь и правда... Можно остаться?
– Конечно, конечно, и отчиму поможете. Было бы просто здорово.
– Ну тогда по рукам! – Он взял ее небольшую ладонь в свою и доверительно пожал ее.
Спать ребята легли на сеновал. Тетя Марина сокрушалась, что осень уже и зябко будет на сеновале-то. Но они, привыкшие к походам, любящие природу, и слышать не хотели, чтоб спать в душно натопленной избе. Взяли спальники и уютно устроились на сухом пьянящем сене.
Уснуть не могли долго.
– А она мне, честное слово, здорово понравилась! – сказал Алексей. – Сама чистота и невинность. Сейчас это редкость. Современная молодежь пошла ранняя, так сказать. Себе на уме. Такие девахи в городе есть – им палец подставишь, а они норовят по локоть отхватить. Вообще, у меня к женщинам свой подход, своя мерка, так сказать.
– Ты просто, Алексей, никогда и никого не любил. Это все-таки обедняет человека, душу опустошает.
– Не верю я им. Народец тот еще. Чуть кто пригреет да приголубит, они уже, как кошечки, замурлычат.
– Неправда. На мой взгляд, женщины стоят того, чтоб любили их. Крепко, по-настоящему.
– Нет, Асхат, ты просто не знаешь, ты всегда был как-то далек от всего этого. Монах, одним словом. Женился бы, так сразу по-другому запел, узнал бы, почем фунт лиха.
– Ты все на свой аршин не измеряй, есть ведь и другие мерки...
Они долго молчали. Слабый ветер шевелил солому на крыше сеновала. Пропели первые ночные петухи. Где-то рядом шумел таинственно и тихо дремотный лес. Алексей тяжко зевнул, высвобождая большое тело из тесного спальника.








