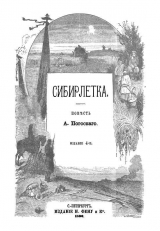
Текст книги "Сибирлетка (Повесть. Современная орфография)"
Автор книги: Александр Погосский
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
VI
На другой день пришла жданная из разных деревень команда. Грустно было расставанье наших выздоровевших раненых с их гостеприимными хозяевами, товарищами, с ребятишками, не понимавшими необходимой разлуки: все они свыклись и сжились, как родные семьяне. И много ли надо времени добрым людям сжиться, сблизиться и слюбиться так, что разлука оставит навсегда в сердце ничем уже ненаполняемый пустой уголок?
Солдат, терпеливый путник бесконечной дороги всюду гость незванный, нежданный, бессрочный, но ведь не колесо же окованное, не машина мертвая. Если добрая душа пригреет его дружественным участием, если тень добровольного внимания упадет на его, зноем труда опаленный, быт, он не скажет много: «Спасибо, Бог отдаст вам!» – вот вся его благодарность. Но кто же знает, какое в те минуты чувство повернется и разбудится, крепко заснувшее в самой глубине души, отвыкшей от родной ласки? – «Эх, пожил я там-то!» – вспоминает иногда неприхотливый служивый; верьте, – не жирная каша или пироги пришли ему на память, совсем не то: там он освежился душевно, там он любил, и его любили там. Там он пожил человеком. И никогда не потускнут в его памяти ясные и приветные образы милых его сердцу, добрых и ласковых людей.
Не диво, что наш кавалер просиял, благодаря радушных немцев за гостеприимство, и глаза его поволокло слезой при прощаньи с ними. Хозяева не стеснялись и захлипали не хуже детей. А Облом Иваныч только моргал и кривился, как-будто собирался чихнуть; и он крепко свыкся с временными друзьями. Да и Сибирлетку удостоил он своей тесной дружбы, и не без основания считал его таким же, как сам, обломом, только бессловесным. – «Мы охлоботины, обрывыши, калеки безногие!» – говаривал он не иначе, как взглянув притом и на Сибирлетку. И вот его веселые, дружеские утренники ранние, полдни, вечера приятные – все прошло безвозвратно! Он один с своей глупой деревягой.
«Ах ты, сакру-бле, кручина-судьба!» – думал Облом Иваныч, и больше ничего, кроме этих чертей, не представлялось ему впереди.
Обнял Лаврентьев хозяев, обнял детей, сотворил знамение креста над ними, и обернулся к мушкетеру!
«Прощай брат, Облом Иваныч!»
Облом Иваныч вздохнул, как вытащенная из мережи белуга. Держал он руку кавалера в своих красных руках, жал ее, как еще под Инкерманом была она жата, и молчал, немилосердно морща то одну, то другую ноздрю своего сизого носа.
«Прощайте, добрые люди!» – молвил Егор Лаврентьич. «Даст Господь – увидимся, а приведется сложить голову, маршир туда!» – и он указал в землю. Ажно вскрикнули немцы и ребятишки, Облома Иваныча совсем покоробило…
– «Не поминайте лихом!»
Все вышли на улицу; там уже строилась команда и прощались хозяева с своими постояльцами; Лаврентьев встал в ранжир. Все колонисты от мала до велика прощались и с Сибирлеткой и накидали ему столько вкусных порций, что герой наш, набив пасть по горло, не знал как и быть с остаточным провиантом.
Знакомый шевронщик – унтер-старина скомандовал: «На пра-во! Просим прощения, добрые люди!» Команда пошла своим путем. Долго сопровождала ее пестрая толпа колонистов, и кто только мог из остающихся в колонии солдат.
Но дальние проводы – лишние слезы! Понемногу отпадали провожатые, наконец и солдаты, прощаясь с товарищами, ворочались в селение. Один только Облом Иваныч упорно ковылял вперед, лаская Сибирлетку, как-будто и он с своей деревягой спешит на позицию.
– «Устанешь брат, Облом Иваныч, вернись!» – уговаривал его Лаврентьев; но мушкетер хотел проводить товарищей по крайней мере до привала.
После привала, наконец мушкетер распрощался с друзьями. Они ушли. Еще раза два возвращался к нему Сибирлетка: обнимал солдат доброго пса, но вдали послышалась песня, – Сибирлетка рванулся из дружеских объятий, и мушкетер остался один.
И долго сидел наш Облом Иваныч в степи на придорожном камне, опершись сжатыми кулаками в колена свои. Удаляющаяся песня раздавалась в зоревой тишине и за хором заводил запевало:
«Ничего-то вы горы не спородили:
Спородили горы мое горюшко…»
и покачивал бедной головушкой Облом Иванович в такт с переливами грустной песни. И опять гудел хор и опять выводил запевало:
«Как лежит в поле тело белое,
Тело белое солдатское.
Прилетали к телу три ласточки!..»
Совсем осунулся Облом Иваныч; раздирала ему тоска-кручина ретивое и как песком горячим жгла глаза; но не освежились они слезой теплою; как тут заплакать! Кто их знает, куда запропастились они, слезы солдатские! В 15 лет еще бы не выпекло их полымем с под котла артельного…
Думал, думал тяжелую, камнем по сердцу гнетущую, думу Облом Иваныч. Бесполезным горем прощался он навсегда с своею короткой боевою жизнью, как молодая, еще недавно расцветшая любовью и надеждой вдова, на которую вдруг пахнуло беспощадным и вечным холодом мужниной могилы. Уж вечерело; все смолкло. И вдруг поднял он пригнетенную кручиной голову – глянул к верху: высоко над ним реяла какая-то птица.
– «Гм, врешь! Еще живем, сакру-бле!»
Строго взглянув на зловещую птаху, сорвался мушкетер с камня; еще оглянулся на даль, в которую ушли безвозвратные друзья, и поковылял в деревню.
– «Врешь, еще живу!.. Платчишко занести следует!» – ворчал Облом Иваныч. И как будто другой, невидимый, такой же Облом Иваныч твердым и поощряющим голосом подсказывал ему: «Крепись, Облом Иваныч!»
– «К старухе зайти надо, занести ей от сына деньжонки в Самарскую губернию». «Вперед, калека разбитый!» – шептал голос.
– «Да тетку нищую в Псковщине проведать.» – «Навались обрывыш безногий!»
– «Не обману! Не бывать стыду такому!» – ворчал мушкетер. – «Подтянись охлоботина!»
– «А там!..» Облом Иваныч махнул рукой… «Что Бог даст!» – «Правда, честная душа!» – прошептал ему голос невидимки, и мушкетер ковылял все вперед своим хромым, но спорым мушкетерским шагом.
Вперед Облом Иваныч! Иди смело! Калека шляется – подумают люди: а тебя понесет Сам Бог, и всюду пройдешь ты с своей святою ношей – отрады и утешения любящим, сирым и нищенствующим.
Мы с ним больше, не увидимся, читатель. Разве где-нибудь в натуре, на бесконечных столбовых или проселочных перепутьях широкой матушки-России.
VII
В конце мая пришли выписавшиеся молодцы наши в Симферополь и оттуда на позицию. Вскоре баталион, в котором был Лаврентьич, вступил в Севастополь, для подкрепления гарнизона; разумеется, Сибирлетка не отставал.
6 июня – день памятный на двух концах Европы: осиротил и уложил он на вечный покой много головушек победных.
В полдень этого дня молодцами рванулись Французы на батарею Жерве, выбили Полтавский баталион и заняли укрепление. Лихо двинулись их колонны и вцепились в бастионы наши; неожиданный штурм взгремел и торжествовал на всех пунктах; наши отступили в смятении, сила неприятельская росла и превозмогала везде; дело проигрывалось. Севастополь трепетал и считал мгновения, оставшиеся до погибели. Он погибал.
В эти – то безнадежные минуты из дыму и грохота битвы прискакал командир к усталому, только что вернувшемуся с земляных работ, Севскому полубаталиону: «Благодетели, помогите!»
«Вперед с Богом! – крикнули храбрые капитаны своим утомленным солдатам; выручим наших, поможем братьям!» – и две роты бегом кинулись в огонь.
Благодетели помогли. Помогли они и облагодетельствовали так, как только истый солдат умеет облагодетельствовать. Эта горсть людей примером своим поддержала отступающих; они рукопашной схваткой выбили врага из батареи, отбросили штыками назад; смерть и ужас рассыпали всюду, где промчались, как сонмище духов-истребителей; не было фронта, не было толпы, не было отваги и мужества, которые бы они не сломили, не рассеяли и не разметали в прах. Трепетом бессилия и тщетой противоборства обдали они врагов. Кровь и кости свои отдали за ласковое слово; тысячи жизней за простую просьбу, прямо толкнувшуюся в солдатское сердце: из 5-й роты Севского полка осталось 33 человека; доблестный капитан лег с богатырями своими: почти ни один офицер не вернулся из боя.
Севастополь был спасен. Штурм этот записали и мы, и враги обильной кровию в историю знаменитой осады. Но истории нет дела – какие два слова наворотили груды костей и напрудили крови солдатской – это наше, братцы, сердечное дело…
Поздно ночью утихла тревога: роты и баталионы возвращались в стены крепости, на ночлег после кровавой работы.
В одном из блиндажей расположились люди подкрепить силы, перехватить и поужинать чем Бог послал: одни размачивали в воде сухари, другие осматривались и, приставляя к стене ружья, говорили о горячей стычке, об отваге и смерти товарищей. Молодой, лет 20 солдат, порядочно пооборванный в схватке, добывая из-за ранца ложку, готовился похлебать воды с сухарями и солью.
– «Ефремов! – отозвался один из усачей, – а дядьку-то и не пождешь? Поторопился ты нешто сегодня».
Молодец сконфузился и положил ложку на обломанный край миски.
– «А не видал Лаврентьича?» – спросил другой голос.
– «Под вечер не видал!»
– «Ну, то-то!»
– «Мне думается подойдет, быват!» – робко сказал молодой солдат.
– «Всяк быват», – отозвался завернувшись в шинель и ложась в углу старый солдат, подделываясь под крестьянский лад речи: «быват, и корабли ломат, а быват, что и ничего не быват!»
В эту минуту в тишине, которая иногда случайно длится несколько мгновений в шуме общей деятельности, вдруг послышался далекий вой собаки.
– «Сибирлетка!» – сказал кто-то.
– «Плохо, братцы!» – отозвался другой. Все прислушались; бледнея прислушался и молодой солдат; вой повторился. Рекрут вдруг выпрямился и чуть слышно вскрикнул: вскрик этот вылетел словно не из его груди. Бледный, с блестящими глазами и с какой-то скорбной улыбкой встал он, застегнул шинель, взял ружье, надел суму и фуражку; никто не отозвался ни слова; он обернулся к отделенному унтеру:
– «Иду, сударь!»
– «С Богом!» – было ответом, и солдат вышел как тень из блиндажа. Он пошел за стены бастиона. Его тихо окликнули: он молчал и, как лунатик, чуть слышным шагом спустился в ров, в поле и пропал в темноте.
А жалобный, протяжный вой все продолжал раздаваться невдалеке от стен крепости и заканчивался едва слышным взвизгом; и снова, без порывов, разливался заунывно, как будто однообразными тоскливыми звуками он вымолял людское сострадание.
– «Что-то не ладно, братцы!» – отозвался в блиндаже усач.
– «Воля Божия!» – отвечало несколько голосов и послышалось несколько вздохов.
– «Не ему, братцы, и уцелеть в такой жарне!»
– «Ух душа-человек был, да и солдат-то солдат!»
– «Да уж Сибирлетка не напрасно, стало-быть, отзывается: тварь смышленая!»
На другой день от обоих войск убирали тела падших; находились между трупами и живые, изорванные, чуть дышущие. Лаврентьева отыскали скоро; над ним сидел, свесив морду и не спуская с него глаз Сибирлетка.

Кавалера нельзя было узнать: следов человеческого образа не видно было на изувеченном и окровавленном лице; окостенелая рука стиснута была на груди, и в полной горсти почернелой запекшейся крови блестел серебряный край креста.
– «Егор Лаврентьич, сердечный!» – со вздохом проговорили солдаты, с заступами и кирками в руках. «Вишь прижал голубчик егорья, словно боится, чтоб не отняли!»
– «Да разве не помнишь что ль, ведь говаривал: хотелось бы, чтобы с ним, говорит, и зарыли меня, коли умирать придется».
Подошел офицер, все осенились знамением креста. Тело храброго солдата похоронили с орденом. Сибирлетка лежал, свернувшись без движения, и, приподняв голову, не сводил глаз с засыпанной могилы.
– «Ефремова-то нет, убивался бы бедняга!»
– «Еще бы! Да никак и он тово?..»
– «А забирайте Сибирлетку-то!» – отозвался кто-то. Несколько голосов позвали собаку, но она не шевелилась; двое подошли к ней, ласкали ее, и видя, что она не располагает встать, пробовали, было, потащить за собой…
– «Да возьми на ремень!» – Напрасно хлопотали солдаты: они оттащили ее на несколько шагов, но собака вырвалась, и опять свернулась в комок на свежей могиле. Ее оставили в покое.
Обыкновенно на ночь утихала канонада. В известном нам блиндаже почасту вспоминали убылых, и особенно храброго и всеми любимого кавалера. Племяш его, как ушел, так с тех пор ни слуху ни духу о нем; поговаривали, что видели будто какой-то леший бродит около траншей неприятельских: сыплют по нем штуцерные их, а он все блыкается, опустя руки, и пуля его не берет. К полуночи регулярно заводил свою горькую песню Сибирлетка.
– «Вишь ты, что она верность-то значит: так ведь и пропадет горемыка-то!» – говорил старый солдат, заслышав вой, – и завязывался иногда разговор о преданности собачьей, о чуткости и смышлености, часто изумительной в животных.
– «Да, стало быть так ему издохнуть; бывает ведь и ахти какое удивление, братцы!»
– «Ну а что такое?»
– «Да вот то, что говорят – примером хоть и Сибирлетка: кого-нибудь надо ему выходить. То есть не спокоен он так и будет: за кровь-то вишь кровь следует!»
– «Вон соврал толсто!»
«Не соврал, коли хошь знать, а такая история есть». – Товарищи, подтрунивая, а некоторые с верующим любопытством, просили рассказать эту «историю».
– «Гм! то-то!» – начал Табанюха, так его прозвали в роте. «Гм! – и понюхал табаку. – Вишь вот, было такое дело, что два, выходит, суседа пошли на медведя сидеть, и пес с ними большущий был. Пришли, глядь – а Миша-то тут: один стрелял – мимо, а другой не попал. Мишенька-то одного сгреб, да под себя: стрелять, мол, не умеешь, а по нашему – вот как: да возьми и учни его ломать, да оболванивать, т. е. по своему. Пес за медведя, а другой сусед – в ноги, да и удрал.
На другой, выходит, день нашли охотника, стало-быть, без черепа; а собака так и не идет ни домой, ни к людям, а в лесу так и живет. Проходит, сударь, две недели места – ничего; а суседа лихоманка со страстей треплет. И вот разу одного, поздно повечеру, воет пес на дворе; сусед бабе говорит: „а ну, кинь ему хоть мосол“. Не берет пес, воет да и полно. Слез сам сусед с печи, только сени-то отпер: Серко, Серко! А Серко на него, да за глотку, да и обземь: не выдавай мол своих! А сам в лес, да там издох: так и нашли на могиле, того-то, другого. Вот-те и думай!»
– «Всяк бывает! – Почем знаешь, чего не знаешь!» – заключили слушатели и в блиндаже все помаленьку заснули. А вой поднимался, смолкал и снова уныло раздавался в ночной тишине.
Четыре ночи выл бедный Сибирлетка. На пятую ночь, еще до зари, возвращающиеся с ночной потешной вылазки, егеря кричали что-то на бастион, занятый мушкетерами. Огонь еще не открывался с неприятельских траншей, но мушкетеры не разобрали о чем им кричат.
– «Слышите, что ли, братцы! Вам говорят, бесы красноворотые!»
– «Гей, что орете, жуки черномазые, что там?» Егеря приближались.
– «Да вон там, ваш никак, чудак с туркой целуется!»
– «Где там, кой бес?»
– «Возьми глаза в зубы, вон гляди через нос, прямо!» Егерь указал ружьем.
Трое мушкетеров спустились в ров, пошли в поле, прямо по указанному через нос направлению; чуть начинал брезжить свет.
– «Эй сюда, братцы, здесь!» – кликнул солдат, завидев какую-то темневшую глыбу; все подошли рассматривать, что там такое.
На взрыхленной каменистой кучке лежали два крепко обнявшиеся трупа: русский мушкетер охватил поперек тело зуава.
Откинув голову назад, с посинелым лицом, африканец вытаращил кровавые глаза; искривленный рот и закинутая к верху, с сжатым кулаком, рука – выражали удушающую боль: видно было, что он умер смертью удавленника. Будто две змеи, руки мушкетера оплели свою жертву и пальцы их сложились на замок. Лице его, белое как воск, прильнуло к груди врага, перламутром светились белки полуоткрытых глаз, верхняя губа приподнялась, рот улыбался ужасающим довольством.
– «Вишь ты, как обнялись сердечные! И с чего тут кровищи-то напрудило?» – молвил солдат, осматривая мертвецов. «Эва! разве что так», – он разглядел, что правая посинелая рука зуава сжимала рукоять ножа, глубоко всаженного в бок мушкетера.
– «Так и есть, он! Ведь это Ефремов бедняга!»
– «Ой ли? А тут что за шуба? Братцы, да это могила Лаврентьева: Сибирлетка здесь!» В самом деле – Сибирлетка лежал свернувшись в крутой комок в раскопанной яме; из середины этого комка торчала обнаженная нога мертвеца.
– «Ах пес ты наш, сердечный! Не соврал же Табанюха: вишь ты верность-то… А не снять ли с него шкуру, ребята, на память – и вот какой барабан будет: уж я выделаю!» Это говорил, разумеется, барабанщик.
– «Брось ты, леший-громовик, выдумал!»
– «Да его и не оторвешь!» В самом деле пес крепко обвился вкруг ноги своего господина и застыл так.
Солдаты погоревали над Ефремовым: «справил, желанный, поминки дядьке!» и начали с ним управляться.
Из неприятельских траншей завизжало ядро, началась перепалка.
– «А жаль, братцы, Сибирлетку, и вот как!» – отозвался один из солдат.
– «Эх-ма! Здох пес, а добрый пес был!»
– «Да и вот какой!»
VIII
Прошло года три после всех вышеописанных событий. На рассвете ненастной осенней ночи, в некоторой слободе одной из великороссийских губерний, у избы с резным конем на кровле, и с узорчатыми полотенцами под кровлей, виднелся зеленый полковой ящик. При нем часовой держал ружье «от дождя»; а на крыльце, растянувшись во всю лавку, и прислоня голову к барабану, храпел барабанщик. Знамя в чехле стояло тут же.
В слободе ночевал баталион, на походе из Крыма к своим контонир-квартирам.
Рассвет происходил по осеннему: темень держалась упорно, дождь решетил, барабанил по крышам и урчащей струей стекал в широкие лужи; ветер то взвывал, то посвистывал. Уж и воробей чиликнул из-под стрехи, и петух, хоть как-то хрипло, будто с перепоя, однако старательно вытянул свою нехитрую песню; но зоря занималась плохо: чуть белела тусклая полоса света на горизонте, точно заштатная мушкетерская портупея в темном цейхаузе.
В таком полумраке или полусвете, на конце слободы, в окне пространной избы сверкнули искры: это старый усач, набив впотьмах свою носогрейку, колотит в кремень куском обшарканной стали. Искры освещали спящее сладко под дождик капральство; храпенье богатырей слилось в один шум, похожий на шум движенья фабричных машин в полном ходу.
Усач рубил огонь и вдруг остановил замахнувшуюся огнивом руку и навострил ухо:
– «Подъем, ребята: Сибирлетка брешет!» – сказал он громко.
Зевки, потягиванья и прочие звучные приемы пробужденья раздались в темноте; заворошились люди.
– «А и то брешет!» – отозвался голос: в избу доносился глухой бой «генерал-марша». Дело в том, что леший-громовик на Севастопольском бастионе сдержал таки свое слово: вылучив минуту всеобщего отдыха и своих и врагов, ночью прокрался к знакомой нам могиле Лаврентьича, освежевал там Сибирлетку, т. е. содрал с него кожу, и на утро, затем, каждый узнал ее, распяленную лучинками, и повешенную в углу блиндажа.
– «Живодер ты, брат громовик, чтоб тебе пусти было! – упрекали солдаты, – ты небось, с кого хошь сдернул бы шкуру-то»
– «Ну нет, с кого хошь не сдернул бы, – отвечал улыбаясь громовик, – а хорошему материалу зачем пропадать!»
Потом материалист-громовик выделал шкуру Сибирлетки и натянул ее на барабан – и теперь, ни свет ни заря, стучит по ней «генерал-марш». И долго будут стучать палки по этому материалу: долго будет «добрый» пес нести посмертную службу друзьям своим: барабан – инструмент прочный.
А когда наконец шкура почтенного Сибирлетки расколотится под палкой до тонкости пузыря, и на линейном, например, ученьи, в разгаре «наступления», громовик хватит несоразмерно палкой в самую плешь барабана и он лопнет, как пистолетный выстрел: «вот когда здох пес, чтоб его порвало!» – воскликнет громовик. Но и это будет неправда: и это – еще не конец службы Сибирлетки; не успеют скомандовать: «стоять вольно, поправсь!», а уж во фронте будет известно это происшествие и задняя шеренга перешепнется: «Сибирлетка лопнул! Ой ли? Таки разорвало почтенного!» И найдется сапожник – хоть бы тот же Табанюха – выпросит он у громовика лоскутья шкуры Сибирлеткиной, нарежет их формой лопуха или придорожника, сложит между двух шкурок свежего полувала, прострочит «концом крученым» и соорудить в память издохшего друга, на пользу общественную, «важнейшие подносочники». И опять много лет и много поколений героев будут лихо драться с врагом, и маршировать по плац-парадам в сапогах, «построенных» на подносочниках Сибирлетки.
Но уж раз сказано: «ничто не вечно под луной!» И подносочники Сибирлетки, покрывшись сперва металлическим глянцем от бессменного употребления и ударов молотка, перегорят наконец до совершенной негодности – и все-таки этим не кончится полезное существование остатков солдатского друга: все еще не совсем «здох пес!» Такой же Табанюха, или правнук его племяша, выберет лучший лоскут из прогорелых подносочников и устроит из него, окончательно, «важнеющий варник». А кто же знает – какие сроки может прослужить такая штука, как варник! И если человечество не переобуется со временем из сапогов в лапти, или не решится ходить босиком – то кто же скажет: где предел полезности остатков Сибирлетки?
Пусть даже повесть наша, вместе с прочими велемудрыми произведениями русского слова, исчезнет, «как пена в волнах, как дым в воздухе»; но можем ли мы, о читатели, ручаться, что чрез многие века, когда, наконец, передерутся все народы, каждый порознь и все вообще между собой окончательно; когда и мы, в свою очередь чувствительно побьем и Китян и Белаго Арапа, и наконец человечество спохватится, что и без драки довольно хлопот на белом свете, – да и не на то же мы созданы, в самом деле, чтоб ломать друг другу кости – разве не может случиться тогда: где-нибудь у очага мирной семьи, седой потомок исчезнувшего с лица земли драчливого поколения доблестных воинов расскажет своим любопытным внучатам повесть старины, в преданиях сохраненную. И в таком случае разве не может она начаться хоть бы так:
– «И вот, в оное древнее время, когда люди дрались, аки лютые звери, – пошла грозная армия царя Белого, через синие горы, на Черное море, громить врага дерзкого, приплывшего, кит-рыбе подобно, из-за окианов дальних, пытать русской силы. И был в оной русской армии витязь-богатырь Егор-солдат, по прозвищу Облом-Чертолом; а при нем, при Егоре, страшный трехногий пес-цербер, по кличке волкодав-Сибирлетка» и так далее…
Разве – спрашиваю я – не может этого случиться, о читатель? И в таком случае, разве это не бессмертие? – Пусть и «здох пес», но все-таки осталась по нем добрая память.
А на свете только то исчезает как сон, – о чем и вспоминать не стоит!..





![Книга Ветеран и новобранец [старая орфография] автора Алексей Писемский](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-veteran-i-novobranec-staraya-orfografiya-272198.jpg)
![Книга Василиса прекрасная [Старая орфография] автора Народные сказки](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-vasilisa-prekrasnaya-staraya-orfografiya-252268.jpg)
![Книга Марья Моревна [старая орфография] автора Народные сказки](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-marya-morevna-staraya-orfografiya-252093.jpg)
