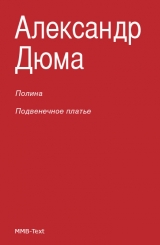
Текст книги "Полина; Подвенечное платье"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Александр Дюма
Полина. Подвенечное платье
Полина

I
Однажды субботним вечером в конце 1834 года мы сидели в маленькой комнате, смежной с фехтовальной залой Гризье. С рапирами в руках мы курили сигары и заслушивались учеными теориями нашего профессора, которые порой прерывались анекдотами. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел Альфред де Нерваль.
Те, кто знают о моем путешествии в Швейцарию, вероятно, вспомнят этого молодого человека, везде сопровождавшего одну таинственную даму, лицо которой всегда скрывала вуаль. Эту даму я в первый раз увидел во Флелене, когда бежал с Франциско к шлюпке, что должна была доставить нас к камню Вильгельма Телля. Читатели также вспомнят, что Альфред де Нерваль, которого я надеялся иметь своим товарищем в дороге, вместо того чтобы подождать меня, приказал гребцам отплывать, и, оставляя берег в ту самую минуту, когда я был в пятистах шагах от него, сделал мне знак рукой: и прощальный, и дружеский одновременно. Я понял его так: «Виноват, любезный друг! Очень бы желал тебя видеть, но я не один и…» На это я ответил другим знаком, которым хотел выразить, что прекрасно его понимаю. Остановившись, я поклонился в знак повиновения этому решению, чрезвычайно строгому, как мне казалось тогда, ведь из-за отсутствия других шлюпок и гребцов я не мог отправиться в путь ранее другого дня. По возвращении в гостиницу я спросил, не знает ли кто, что за женщина была с Альфредом де Нервалем. Мне ответили, что о ней известно только то, что, по-видимому, она очень больна и что зовут ее Полиной.
Я уже успел забыть об этом, когда у источника горячих вод, наполняющих купальни Пфеферса, увидел под длинной подземной галереей Альфреда де Нерваля, подающего руку той самой даме, которую я встречал уже во Флелене, и которая там пожелала остаться неизвестной. Я заметил, что она и на этот раз хотела сохранить инкогнито, потому что поспешила возвратиться назад. К несчастью, дорожка, по которой мы шли, не позволяла повернуть ни вправо, ни влево. Это был своего рода мост, составленный из двух досок, мокрых и скользких, которые, вместо того чтобы быть переброшенными через пропасть, в глубине которой по мраморному ложу катилась Тамина, тянулись вдоль стены подземелья, уложенные на бревна, вмурованные в скалу. Таинственная спутница моего друга, увидев, что бежать некуда, опустила вуаль и двинулась мне навстречу.
Она, бледная и легкая как тень, произвела на меня неизгладимое впечатление, когда бесстрашно прошла по краю бездны, словно принадлежала уже другому миру. При ее приближении я прижался к стене, чтобы оставить ей как можно больше места. Альфред хотел, чтобы его спутница прошла одна, но она все не решалась оставить его руку, так что на какой-то миг, короткий как вспышка молнии, мы втроем очутились на островке не более двух футов [1]1
Единица измерения расстояния; 1 фут приблизительно равен 0,3 метра.
[Закрыть]в ширину. Эта странная женщина, подобно фее, склонившейся с берега к водным потокам, волосы которой плещутся в пене каскадов, чудом прошла по краю пропасти; однако не так скоро, чтобы я не разглядел бледного и спокойного лица ее, изнуренного страданием. Тогда мне показалось, что я не в первый раз его вижу. Оно пробудило во мне темное воспоминание о другом времени, воспоминание о гостиных, балах, праздниках. Мне казалось, что я знал эту женщину раньше, но не такой измученной и печальной, как теперь, а веселой, румяной, увенчанной благоухающими цветами, кружащейся в упоительном вальсе или шумном галопаде [2]2
Род танца или музыка к нему.
[Закрыть]. Где же это было? Не знаю!.. В какое время? Не могу сказать!.. Она была мечтой, эхом моих воспоминаний, чем-то неопределенным и едва уловимым, что ускользало от меня, словно призрачное видение. Я вернулся к купальням Пфеферса через полчаса, надеясь вновь ее увидеть. Я готов был даже прибегнуть к дерзости, чтобы достигнуть своей цели, но не нашел там ни ее, ни Альфреда.
Прошло два месяца после этой встречи, я находился в Бавено, подле озера Маджиоре. Стоял прекрасный осенний вечер: солнце скрылось за горной цепью Альп и с востока, где все ярче проявлялись россыпи звезд, надвигалась тень. Окно мое выходило на террасу, покрытую цветами; я спустился с нее и очутился в лесу лавровых, миртовых и апельсиновых деревьев. Цветы так хороши, что мало быть подле них: хочется наслаждаться ими, и где бы их ни находили – в поле, в саду, кто бы их ни находил – дитя, женщина или мужчина, – следуя какому-то естественному побуждению, они срывают их и делают букет, чтобы благоухание и прелесть цветов всегда были с ними. И я не устоял перед искушением и сорвал несколько ароматных веток. Затем я направился к парапету из розового мрамора, который возвышался над озером, отделенным от сада большой дорогой, ведущей из Женевы в Милан. Едва я дошел до него, как луна показалась из-за Сесто, и лучи ее скользнули по горным пикам, видневшимся на горизонте, и по воде, спавшей у ног моих, блестящей и неподвижной как огромное зеркало. Все замерло: ни единого звука не было слышно на земле, на озере, в небе, и в этом величественном и меланхолическом безмолвии ночь вступала в свои права. Вскоре в густых кронах деревьев, которые возвышались по левую сторону от меня, и корни которых омывала вода, зазвучала песнь соловья, гармоничная и нежная. То был единственный звук, нарушавший тишину ночи; он длился с минуту, звонкий и мерный; потом вдруг рулада оборвалась. Этот шум как будто пробудил другой, но совсем иного свойства: вдали раздался стук колес экипажа, ехавшего от дома д’Оссола. В это время соловей опять начал петь, и я слушал только птичку Джульетты. Когда она смолкла, я уловил вновь стук колес приближавшегося экипажа, двигавшегося очень быстро. Однако ж, несмотря на скорость его движения, мой мелодический певец успел начать очередную свою ночную молитву до его появления. Но на этот раз, едва он пропел последнюю ноту, я приметил на повороте из лесу коляску, которая неслась по дороге, проходившей мимо гостиницы. В двухстах шагах от нее кучер хлопнул бичом, чтобы дать знать о прибытии своему собрату. В самом деле, почти тотчас тяжелые ворота гостиницы заскрипели на своих петлях, и вывели новых лошадей; в эту самую минуту коляска остановилась под террасой, на перила которой я опирался.
Ночь, как я сказал, была так светла и так прекрасна, что путешественники, желая насладиться чистым воздухом, отстегнули фартук коляски; их было двое: молодой мужчина и молодая женщина, закутавшаяся в большую шаль или манто. Она в задумчивости склонила голову на плечо молодого человека, который ее поддерживал. Скоро вышел кучер с огнем, чтобы зажечь фонари на коляске; луч света скользнул по лицам путешественников, и я узнал Альфреда де Нерваля и Полину.
Опять они!.. Мне казалось, будто что-то могущественнее случая устраивало наши встречи. Она сильно изменилась с нашей последней встречи в Пфеферсе – настолько бледная, настолько изнуренная, что это была, казалось, лишь тень. Однако ж ее поблекшие черты вновь всколыхнули во мне тот неясный образ женщины, который хранился в глубинах моей памяти. Он появлялся при каждой новой встрече, всплывал в моем сознании, скользил в моих мыслях, как туманное видение Оссиана. Я готов был уже произнести имя Альфреда, но вспомнил, что спутница его не хотела, чтобы ее видели. Однако неизъяснимое чувство жалости так влекло меня к ней, что хотелось, по крайней мере, дать ей знать, что есть человек, который молится о ее слабой душе, чтобы она не оставляла раньше времени ее прелестного тела. Я достал из кармана визитную карточку и написал на обороте карандашом: «Бог хранит странников, утешает скорбящих и исцеляет болеющих!..» Поместил ее среди померанцевых и миртовых цветов, что я нарвал, и бросил букет в коляску. В ту же самую минуту кучер тронул лошадей; однако ж я увидел, как Альфред высунулся из коляски и поднес мою карточку к фонарю. Тогда он обернулся, сделал мне рукой знак, и коляска исчезла за поворотом дороги.
Шум удалявшегося экипажа стихал; но на этот раз он не был прерван песней соловья. На террасе, повернувшись к кустарнику, я пробыл еще с час в напрасных ожиданиях. Тогда одна печальная мысль овладела мной. Я вообразил себе, что эта птичка, которая пела, была душой молодой женщины, пропевшей свою последнюю торжественную песнь, прощаясь с землей, и отлетевшей на небо.
Восхитительное расположение гостиницы на краю Альп, на границе Италии, позволяет наслаждаться чудесными картинами природы. Отсюда открывается великолепный вид на тихое озеро Маджиоре, с тремя его островами, один из которых – сад, другой – деревня, а третий – дворец. Первые зимние снега, покрывшие горы, и последнее осеннее тепло, приходящее со Средиземного моря, – все это задержало меня в Бавено на восемь дней. Потом я поехал в Ароно, а оттуда – в Сесто-Календе.
Здесь меня ожидало последнее воспоминание о Полине: звезда, движение которой видел я в небе, – померкла; ножка, так легко коснувшаяся края бездны, – сошла в могилу!.. И исчезнувшая юность, и поблекшая красота, и разбитое сердце – все, все погребено под камнем, который, скрывая это тело так же таинственно, как при жизни вуаль покрывала лицо ее, не оставил любопытствующему свету ничего, кроме имени Полины.
Я ходил взглянуть на ее гробницу: она была совершенной противоположностью итальянским гробницам, всегда стоящим в церквях, и возвышалась в прекрасном саду на лесистом холме. Это было вечером; от лунного света камень начинал белеть… Я сел подле него, принуждая мысль свою собрать все воспоминания, рассеянные и неясные, об этой молодой женщине. Но и на этот раз память мне изменила: мне представлялся призрак с расплывчатыми очертаниями, а не статуя с ее четкими контурами. Я отказался от дальнейших попыток проникнуть в эту тайну до тех пор, пока не увижу Альфреда де Нерваля.
Теперь вы понимаете, как его неожиданное появление в ту минуту, когда я меньше всего думал о нем, поразило вдруг мой ум, мои сердце и воображение. В одно мгновение я вспомнил все: и шлюпку, убежавшую от меня, и этот подземный мост, подобный преддверию ада, где путешественники кажутся тенями, и эту маленькую гостиницу в Бавено, мимо которой промчалась карета; наконец, этот белеющий камень, где, при свете луны, пронизывающем кроны апельсиновых деревьев, можно было прочесть, вместо эпитафии, имя этой женщины, умершей во цвете лет и, вероятно, очень несчастной.
Я бросился к Альфреду, как человек, заключенный долгое время в подземелье, бросается к свету, который входит в дверь, ему отворенную. Он печально улыбнулся и протянул мне руку. Тогда мне стало стыдно при мысли, что Альфред, мой старинный друг, которого я знал уже пятнадцать лет, мог принять мое чувство за простое любопытство.
Он вошел. Это был один из лучших учеников Гризье. Однако же около трех лет его не видели в фехтовальной зале. В последний раз он появился там накануне дуэли. Не зная еще, каким оружием будет драться, он приезжал тогда на всякий случай, набить рукус учителем. С тех пор Гризье с ним не виделся; он слышал только, что де Нерваль оставил Францию и уехал в Лондон.
Гризье, который заботился о репутации своих учеников, как о своей собственной, обменявшись с Альфредом обыкновенными приветствиями, подал ему рапиру и выбрал из нас противника ему по силам. Насколько я помню, это был бедный Лабаттю, уехавший потом в Италию и обретший в одиночестве и безвестности последний приют в Пизе. При третьем ударе рапира Лабаттю встретилась с рукояткой оружия его противника и, разломившись в двух дюймах ниже гарды, прошла сквозь эфес и разорвала рукав его рубашки, покрывшийся кровью. Лабаттю тотчас бросил рапиру; он думал, как и мы, что Альфред ранен.
К счастью, это была только царапина; но, подняв рукав рубашки, Альфред открыл нам другой рубец, который казался гораздо серьезнее: пистолетная пуля обезобразила его плечо.
– Ба!.. – сказал Гризье с удивлением. – Я и не знал, что у вас есть эта рана.
Учителю было известно о нас все, как кормилице – о ее ребенке; ни один из учеников его не имел ни одной царапинки на теле, о которой бы он не знал. Я уверен, если бы Гризье захотел рассказать о причинах известных ему дуэлей, то написал бы любовную историю, самую занимательную и соблазнительную, но это наделало бы много шума в свете и повредило бы его заведению. Он напишет о них записки, которые будут изданы по его смерти.
– Эту рану, – сказал Альфред, – я получил на другой день после свидания с вами, после чего уехал в Англию.
– Я вам говорил, чтобы вы не дрались на пистолетах. Вы забыли общее правило: шпага – оружие храброго и благородного; шпага – драгоценнейшее наследие, которое история передает нам от великих людей, прославивших отечество. Говорят – шпага Карломана, шпага Баяра, шпага Наполеона; а слышали ли вы, чтобы кто-нибудь говорил об их пистолетах? Пистолет – оружие разбойника; приставляя пистолет к виску своей жертвы, он заставляет ее подписывать фальшивые векселя; с пистолетом в руке он останавливает дилижанс в чаще леса; пистолетом, наконец, обанкротившийся делец срывает себе череп. Пистолет!.. фи!.. Шпага – другое дело! Это товарищ, поверенный, друг человека; она бережет его честь или мстит за нее.
– Но с этим убеждением, – ответил с улыбкой Альфред, – как вы сами решились два года тому назад стреляться на пистолетах?
– Я – дело другое. Я должен был драться всем, чем бы ни пожелали: я – учитель фехтования; и, притом, бывают обстоятельства, когда нельзя отказываться от условий, которые вам предлагают…
– Я и находился в подобных обстоятельствах, мой милый Гризье, и вы видите, что не худо кончил свое дело.
– Да! С пулей в плече.
– Все ж лучше, нежели с пулей в сердце.
– Можно ли узнать причину этой дуэли?
– Извините меня, мой любезный Гризье, эта история пока еще тайна; но через некоторое время вы все узнаете.
– Полина?.. – произнес я тихо.
– Да! – отозвался он.
– Точно ли мы ее узнаем? – спросил Гризье.
– Точно! – ответил Альфред, – и в доказательство я увожу с собой ужинать Александра, которому расскажу все нынешним вечером. Когда не останется препятствий к изданию, вы найдете ее в каком-нибудь томе повестей.Потерпите пока.
Гризье пришлось покориться. Альфред увел меня к себе ужинать, как обещал, и рассказал мне историю Полины.
Теперь единственное препятствие к ее изданию исчезло. Мать Полины умерла, и с ней угасли фамилия и имя этой несчастной женщины, приключения которой кажутся невероятными, потому как они совершенно не согласуются со временем и страной, в которых мы живем.
II
– Ты знаешь, – сказал мне Альфред, – что я учился живописи, когда мой добрый дядя умер и оставил мне и сестре моей, каждому, по тридцать тысяч ливров годового дохода.
Я поклонился в знак подтверждения того, что сказал Альфред, и почтения к праху человека, сделавшего такое доброе дело, покидая этот свет.
– С тех пор, – продолжал рассказчик, – я предавался живописи только ради отдыха. Я решил отправиться в путешествие: увидеть Шотландию, Альпы, Италию; я взял у нотариуса свои деньги и отправился в Гавр, чтобы начать свою поездку с Англии.
В Гавре я узнал, что в маленькой деревеньке Трувиль на другой стороне Сены были Дозат и Жаден. Я не хотел покидать Францию, не попрощавшись со своими друзьями, которые также увлекались живописью; я взял пакетбот [3]3
Пакетбот– двухмачтовое судно, с помощью которого перевозили почту и пассажиров в некоторых странах в XVIII–XIX веках.
[Закрыть]и через два часа был в Гонфлере, а по утру – в Трувиле. К несчастью, они уехали накануне.
Ты ведь знаешь это местечко с его рыбаками. Это один из самых живописнейших уголков Нормандии. Я пробыл там несколько дней, побродил по окрестностям; а вечером, сидя у камина в гостиной моей почтенной хозяйки, госпожи Озере, я слушал рассказы о приключениях довольно странных, которые в продолжение трех месяцев случались в департаментах Кальвадос, Луара и Манш. Речь шла о грабежах, необыкновенно дерзких. Как-то раз нашли возницу: сам он был привязан к дереву, карета его стояла на большой дороге, а лошади спокойно паслись на соседнем лугу. В другой раз, вечером, когда генеральный сборщик податей города Каен давал ужин молодому парижанину по имени Горацио Безеваль и двум его друзьям, приехавшим поохотиться и погостить в замке Бюрси, располагавшемся в пятнадцати лье от Трувиля, разломали его сундук и похитили семьдесят тысяч франков. Наконец другого сборщика податей, из Пон-л'Эвека, что вез в Лизье в казну двенадцать тысяч франков, убили, а тело сбросили в Тук; через некоторое время воды этой маленькой реки вынесли труп на берег – признаки насильственной смерти были налицо. Виновников этого страшного преступления так и не нашли, несмотря на все старания начальников парижской полиции – взбудораженные этими разбоями, они отправили туда своих самых лучших подчиненных.
К этим происшествиям добавились еще и вспыхивавшие то тут то там по неизвестным причинам пожары, которые оппозиционные журналы, однако, приписывали правительству. Вся Нормандия была охвачена ужасом, доселе ей незнакомым. Эта мирная область была известна своими адвокатами и тяжбами, но никак не разбойниками и убийцами. Что касается меня, то я мало верил всем этим историям. Они показались бы мне более правдоподобными в местах, соседствующих с пустынными ущельями Сиерры или дикими скалами Калабрии, а не в богатейших долинах Фалеза и не посреди плодоносных равнин Понт-Одемера, усыпанных деревнями, замками и мызами. Я всегда представлял себе разбойников в лесу или в глубине пещеры. А во всех трех департаментах не было ни одной норы, которая бы хоть отдаленно напоминала пещеру, и ни одной рощи, которая могла бы хоть чем-то походить на лес.
Однако мне пришлось поверить всем этим рассказам, когда на одного богатого англичанина, следовавшего вместе со своей женой из Гавра в Алансон, напали. Он не доехал всего половину лье до Дива, где собирался переменить лошадей. Расправившись с господами, в их карету бросили связанного возницу с кляпом во рту. Лошади, зная дорогу, пришли в Ранвиль и остановились у почтового двора, где пробыли до утра, ожидая, что их распрягут. На другой день конюх, отворив ворота, увидел карету, запряженную лошадьми, в которой вместо пассажира находился бедный возница. Его привели к мэру, и там этот человек рассказал, что его экипаж остановили на большой дороге четыре человека в масках, принадлежавшие, судя по их одежде, к низшему сословию. Они принудили его остановиться и заставили путешественников выйти из кареты; англичанин хотел было защищаться и выстрелил из пистолета; сразу после этого кучер услышал крик и стоны, но так и не посмел обернуться. Впрочем, через минуту после этого ему заткнули рот и бросили в карету, которую лошади привезли к почтовому двору так исправно, как если бы он сам сидел на козлах. Жандармы тотчас бросились к указанному месту и, в самом деле, нашли во рву тело англичанина, дважды пронзенное кинжалом. Что же касается жены его, то не отыскали ни малейших ее следов. Это происшествие случилось не далее как в десяти-двенадцати лье от Трувиля. Тело жертвы перевезли в Каен. Тогда уже я не имел никакой причины сомневаться.
Через три-четыре дня после этого случая, накануне отъезда, я решил в последний раз посетить места, которые собрался покинуть. Я приказал снарядить лодку, которую нанял на месяц, подобно тому как в Париже нанимают карету. Небо было чистым, день обещал быть погожим, так что я велел перенести на нее обед и свои карандаши. Я, заменяя собой весь экипаж, поднял парус.
– В самом деле, – прервал я Альфреда, – мне известна твоя страсть к мореходству, и я припоминаю, как ты совершил свое первое плавание между мостом Тюильри и мостом Согласия на шлюпке под американским флагом.

– Да! – продолжал Альфред, улыбаясь, – но это путешествие должно было стать для меня роковым. Сначала все шло хорошо; у меня была маленькая рыбачья лодка с одним парусом, которой я мог управлять посредством руля. Благодаря попутному ветру, я скользил по морской глади с удивительной быстротой: за три часа я сделал около восьми или десяти лье; потом ветер вдруг стих, и море стало неподвижным. В это время я находился напротив устья Орны. По правую сторону от меня были прибрежные рифы Лангрюна и скалы Лиона, по левую – развалины какого-то аббатства, примыкающие к замку Бюрси. Именно такой вид мне и был нужен: мне оставалось только зарисовать этот пейзаж, чтобы написать картину. Я опустил парус и принялся за работу.
Это занятие так захватило меня, что я потерял счет времени. Очнулся лишь в тот момент, когда ощутил дуновение теплого ветерка – предвестника бури. Я поднял голову. Молния раскроила небо, покрытое облаками, столь черными и плотными, что они казались цепью гор; я понял, что нельзя терять ни минуты. Ветер переменился, я поднял свой маленький парус и направился вдоль берега к Трувилю, чтобы в случае опасности стать на якорь. Сделав не более четверти лье, я увидел, что парус приник к мачте; тогда я снял его и мачту, не доверяя этой обманчивой тишине. И в самом деле, через минуту я оказался в месте, где сошлись встречные течения, море начало шуметь, раздался удар грома. Этим нельзя было пренебрегать, потому что буря стала приближаться с быстротой скачущей лошади. Я снял платье, взял в руки весла и начал грести к берегу. Мне оставалось сделать около двух лье, чтобы его достигнуть; к счастью, было время прилива, и, несмотря на то что ветер дул с берега, волны гнали меня к земле. Я греб изо всех сил, но буря все приближалась и наконец настигла меня. Помимо всего прочего, надвигалась ночь, но я еще надеялся добраться до берега, прежде чем наступит совершенная темнота.
Следующий час был ужасен. Лодка моя, столь же легкая, как ореховая скорлупа, покорялась всем волнам и то поднималась, то опускалась на них. Я продолжал грести; но, осознав, наконец, что только зря трачу силы, и предчувствуя, что придется спасаться вплавь, я снял весла с уключин, бросил их на дно лодки возле мачты и паруса. Оставшись только в панталонах и рубашке, я скинул с себя все, что могло бы затруднить мои движения в воде. Два или три раза я был готов броситься в море, но сама легкость лодки спасла меня: она плыла как пробка и не пропускала ни капли воды; только с минуты на минуту я ожидал, что она опрокинется. В какой-то момент мне показалось, что она коснулась дна, но ощущение было таким мимолетным, что я не смел даже на это надеяться. Более того, опустилась темнота, и я не мог ничего различить в двадцати шагах. Я даже не знал, на каком расстоянии от берега нахожусь. Вдруг я почувствовал сильный толчок и на этот раз уже не сомневался, что днище лодки что-то задело. Но был это подводный камень или песок? Между тем новая волна подхватила лодку, и несколько минут она неслась с невероятной быстротой; но вот лодку подбросило с такой силой, что когда волна отхлынула, киль сел на мель. Не теряя времени даром, я схватил сюртук, выпрыгнул через борт лодки, оставив в ней все прочее. Вода доходила только до колен, и прежде чем новая волна настигла меня, я уже стоял на берегу.
Я накинул на плечи сюртук и быстро пошел вперед. Вскоре я почувствовал, что иду по тем округлым камням, которые называют голышами и которые показывают пределы прилива. Я продолжал идти еще некоторое время, и теперь уже под ногами у меня была высокая трава, растущая на песчаных буграх. Тут мне уже нечего было опасаться, и я остановился.
Великолепное зрелище представляет собой бурлящее море, когда его освещают вспышки молний. Это первообраз хаоса и разрушения; это единственная стихия, которой Бог дал право восставать против него, вздымая свои волны к его молниям. Море казалось то глубокой бездной, то цепью движущихся гор, с вершинами, слившимися с облаками и долинами. При каждом ударе грома бледный луч молнии змеился по этим глубинам, по этим вершинам, и наконец исчезал в разверзающихся морских хлябях. Преисполненный ужаса и любопытства, я смотрел на то страшное зрелище, что хотел лицезреть Верне с мачты корабля, к которой велел привязать себя, чтобы запечатлеть в памяти образ стихии. Но никогда кисть человеческая не изобразит ее столь могущественной и страшной, величественной и ужасной. Я пробыл бы, может быть, целую ночь на одном месте, обратившись лишь в зрение и слух, но две крупные дождевые капли упали мне на лицо. Ночи стали холодными, хотя не было еще и середины сентября. Я мысленно искал место, где можно было бы укрыться от дождя, и вспомнил о развалинах, которые заметил с моря. Они должны были находиться поблизости. Я пошел вперед и вскоре очутился на небольшой площадке; через некоторое время я заметил, что недалеко от меня что-то чернеется. Я не мог различить, что именно это было, но оно вполне могло послужить мне убежищем. Наконец блеснула молния, и я узнал полуразрушенную паперть церкви. Я вошел внутрь, нашел место, наименее пострадавшее от разрушения, и сел в углу за столбом, думая дождаться там утра. Не зная берега, я не решался отправиться на поиски жилища в такое время. Впрочем, когда я охотился в Вандее и в Альпах, я провел двадцать ночей гораздо хуже той, что меня, по всей видимости, ожидала; меня беспокоило только одно: известное ворчание желудка, напоминавшего о том, я ничего не ел с десяти часов утра. Вдруг я вспомнил, что просил госпожу Озере положить что-нибудь в карманы моего сюртука. Я засунул в них руки. Добрая хозяйка исполнила мою просьбу: в одном кармане я нашел ломоть хлеба, в другом – целую бутылку рома. При таких обстоятельствах это был достойный ужин. Едва я закончил скромную трапезу, как почувствовал приятную теплоту, распространявшуюся по всему телу, начинавшему уже замерзать. Мысли мои, принявшие мрачное направление, оживились, как только горло мое оросила живительная влага. Из-за усталости меня стало клонить в сон. Завернувшись в сюртук, я прислонился к столбу и скоро заснул под шум морских волн, разбивавшихся о берег, и свист ветра, гулявшего по развалинам.
Я проспал около двух часов, когда меня разбудил шум: это дверь скрипела на петлях и ударялась о стену. Очнувшись от беспокойного сна, я открыл глаза и в ту же минуту встал, предусмотрительно скрываясь за столбом. Внимательно посмотрел вокруг, но ничего не увидел; однако не оставил своих предосторожностей, так как был совершенно убежден в том, что слышал шум и что грезы сновидения не обманули меня.







