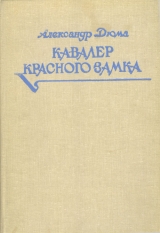
Текст книги "Кавалер Красного замка"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В семь часов подали ужин; муниципалы осмотрели по обыкновению каждое блюдо, развернули одну за другой салфетки, ощупали хлеб – один вилкой, другой пальцами, разрезали макароны, раскололи орехи – все это из опасения, чтобы не попала как-нибудь к заключенным записка; потом, приняв все эти предосторожности, пригласили королеву и принцесс сесть за стол:
– Вдова Капета, теперь ты можешь есть.
Королева покачала головой в знак, что не желает кушать.
Но в эту минуту принцесса подошла, как будто желая поцеловать свою мать, и шепнула:
– Сядьте за стол, ваше величество; мне кажется, что Тюржи подает знаки.
Королева вздрогнула и приподняла голову. Тюржи стоял перед нею с салфеткой под левой мышкой и проводил правой рукой по глазу.
Она тотчас встала и заняла свое обычное место за столом.
Оба муниципала присутствовали во время ужина; им велено было ни на минуту не оставлять принцесс с Тюржи.
Ноги королевы и принцессы Елизаветы столкнулись под столом, и они пожимали друг друга.
Так как королева находилась напротив Тюржи, то ни один из знаков прислужника не ускользнул от нее. Притом же все движения его были так естественны, что не могли внушить и не внушали никакого недоверия муниципалам.
После ужина убрали со стола с теми же предосторожностями, как и при сервировке; мельчайшие крошки хлеба были собраны и рассмотрены, после чего Тюржи вышел первым, потом муниципалы; но жена Тизона осталась.
Эта женщина сделалась свирепой с тех пор, как разлучили ее с дочерью, судьба которой была ей совершенно неизвестна. Всякий раз как королева обнимала дочь, она впадала в неистовство, походившее на безумие; поэтому королева, понимая это страдальческое чувство матери, не раз останавливала себя в ту минуту, когда думала дать себе это утешение, единственное, которое оставалось у нее – прижать к груди свою дочь.
Тизон пришел за своей женой, но последняя тут же объявила, что уйдет только тогда, когда вдова Капета уляжется спать.
Тогда принцесса Елизавета простилась с королевой и пошла в свою комнату.
Королева разделась и легла, а за нею и принцесса. Тогда жена Тизона взяла свечу и вышла.
Муниципалы уже улеглись в свои постели, находившиеся в коридоре.
Луна, эта бледная посетительница заключенных, пропускала сквозь отверстия в ставнях косой луч свой, проходивший от окна до ступеней кровати королевы.
Некоторое время все было спокойно и тихо в комнате.
Потом медленно открылась дверь: прошла тень по лучу света и приблизилась к изголовью постели. Это была принцесса Елизавета.
– Вы видели? – шепотом сказала она.
– Да, – ответила королева.
– И вы поняли?
– Так хорошо, что поверить не могу.
– Постойте, повторите знаки.
– Сначала он провел по правому глазу, чтобы показать, что есть новость. Потом он перенес салфетку из-под левой руки под правую, это означает, что заботятся о нашем освобождении. Потом он поднял свою руку ко лбу в знак того, что помощь, о которой он нас извещает, идет из Франции, а не из заграницы. Потом, когда ему сказали не забыть принести завтра заказанное вами молоко, он сделал два узла на своем платке.
– Стало быть, это опять кавалер де Мезон Руж. Благородное сердце!
– Это он, – сказала Елизавета.
– Спишь ли ты, дочь моя? – спросила королева.
– Нет, матушка, – отвечала та.
– Поди, помолись, знаешь за кого?
Принцесса Елизавета бесшумно добралась до своей комнаты, и в течение пяти минут слышен был голос юной принцессы, обращавшейся среди ночной тишины к богу.
Это было именно в ту минуту, когда по сигналу Морана раздались первые удары лома в подвале дома на улице Кордери.
XVIII. Облака
После первых, таких упоительных, взглядов Морис не ожидал такой встречи от Женевьевы: он надеялся, что его вознаградят за потерянное или, по крайней мере, за то, что ему казалось потерянным; он надеялся на свидание наедине.
Но у Женевьевы был свой обдуманный план; она была твердо уверена, что не доставит ему случая остаться с нею наедине, тем более что она припоминала, как опасны эти свидания с глазу на глаз.
Морис надеялся на следующий день; но Женевьеву пришла навестить родственница, без сомнения, заранее ею предупрежденная. Нечего было сказать на этот раз, Женевьева могла быть и не виновата.
При прощании Морису было поручено проводить родственницу, которая жила на улице де Фоссэ-сен-Виктор.
Морис удалился надувшись, но Женевьева улыбнулась ему, и Морис счел эту улыбку за обещание.
Увы! Морис ошибался. На следующий день, 2 июня, день ужасный, когда свершилось падение жирондистов, Морис спровадил своего друга Лорена, который непременно хотел увести его в Конвент, и отложил все, чтобы идти повидаться со своей приятельницей. У Богини Свободы была жестокая соперница – Женевьева.
Морис застал Женевьеву в ее маленькой гостиной. Женевьеву, исполненную прелести и предупредительности; но при ней находилась молоденькая горничная с трехцветной кокардой на голове, которая сидела, не вставая с места, у окна и вышивала метки на платках.
Морис насупил брови; Женевьева заметила, что олимпиец не в духе; она удвоила свое внимание, но так как любезность ее не простерлась до того, чтобы удалить молодую прислужницу, Морис вышел из терпения и отправился домой часом ранее обычного.
Все это могло быть случайным. Морис вооружился терпением. При том же в этот вечер положение дел было столь ужасно, что, хотя Морис с некоторого времени жил, не касаясь политики, известия дошли и до него. Нужно было свершиться падению целой партии, царившей во Франции десять месяцев, чтобы хоть на мгновение отвлечь его от любви.
На другой день, предвидя такое же поведение со стороны Женевьевы, Морис придумал план: через десять минут после своего прихода, увидев, что горничная, пометив дюжину платков, принялась метить шесть дюжин салфеток, Морис вынул часы, встал, поклонился Женевьеве и, ни слова не говоря, вышел.
Скажем еще более: выходя, он ни разу не обернулся.
Женевьева встала, чтобы проводить его взором по саду, но, вдруг побледнев и став в каком-то оцепенении и нервическом страхе, опустилась на стул, пораженная результатом своей дипломатии.
В эту минуту вошел Диксмер.
– Морис ушел? – вскричал он удивленно.
– Да, – проговорила Женевьева.
– Да он только что пришел!
– С четверть часа, не более.
– Стало быть, он вернется?
– Не думаю.
– Оставь нас, Мюгэ [4]4
Muguet – ландыш.
[Закрыть], – сказал Диксмер.
Горничная избрала именем название цветка из ненависти к имени Марии, которое имела несчастье носить как австриячка.
Выполняя волю хозяина, она встала и вышла.
– Ну что, милая Женевьева, – спросил Диксмер, – помирились вы с Морисом?
– Напротив, друг мой, мне кажется, что мы сегодня холоднее, чем когда-либо.
– А кто виноват на этот раз? – спросил Диксмер.
– Без сомнения, Морис.
– Послушайте, сделайте меня посредником.
– Как, – сказала Женевьева, покраснев, – вы не догадываетесь?
– За что он рассердился? Нет.
– Кажется, он возненавидел Мюгэ.
– Нет, в самом деле? Так надо отказать этой прислуге. Я не хочу лишиться из-за какой-то горничной такого друга, как Морис.
– О, – сказала Женевьева, – я не думаю, чтобы ненависть его дошла до того, чтобы он требовал изгнания ее из дома и что достаточно было бы…
– Чего?
– Чтобы ее удалили из моей комнаты.
– Да, Морис прав, – сказал Диксмер. – Не к Мюгэ, а к вам является Морис с визитом, стало быть, нет никакой надобности, чтобы Мюгэ безвыходно была у вас.
Женевьева взглянула на своего мужа с удивлением.
– Но, друг мой… – сказала она.
– Женевьева, – подхватил Диксмер, – я думал, что вы моя союзница, которая облегчит предпринятый мной труд, а ваши опасения, наоборот, увеличивают наши затруднения. Дня четыре тому назад я полагал все устроенным между нами, а теперь вижу, что надо все снова переделывать. Женевьева, не говорил ли я вам, что полагаюсь на вас, на вашу честь? Не говорил ли я вам, что нужно, наконец, чтобы Морис стал нашим другом, более близким и более доверчивым, чем когда-либо? О, боже мой! Женщины – вечное препятствие нашим намерениям!
– Да, боже мой! Не имеете ли вы какого-нибудь другого средства? Для всех нас лучше было бы, как я уже говорила, чтобы Морис был удален.
– Да, для всех нас может быть, но для той, которая выше всех нас, радитой, которой мы поклялись пожертвовать нашим состоянием, нашей жизнью, даже нашим счастьем, этот молодой человек должен быть нашим. Знаете ли вы, что Тюржи все сильнее подозревают и что поговаривают уже о новом прислужнике для принцесс?
– Хорошо, я откажу Мюгэ.
– Э, боже мой, Женевьева, – сказал Диксмер с заметным раздражением, столь в нем редким, – зачем говорить мне об этом? Зачем раздувать огонь моих мыслей вашими? Зачем создавать затруднения в самом затруднении? Женевьева, сделайте, как женщина честная, преданная, то, что вы сочтете должным. Теперь скажу вам: завтра меня не будет дома, завтра я замещаю Морана в его инженерных занятиях и не буду с вами обедать, но он останется. Есть просьба к Морису, Моран вам это объяснит. Обдумайте, Женевьева. То, о чем нужно просить его, очень важно; это не цель, к которой мы стремимся, но средство. Последняя надежда на этого человека, столь доброго, столь благородного, столь преданного вашего и моего покровителя, которому мы должны пожертвовать жизнью.
– И для которого я отдам свою! – с жаром вскричала Женевьева.
– И этого-то человека, Женевьева, – не знаю, как это случилось, – вы не сумели сделать приятным Морису, что всего важнее, так как сегодня в дурном расположении духа, в которое вы его ввергли, Морис откажет, может быть, Морану в том, о чем он будет просить и на что необходимо склонить его во что бы то ни стало. Хотите ли, чтобы я сказал вам, Женевьева, к чему поведет Морана вся ваша чопорная деликатность и сентиментальность?
– О, сударь, – вскричала Женевьева, побледнев и всплеснув руками, – не будем никогда говорить об этом!
– Итак, – подхватил Диксмер, поцеловав жену в лоб, – будьте тверды и рассудительны.
И он вышел.
– О, боже мой, боже мой, – с грустью проговорила Женевьева, – сколько усилий прилагается с их стороны, чтобы я согласилась на любовь, к которой так стремится моя душа!..
Следующий день, как мы сказали, был день декады [5]5
По тогдашнему республиканскому календарю.
[Закрыть].
В семействе Диксмера был, как и во всех семействах разночинцев того времени, обычай – это более продолжительный и церемонный обед в праздничный день, нежели в прочие дни. Морис был приглашен однажды и навсегда к воскресному обеду и никогда не пропускал его. В эти дни, хотя по обыкновению садились за стол только в два часа, Морис являлся в двенадцать.
Судя по тому, как он расстался, Женевьева почти отчаялась увидеть его.
В самом деле, пробило 12 часов, а Мориса еще не было, потом половина первого и час.
Нельзя выразить, что происходило в сердце Женевьевы в эти минуты ожидания.
Сначала она оделась было как можно проще; потом, видя, что он мешкает, из чувства кокетства, столь естественного сердцу женщины, она приколола цветок к поясу, другой в волосы и стала опять дожидаться, чувствуя, что сердце ее все более и более сжимается. Уже почти было время садиться за стол, а Морис не являлся.
Без десяти два Женевьева услыхала мерный шаг лошади Мориса, этот шаг, который так был ей знаком.
– О, вот он, – вскричала она. – Гордость его не могла восторжествовать над любовью! Он любит меня!.. Он любит меня!
Морис слез с лошади, которую передал садовнику, но приказал ему дожидаться. Женевьева смотрела, как он слезал, и с беспокойством видела, что садовник не ведет лошадь в конюшню.
Морис вошел; в этот день он был очаровательно хорош. Черный широкий кафтан с большими лацканами, белый жилет, лосины, обрисовавшие его стройные ноги, воротничок белого батиста и прекрасные волосы, обрамлявшие прямой и открытый лоб, – все это украшало и возвышало его мощную фигуру.
Он вошел. Как мы уже сказали, появление его обрадовало Женевьеву, и она приняла гостя с радостью.
– А, наконец-то, – сказала она, протянув ему руку, – вы с нами обедаете, не правда ли?
– Напротив, гражданка, – холодно отвечал Морис, – я пришел просить вас извинить меня.
– Вы не останетесь?
– Да, дела секции требуют моего присутствия. Я боялся, чтобы вы не стали дожидаться меня и не обвинили бы в невежливости; вот почему я и заехал.
Женевьева почувствовала в сердце, несколько успокоившемся, новое стеснение.
– О, боже мой! – сказала она. – А Диксмер не обедает дома, он так надеялся застать вас здесь по возвращении и поручил мне вас удержать.
– А, в таком случае понимаю вашу настойчивость. Это потому, что муж велел. А я не догадывался. Видно, я никогда не избавлюсь от своей самонадеянности.
– Морис!..
– Сударыня, мне приходится руководствоваться более вашими действиями, нежели вашими словами. Мне следует понять, что если Диксмера нет дома, то и мне не должно оставаться. Отсутствие его приведет вас в еще большее смущение.
– Почему же? – с радостью спросила Женевьева.
– Потому что вы, кажется, стараетесь избегать меня. Я возвратился для вас, ради вас одной, вы это знаете, и с тех пор я беспрестанно нахожу здесь других, вместо того чтобы быть с вами.
– Ну, полноте! – сказала Женевьева. – Вот вы опять сердитесь, друг мой, а ведь я делаю как лучше.
– Нет, Женевьева, вы можете еще лучше сделать: это или принимать меня так, как прежде, или совсем отказать от дома.
– Послушайте, Морис, – с нежностью сказала Женевьева, – поймите мое положение, узнайте мои мучения и не будьте более тираном.
И молодая женщина, подойдя к нему, взглянула на него с грустью.
Морис замолчал.
– Но чего же хотите вы от меня? – продолжала она.
– Я хотел вас любить, Женевьева, ибо чувствую, что не могу существовать без этой любви.
– Морис, пожалейте…
– Так вам надо было дать мне умереть, сударыня! – вскричал Морис.
– Умереть!
– Да, умереть или забыть!
– Стало быть, вы могли бы забыть, вы! – произнесла Женевьева, у которой слезы засверкали на глазах.
– О, нет, нет, – проговорил Морис, падая на колени. – Нет, Женевьева, умереть – может быть, забыть – никогда, никогда!
– А между тем, – с твердостью возразила Женевьева, – это было бы лучше, Морис, ибо эта любовь преступна.
– Говорили ли вы об этом Морану? – сказал Морис, приведенный в себя этой внезапной холодностью.
– Гражданин Моран не безумец, как вы, Морис, и никогда не давал повода указывать, как он должен вести себя в доме друга.
– Побьемся об заклад, – отвечал Морис с иронической улыбкой, – побьемся, что если Диксмер не обедает у себя, то Моран из дома не выходит. А, вот что надо иметь мне в виду, чтобы я не любил вас! Пока этот Моран будет здесь, под боком, не отходя от вас ни на секунду, – продолжал он с презрением, – о, нет, нет, я вас не буду любить или, по крайней мере, я никогда не сознаюсь себе, что вас люблю!
– А я, – вскричала Женевьева, выведенная из себя этой вечной ревностью и схватив с каким-то неистовством руку молодого человека, – я клянусь вам, слышите ли вы, Морис, и чтобы это было сказано раз и навсегда, чтобы это было сказано с тем, чтобы никогда более не повторять, – клянусь вам, что Моран никогда ни слова не говорил мне о любви, что Моран никогда не любил меня, что никогда Моран не будет меня любить. Я вам клянусь моей честью, я вам клянусь прахом моей матери.
– Ах, – вскричал Морис, – как мне хотелось бы вам поверить!
– О, поверьте мне, бедный безумец, – сказала она с такой улыбкой, которая для любого, кроме ревнивца, была бы очаровательным признанием. – Поверьте мне. Притом хотите вы знать более? Извольте, Моран любит одну женщину, перед которой все женщины мира ничто, как полевые цветы ничто перед звездами неба.
– Какая женщина, – спросил Морис, – до такой степени может принизить всех женщин, когда в их числе вы, Женевьева?
– Та, которую любишь, – возразила Женевьева с улыбкой, – не есть ли всегда совершенство, скажите мне?
– В таком случае, – сказал Морис, – если вы не любите меня, Женевьева…
Молодая женщина с томлением дожидалась конца этой мысли…
– Если вы не любите меня, – продолжал Морис, – то можете ли поклясться мне, что не будете любить другого?
– О, насчет этого, Морис, клянусь вам и от всей души! – вскричала Женевьева в восторге, что Морис сам предложил ей примирение с совестью.
Морис схватил обе руки Женевьевы, приподнял их и осыпал горячими поцелуями.
– С этой минуты, – сказал он, – я буду добр, сговорчив, полон доверия, я буду великодушен!.. Я хочу вам улыбаться, я хочу быть счастлив!
– И ничего более не будете требовать?
– Постараюсь.
– Теперь, – сказала Женевьева, – мне кажется, что можно отвести вашу лошадь в конюшню. Секция подождет.
– О, Женевьева! Я бы хотел, чтобы вся вселенная дожидалась и чтобы она дожидалась из-за вас.
На дворе раздались шаги.
– Идут звать нас к обеду, – сказала Женевьева.
Они украдкой пожали друг другу руки.
Это был Моран с известием, что дожидаются только Мориса и Женевьевы, чтобы сесть за стол.
И он так же щегольски разоделся к этому обеду воскресного дня.
XIX. Просьба
Моран, разодетый с такой изысканностью, был какой-то загадкой для Мориса.
Тончайший франт, рассматривая узел его галстука, складки его сапог, тонину (прозрачность, тонкость батиста) его рубашки, не нашел бы, в чем упрекнуть его.
Но надо сознаться, что у него остались те же волосы и те же очки.
«Черт меня возьми, – подумал Морис, идя ему навстречу, – если я с этой минуты когда-нибудь приревную тебя к кому-нибудь, чудный гражданин Моран! Надевай на себя хоть каждый день, если хочешь, свой сизо-голубой кафтан, а на праздники сшей себе хоть парчовое платье. С этого дня даю слово ничего не замечать в тебе, кроме твоих волос и твоих очков, и тем более не обвинять тебя в любви к Женевьеве».
Не трудно понять, что после этого внутреннего монолога Морис подал руку гражданину Морану и подал ее с большим радушием, нежели бывало прежде.
Обед, против обыкновения, был проведен в узком кругу. Столик был накрыт только на три персоны. Морис постиг, что под этим столиком он может встретить ножку Женевьевы. Ножка продлит немую речь любви, начатую рукой.
Сели. Морис видел Женевьеву сбоку; она находилась между ним и светом; ее черные волосы отливали синевой, подобно воронову крылу; взор ее был полон любви.
Морис, двигая ногой, наткнулся на ножку Женевьевы. При первой встрече он искал тень на лице ее и увидел, что румянец и бледность ее вдруг сменялись один другим, но маленькая ножка неподвижно покоилась между его ступнями.
Накинув на себя светло-голубой наряд, Моран, казалось, овладел и тем светлым умом, уже известным Морису, который, отражаясь в речи этого странного человека, без сомнения, еще более оживился бы ярким взором его, если бы зеленые очки не затемняли его.
Он, высказывая тысячу шуток, даже не улыбался; но что особенно усиливало остроты, что придавало им неизъяснимую прелесть, так это его непоколебимое хладнокровие. Этот негоциант по коммерческим кожевенным оборотам много путешествовал, он торговал и грубой кожей пантеры и шкуркой кролика; этот химик с багровыми по локоть руками знал Египет, как Геродот, Африку, как Левальян, а оперу и будуары, как светский франт.
– Черт побери, гражданин Моран, – сказал Морис, – вы не только светский человек, но даже ученый!
– О, я много видел и в особенности много читал, – сказал Моран. – Притом не должен ли я подготовить себя к светской жизни, в лабиринт которой надеюсь вступить, когда повезет Фортуна? А уже время, гражданин Морис, время!
– Полноте, – сказал Морис, – вы выражаетесь словами старика. А сколько вам лет?
Моран вздрогнул при этом вопросе, впрочем, весьма естественном.
– Мне тридцать восемь лет, – сказал он, – да, вот что значит быть ученым, как вы говорите, их лета неопределенны.
Женевьева расхохоталась. Морис вторил ей, Моран же только улыбнулся.
– Так вы много путешествовали? – спросил Морис, подавляя своей ножищей ножку Женевьевы, которая старалась неприметно высвободить ее.
– Я провел часть моей молодости за границей, – отвечал Моран.
– Много видели, виноват, много сделали наблюдений, хотел я сказать, – подхватил Морис. – Такой человек, как вы, не оставит ничего без внимания.
– Да, признаюсь, много видел, – отвечал Моран. – Прибавлю даже, что я все видел.
– Все, гражданин, это много, – подхватил, усмехнувшись, Морис. – Если вы поищете…
– Ах, да, королева, – сказал Моран. – Вы правы, господин Морис, никогда не видел. Правда, в наше время два предмета встречаются все реже.
– Кто же это? – спросил Морис.
– Первое, – важно отвечал Моран, – это бог.
– А, – сказал Морис. – Зато я могу показать вам богиню.
– Как это? – прервала Женевьева.
– Да, богиню новейшего произведения, новоизобретенную Богиню Разума. Мой друг, о котором вы иногда слышали от меня, любезный, добрый Лорен, золотой человек; но одна беда – он сочиняет четверостишия и каламбуры.
– Так что же?
– А то, что он заплатил дань городу Парижу Богиней Разума, так ловко выбранной, что не к чему придраться. Это гражданка Артемиза, бывшая оперная танцовщица, ныне торгуюшая разными духами на улице Мартен. Когда окончательно посвятит ее в богини, я берусь вам представить ее.
Моран с важностью благодарил Мориса наклоном головы и продолжал:
– Другое, – сказал он, – это король.
– О, это уже труднее, – подхватила Женевьева, стараясь улыбнуться. – Его нет более.
– Вы бы постарались насмотреться на последнего, – добавил Морис.
– Да, вот почему, – сказал Моран, – я не могу иметь понятия о коронованном челе. А ведь это печально.
– И очень, – отвечал Морис, – уверяю вас. А я почти каждый месяц вижу одну особу.
– Коронованное чело? – спросила Женевьева.
– Почти что так, – подхватил Морис. – Чело, на котором лежало тяжелое и мрачное ярмо короны.
– Ах, да, королева, – сказал Моран. – Вы правы, господин Морис, это должно быть скорбное зрелище.
– Так ли она красива и величественна, как говорит о ней молва? – спросила Женевьева.
– Неужели вы ее никогда не видели, сударыня? – спросил удивленный Морис.
– Я? Никогда… – ответила молодая женщина.
– В самом деле, – сказал Морис, – это странно!
– Отчего же странно? – отвечала Женевьева. – Мы жили в провинции до 91-го года, с 91-го я живу на старой улице Сен-Жак, которая очень похожа на деревню, разве с той разницей, что в ней никогда не видишь солнце, мало воздуха и немного цветов. Вам известна моя жизнь, гражданин Морис. Она всегда была такова. Где же вы хотите, чтобы я видела королеву? Я не имела никогда случая.
– И не думаю, чтобы вы воспользовались тем, который, к несчастью, может представиться! – сказал Морис.
– Что вы этим хотите сказать? – спросила Женевьева.
– Гражданин Морис, – подхватил Моран, – намекает на одно предложение, что уже и не тайна.
– Какое же? – спросила Женевьева.
– Вероятно, он имеет в виду приговор Марии-Антуанетте и ее печальный конец там же, где погиб ее муж. Гражданин говорит, что вы не воспользуетесь случаем, чтобы взглянуть на нее в этот день, когда она оставит Тампль, чтобы ступить на площадь Революции.
– О, конечно, нет! – вскрикнула Женевьева после слов Морана, произнесенных им с ледяным хладнокровием.
– Тогда накиньте на это скорбную завесу, – продолжал равнодушный химик, – ибо австриячку бдительно стерегут, а республика такая волшебница, что хоть кого обратит в невидимку.
– Признаюсь, – сказала Женевьева, – что мне любопытно было бы взглянуть на эту несчастную.
– Послушайте, – сказал Морис, горя нетерпением предупредить малейшее желание Женевьевы. – Действительно ли вам это угодно? Тогда одного слова вашего довольно; республика, правда, волшебница, согласен с гражданином Мораном, но я, в качестве муниципала, как вам известно, также владею волшебным жезлом.
– Так вы мне можете доставить случай видеть королеву? – вскрикнула Женевьева.
– Конечно.
– Как же это? – спросил Моран, обменявшись с Женевьевой быстрым взглядом, который, однако же, не заметил молодой человек.
– Нет ничего проще, – сказал Морис. – Нельзя сомневаться, что есть муниципалы, на которых не надеются; но я достаточно доказал мою благонадежность, чтобы не быть в числе их. Притом же вход в Тампль зависит как от муниципалов, так и от начальника караула. В день моего дежурства, как бы нечаянно, заведующий караулами будет мой друг Лорен, который, кажется, впоследствии может заместить генерала Сантера, о чем можно заключить из того, что он в три месяца из капралов повышен до майора. Ну так вот! Приходите ко мне в Тампль в день моего дежурства, то есть в будущий четверг.
– Ну, видите! – сказал Моран. – Как все делается по вашему желанию, как будто нарочно все так сошлось.
– О, нет, нет, – сказала Женевьева, – я не хочу.
– Почему же? – вскричал Морис, который в посещении Тампля видел лишь средство пробыть некоторое время с Женевьевой в тот день, в который он лишен был этого счастья.
– Потому, – сказала Женевьева, – что вам за это придется отвечать, любезный Морис. И если бы что случилось с вами; нашим другом, если бы из-за исполнения моей прихоти с вами случились бы неприятности, то этого я себе вовек не прощу.
– Что благоразумно, то благоразумно, Женевьева, – сказал Моран. – Поверьте мне, ныне общая недоверчивость; подозревают даже самых преданных патриотов; откажитесь лучше от этого намерения, которое не что иное для вас – что вы и сами подтверждаете, – как прихоть.
– Подумаешь, что вы это из зависти говорите, Моран, и что, не видав никогда ни короля, ни королевы, вы не хотите, чтобы и другие их видели. Ну, полноте рассуждать, будьте нашим спутником.
– Я! О, нет!..
– Теперь уже не гражданка Диксмер желает войти в Тампль, а я прошу ее и вас прийти и скрасить одиночество несчастного узника. Надо сказать, что, когда за мной запрут ворота, к счастью, только на 24 часа, я становлюсь таким же пленником, как король или принцессы крови. Приходите же, умоляю вас.
– Ну, Моран, – сказала Женевьева, – проводите же меня.
– Это будет потерянный день, – сказал Моран.
– Так и я не пойду, – прибавила Женевьева.
– Почему же? – спросил Моран.
– Боже мой, очень просто, – сказала Женевьева, – потому что я не уверена, что муж пойдет со мной и что если вы не возьметесь быть моим провожатым, вы, человек рассудительный, человек тридцати восьми лет, то во мне недостанет смелости пройти мимо артиллеристов, егерей и гренадер и просить свидания с муниципалом, который только тремя или четырьмя годами старше меня.
– В таком случае, гражданин, – сказал Морис Морану, – если вы обыкновенный смертный, пожертвуйте половиной дня жене вашего друга.
– Извольте! – сказал Моран.
– Теперь, – подхватил Морис, – я у вас только одного прошу – это скромности. Само посещение Тампля навлекает подозрение. Если затем последует какой-нибудь несчастный случай, всем нам неизбежно предстоит потерять голову на плахе. Якобинцы не шутят, черт возьми! Вы, кажется, слышали, как они обошлись с жирондистами?
– Тьфу, пропасть, – сказал Моран, – надо принять во внимание все, что говорит гражданин Морис. Такой способ окончить торговые занятия мне совсем не по нутру.
– Разве вы не слыхали, – с улыбкой подхватила Женевьева, – что гражданин Морис сказал «всем нам»?
– Ну, что же, что «всем»!
– Всем нам вместе.
– Да, – проговорил Моран, – общество весьма приятное, но я охотнее соглашусь, моя сентиментальная красавица, пожить в вашем обществе, нежели умереть.
«Кой черт, где же была моя голова, – подумал Морис, – когда я воображал, что этот человек влюблен в Женевьеву?»
– Так решено, – ответила Женевьева. – Моран, я к вам обращаюсь, к вам, рассеянному, к вам, вечно задумчивому. Стало быть, в будущий четверг. Не вздумайте в среду вечером начать какой-нибудь химический опыт, который задержит вас на двадцать четыре часа, как это бывает с вами.
– Будьте покойны, – сказал Моран, – притом же вы мне накануне напомните.
Женевьева встала из-за стола, Морис последовал ее примеру. Не отстал бы от них и Моран, но один из мастеровых принес химику небольшой пузырек со спиртом, который и привлек все его внимание.
– Уйдем скорей, – сказал Морис, увлекая Женевьеву.
– О, успокойтесь, – молвила Женевьева, – это займет всего часа два.
И молодая женщина протянула ему свою руку, которую он сжал в своих.
Она раскаивалась в своих ухищрениях и счастьем платила ему за это раскаяние.
– Видите ли, – сказала она, прохаживаясь по саду и указывая Морису на пунцовые гвоздики, которые вынесли на воздух, чтоб их оживить. – Бедняжки, цветочки мои погибли.
– А в чем причина? Ваша небрежность, – сказал Морис. – Бедные гвоздики!
– Совсем не моя небрежность, а ваша невнимательность, друг мой.
– Однако же требования их были невелики, Женевьева. Капля воды, вот и все, а в мое отсутствие вы на это имели довольно времени.
– Ах, – сказала Женевьева, – если б цветы поливались слезами, эти бедные гвоздики не могли бы засохнуть.
Морис обнял ее, живо прижал к сердцу, и прежде нежели она успела защититься – жар уст его горел на полутомном, полуулыбающемся лице ее, обращенном к погибшим растениям.
Женевьева чувствовала себя до такой степени виновной, что благосклонно все сносила.
Диксмер вернулся довольно поздно и когда прибыл, то застал Морана, Женевьеву и Мориса в саду, спорящими о ботанике.






