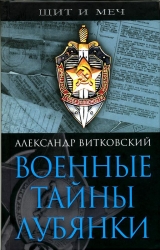
Текст книги "Военные тайны Лубянки"
Автор книги: Александр Витковский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Оперативные контакты с Синьором Николай Горшков поддерживал до 1950 года – вплоть до времени своего отъезда из Италии. А в конструкторском бюро Туполева продолжали изучать добытые резидентурой документы с грифом «Б-29». Прежде всего анализировали новейшие устройства, детали и узлы бомбардировщика, спецматериалы, техническое оснащение и, конечно, его уязвимые места. На основе полученных сведений разрабатывали приемы и методы, а главное – средства борьбы с «летающей крепостью». Именно благодаря этим разработкам на советских истребителях МиГ-15 были установлены 37-миллиметровые пушки, которые стреляли фугасными снарядами. Пробивая обшивку, они взрывались уже внутри самолета, оставляя огромные – полтора-два квадратных метра – пробоины, обрекая непобедимую «летающую крепость» на верную гибель.
Эти усилия не прошли даром. В годы войны в Северной Корее советские летчики развеяли миф о неприступности «железных монстров».
12 апреля 1951 года над рекой Ялунцзян 36 истребителей МиГ-15 вступили в бой с 48 «летающими крепостями» и несколькими десятками самолетов прикрытия. В результате было уничтожено девять американских стратегических бомбардировщиков Б-29 и несколько истребителей. С нашей стороны потерь не было. А 30 октября того же года американцы назвали «черным вторником» для своей авиации. В тот день 21 бомбардировщик Б-29 под прикрытием большого количества истребителей совершал налет на аэродром Намси. Эту армаду встретили 44 советских МиГа. В итоге боя были сбиты 12 бомбардировщиков «Суперфортресс» и четыре истребителя Ф-84. При этом на аэродром не упала ни одна американская бомба. Наши потери – один МиГ-15. Вот так, спустя годы, работа резидента в Италии Николая Горшкова помогала одерживать победы на поле боя в Северной Корее.
История вторая.
Муса Джалиль – предатель или герой?
Порою судьбы никогда не встречавшихся людей странным образом переплетаются между собой и даже после смерти оказывают влияние на имя человека и нашу память о нем.
Именно так случилось в истории с великим татарским поэтом, автором бессмертной «Моабитской тетради» Мусой Джалилем и резидентом в Италии Николаем Горшковым. Они никогда не встречались, и, уж конечно, не знали друг друга.
Сейчас уже трудно поверить, что полные героизма, мужества и любви к Родине стихи Джалиля не публиковались вплоть до 1953 года. Причина проста. В июне 1942 года на Волховском фронте тяжело раненый боец Красной Армии Муса Джалиль попадает в плен. Через несколько месяцев голода и мучений концлагерей его привозят в польскую крепость Демблин. Здесь из башкир, татар, калмыков оккупанты формируют национальные легионы для отправки на фронт и борьбы с партизанами. Вскоре поэт-коммунист находит земляков и вступает в подпольную группу для разложения легионеров. В результате первый же батальон, отправленный на Восточный фронт, перебил немецких офицеров и соединился с белорусскими партизанами.
В августе 1943 года фашисты выявили и арестовали подпольщиков. Во время допросов Джалилю сломали левую руку, раздробили пальцы. Но поэта-антифашиста нельзя сломить, его можно лишь уничтожить физически.
В конце апреля 1945 года советские войска вели тяжелые бои за Берлин. Когда наши бойцы ворвались в здание тюрьмы Моабит, камеры были пусты. Среди куч хлама, разбитой снарядами щебенки и вороха мусора один из наших солдат увидел лист бумаги, судя по всему, вырванную из книги чистую страницу, с написанным от руки текстом на русском языке.
«Я, татарский поэт Муса Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму как пленный, которому предъявлены политические обвинения, и, наверное, буду скоро расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадет эта запись, пусть передадут привет от меня товарищам-писателям в Москве, сообщат семье».
Скоро записка оказалась в столице Советского Союза, в известном здании на Лубянке. Здесь 18 ноября 1946 года четвертый отдел МГБ СССР завёл розыскное дело на Залилова Мусу Мустафовича (Мусу Джалиля). Он обвинялся в измене Родине и пособничестве врагу. Основанием стали допросы бывшего военнопленного Шамбазова, который рассказал, что Муса Джалиль будто бы остался жив и скрывался где-то в Западной Германии.
Были в деле и несколько показаний других военнопленных, которые говорили о подпольной антифашистской деятельности Джалиля в плену. Но им не верили.
В том же 1946 году бывший военнопленный Нигмат Терегулов, вернувшись из Германии, принес в Союз писателей Татарии маленький блокнотик с шестью десятками стихов Джалиля. Еще через год из советского консульства в Брюсселе пришла вторая тетрадь. Из Моабитской тюрьмы ее вынес бельгийский патриот Андре Тиммермане и, выполняя последнюю волю поэта, отправил стихи на его родину. Был еще один сборник стихов из Моабита. Его привез бывший военнопленный Габбас Шарипов. К сожалению, и Терегулов, и Шарипов были арестованы и погибли в бериевских лагерях, а бессмертные стихи еще несколько лет не могли увидеть свет. Они оказались в архивах органов госбезопасности ТАССР.
Впрочем, чекистов можно понять. От проверенной закордонной агентуры они знали, что поэта видели в Германии. Некоторое время он даже был на свободе, гулял по Берлину без охраны и в гражданском костюме, встречался с татарскими эмигрантами и руководителями профашистского татарского комитета «Идель-Урал» и даже отдыхал в пансионате для легионеров.
В апреле 1947 года имя Мусы Джалиля было включено в список особо опасных преступников. О нем собиралась любая информация. Его разыскивали не только в СССР, но и за границей.
Сейчас уже не осталось документальных подтверждений того, как узнал о Джалиле резидент советской разведки в Италии. По одной из версий, Николай Горшков в последний год войны получил от своих агентов-антифашистов сведения, что в Берлине действует подпольная организация, во главе которой стоит татарский поэт. Еще до войны разведчик мог читать его стихи, которые публиковались в газетах и журналах поволжского региона, а также в центральных издательствах. Судя по всему, резидент по собственной инициативе направил в Берлин одного из своих агентов, чтобы установить связь с подпольщиками. Увы, к тому времени группу антифашистов уже арестовали. Но работа по поиску Джалиля не прекращается. В январе 1946 года к Николаю Горшкову попадает еще одна Моабитская тетрадь. Ее принёс в советское посольство в Риме турецкий подданный, этнический татарин Казим Миршан. Сборник направляется в Москву и… бесследно исчезает.
В пресс-бюро Службы внешней разведки мне подтвердили достоверность этой истории. Действительно, Николай Горшков интересовался судьбой татарского поэта. Со слов советского разведчика Николая Батраева, который несколько месяцев работал в итальянской резидентуре под руководством Николая Горшкова, кто-то из доброжелателей передал в резидентуру один из сборников Моабитской тетради. Разведчики тут же переправили стихи на родину. К сожалению, этот сборник затерялся в архивах и до сих пор не найден. Тем не менее позитивная информация о поэте была доложена руководству и сыграла определенную роль в его реабилитации. К тому времени усилиями татарских писателей, руководителей республики и местных органов госбезопасности удалось собрать неопровержимые свидетельские показания о подпольной работе Джалиля и доказать факт его гибели. И вот долгожданный ответ из Москвы: «В связи с гибелью разыскиваемого в 1944 году оперативное розыскное дело на него прекращено».
Тем не менее до смерти Сталина и расстрела Берии имя Джалиля оставалось под запретом. Заговор молчания нарушила «Литературная газета». Благодаря главному редактору Константину Симонову, 25 апреля 1953 года в ней была опубликована первая подборка моабитских стихов.
Уже 2 февраля 1956 года за мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками Муса Джалиль посмертно был удостоен звания Герой Советского Союза. А еще через год за цикл стихов «Моабитская тетрадь» он первым из советских поэтов стал лауреатом Ленинской премии.
И вот совсем недавно, уже в наши дни, в «Пражском архиве» Чехии была найдена выписка из приговора Второго Имперского суда фашистской Германии за 12 февраля 1944 года. В ней – список приговоренных к казни через гильотину одиннадцати татарских пленных. Состав преступления – содействие врагу, то есть Советскому Союзу. Под номером пять – фамилия писателя Гумерова (именно так называл себя в плену Джалиль) 1906 года рождения.
Приговор был приведен в исполнение в тюрьме Плетцензее, где под ножом гильотины в разное время приняли смерть около трех тысяч антифашистов.
В 2006 году в России широко отмечалось столетие со дня рождения татарского поэта. И лишь сейчас выяснилось, что в реабилитации его имени есть доля участия и сотрудников внешней разведки. Один из них – резидент в Италии Николай Горшков.
История третья.
Как добывали английского «быка»
«Бык» – это условное обозначение английского зенитного снаряда с радиовзрывателем, изобретенного и принятого на вооружение в последние месяцы войны. Его отличала удивительная точность попадания и большая сила поражения воздушных целей, летящих на больших высотах. В те годы в Советском Союзе не было подобных боеприпасов, и потому разведка охотилась за чертежами такого снаряда. Соответствующее задание получила и резидентура Николая Горшкова. Было известно, что высадившиеся в Италии войска его величества имели эти снаряды на вооружении. Но остались ли они на военных складах после ухода англичан? И если да, то где именно? И как достать хотя бы один экземпляр?
Через агентурные позиции установили, что некоторое количество таких боеприпасов будто бы хранится на военных складах противовоздушной обороны. Узнали и место дислокации этих арсеналов – город Бергамо, где находился штаб одного из военных округов и школа по подготовке младших командиров.
Чтобы найти оперативные подходы, Николай Горшков восстановил связь с агентом, который под псевдонимом Ромбо еще до войны сотрудничал с советской разведкой. Антифашист, пожилой ученый-химик предоставлял в те годы информацию по новейшим взрывчатым веществам, которые использовались армиями Муссолини и Гитлера.
По заданию советской разведки агент выехал на север страны в Бергамо, где через своих родственников и бывших учеников выяснил, что на артиллерийских складах «быков» уже нет. Но найти их можно в старых арсеналах на побережье, где в годы войны высаживался английский десант.
Чтобы на вполне легальных основаниях получить сведения, а в случае удачи и образцы снарядов, резидентура решает… организовать фирму по подготовке чертежей для научно-технических журналов. Возглавлять контору будет, конечно, Ромбо. Для него снимают помещение, закупают мебель, делают солидную вывеску.
Первые недели легализации чертежного бюро превзошли все ожидания. От различных изданий посыпались заказы, и фирма не только окупила все первоначальные расходы, но и стала приносить ощутимую прибыль. Вскоре под благовидным предлогом Ромбо вышел на контакт с руководством склада и смог получить не только чертежи снаряда, подробную опись отдельных узлов и деталей, схему устройства по радионаведению и химический состав взрывчатого вещества, но и по себестоимости приобрести сам снаряд. Вскоре полученную информацию и снаряд уже изучали в конструкторских бюро Советского Союза.
Как позднее отмечали профессионалы, работа разведчиков по получению английского «быка» позволила в несколько раз сократить сроки и расходы по созданию советских образцов аналогичных снарядов. Более того, произошел коренной перелом в вооружении отечественных сил противовоздушной обороны. В то время еще не было ракет, но теперь все воздушные цели, идущие на больших высотах, с успехом поражались нашей зенитной артиллерией с помощью новых снарядов. А работы в те годы зенитчикам, особенно в приграничных районах страны, хватало. С сопредельных территорий запускались высотные зонды и воздушные шары, с которых велась разведка и фотосъемка, разбрасывались антисоветские листовки. Кстати, доработанное и усовершенствованное устройство радионаведения было установлено и на первых ракетах ПВО. Именно с его помощью удалось сбить 1 мая 1960 года американский самолет-разведчик, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. Идя на высоте 20 километров, он был неуязвим для наших истребителей-перехватчиков. И только ракета с радиоуправляемой боевой головкой прервала разведывательный полет самолета, а спустившийся на парашюте летчик был пойман и предстал перед судом. Но вряд ли догадывался полковник разведки Николай Михайлович Горшков, что в этом успехе наших войск противовоздушной обороны была и его заслуга.
Герой России – вольнонаемный ГРУ
Этот разведчик мог попасть в румынскую тюрьму, быть повешенным в гестапо, сесть на электрический стул в США или Канаде. Но вопреки всему он прожил долгую и счастливую жизнь.
Всего за десять дней до смерти вольнонаемный Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил нашей страны Ян Черняк стал Героем России за подвиги, которые совершил… более пятидесяти лет назад. Уже в больнице Золотую Звезду 86-летнему военному разведчику-нелегалу вручили, а точнее – передали его жене, начальник Генштаба генерал-полковник Михаил Колесников и начальник военной разведки генерал-полковник Федор Ладыгин. Свидетели этой необычной для больничной палаты церемонии рассказывали, что виновник торжества был в крайне тяжелом состоянии, сознание к нему возвращалось все реже и реже. Но с помощью жены он холодеющей рукой дотронулся до Золотой Звезды и тихим голосом внятно произнес: «Служу Отечеству».
А 19 февраля 1995 года Ян Петрович умер.
После награждения, в скупом комментарии Михаил Колесников отметил, что с 1930 по 1945 год Черняк «работал там же, где и знаменитый телегерой Штирлиц – Максим Исаев». Рассекреченные архивные документы из личного дела разведчика еще более лаконичны. В них отмечено, что в военные годы (с 1941 по 1945) Черняк «служил в войсковой части номер 38 729 и выполнял особые задания советского командования в тылу врага».
Все документы о биографии Яна Черняка, его работе и добытых им секретных материалах до сих пор хранятся в строжайшей тайне в ГРУ Достоянием гласности стала лишь ничтожная часть этого архива. Даже некролог о смерти героя России был опубликован в «Красной звезде» без его фотографии. Но мне удалось переговорить с высокопоставленными сотрудниками Главного разведывательного управления, ознакомиться с некоторыми воспоминаниями и публикациям и узнать уникальные факты его биографии.
Кстати, падкая на сенсации российская пресса, с подачи генерала Колесникова, именно в Яне Петровиче Черняке нашла прообраз легендарного Штирлица. Уже работая в ТАСС, он по просьбе руководства ГРУ встречался с Юлианом Семеновым, когда тот писал книгу о советском разведчике полковнике Максиме Исаеве.
Увы… Эту легенду развеял сам Черняк, поскольку считал многие сюжетные повороты «Из семнадцати мгновений весны» абсолютно нереальными. Ну, в частности, не мог кадровый советский разведчик занимать столь высокую должность в высшем эшелоне РСХА, имея даже самую фантастическую легенду. Проверка фашистскими спецслужбами биографий руководящих сотрудников едва ли не до седьмого колена исключала такую возможность. А вот агентура из числа высокопоставленных «партайгеноссе» у советских разведчиков была. И некоторые из этих вербовок осуществил Ян Черняк.
Но давайте обо всем по порядку.
Янкель Пинхусович Черняк родился шестого апреля 1909 года на Буковине, которая тогда была румынской территорией. Отец – мелкий еврейский коммерсант родом из Чехии и мать – мадьярка из Будапешта, погибли в годы Первой мировой войны. Воспитываясь в сиротском приюте, мальчик окончил среднюю школу, но по причине своей национальности не смог продолжить образование в Румынии. В 18 лет он уезжает в Прагу и поступает в высшее техническое училище. Технарь по природе, он стал одним из лучших учеников. Здесь же увлекся социалистическими идеями, а еще сумел к двадцати годам выучить семь(!) языков, в том числе немецкий, венгерский, иврит, чешский, румынский. Его даже часто принимали за уроженца западногерманских земель.
Окончив училище, Ян устроился на электротехнический завод, но в связи с экономическим кризисом вскоре был уволен.
Что ж, нет работы – надо учиться. И Черняк едет в Веймарскую Германию, где поступает в Берлинский политехнический колледж, там же становится членом коммунистической партии. После окончания учебы он решает вернуться в Румынию, но перед отъездом, в июне 1930 года состоялась его встреча с Матиасом – сотрудником Четвертого разведывательного управления Рабоче-крестьянской Красной Армии. В одном из небольших берлинских гаштеттов за чашкой кафе и состоялась вербовка. Ненависть к нарождающемуся фашизму, авторитет Советской России и социалистические взгляды Черняка стали залогом его сотрудничества и активной работы на разведку РККА.
А в Бухаресте его призвали в армию. По уровню образования он должен был стать офицером, но по национальности годился лишь в рядовые маршевых пехотных рот. За небольшой презент и взятку, которые пришлось дать члену призывной комиссии, Черняк попадает в школу сержантов, а затем – писарем в штаб артиллерийского полка. За год службы ставшие ему известными сведения о численности и дислокации артиллерийских частей, их вооружении, планах на военное время и мирный период уходили в Москву. Именно здесь молодого разведчика миновала угроза первого провала. Румынская служба безопасности арестовала его связника – молодую девушку, но та не выдала штабного сержанта.
Окончив через год службу, Ян навсегда покидает Румынию и уезжает в Германию, где восстанавливает свои связи с антифашистами. Более того, под руководством советской военной разведки он создает собственное резидентурное звено, и в Центр начинает поступать информация о вооруженных силах Германии, ее техническом и боевом обеспечении, политической обстановке в стране и армии, нынешних и потенциальных союзниках фашизма. Для этого ему приходиться колесить по Европе, знакомясь с самыми разными людьми и добывая секретные сведения.
В 1935 году в руки бельгийской контрразведки неожиданно попадает один из информаторов Черняка. В связи с этим Ян получает от своего куратора из разведывательного управления РККА распоряжение срочно выехать в Прагу и затаиться. Но разведчик просится в Москву и вскоре получает разрешение.
Здесь, в столице СССР, менее чем за год он должен был не только выучить русский язык, но и пройти фундаментальную специальную подготовку для нелегальной деятельности за границей. Курс агентурной работы, умение вести слежку и избавляться от «хвоста», обеспечение двусторонней связи, тайниковые операции, способы копирования секретных документов, физическая и боевая подготовка – вот лишь небольшой перечень спецдисциплин, которыми овладел Ян Петрович. Учеба ему всегда давалась легко. Обладая феноменальной памятью, он с одного прочтения воспроизводил десятистраничный текст, изложенный на любом знакомом ему языке, без труда запоминал расположение полусотни предметов в комнате.
Перед отъездом Черняк имел продолжительную встречу со своим латышским тезкой – начальником Четвертого управления Генштаба РККА Яном Берзиным, которому и предложил организовать работу по Германии не только на ее территории, но и с позиций третьих стран. Наиболее предпочтительными были Франция, Италия, Нидерланды, Швейцария. Именно в Швейцарию и был откомандирован Черняк.
К новому месту работы разведчик добирался достаточно долго, преодолел несколько границ, не раз менял документы. В дороге поиздержался так, что пришлось даже голодать. Выручили родственники, которые проживали в Берне.
Встретившись с представителем Центра, Черняк получил конкретное задание – организовать получение и отправку в Москву документальных сведений о разработках в области артиллерийских, танковых и авиационных систем, чертежей новых образцов стрелкового оружия, авиабомб и радиолокационных приборов. Определенный акцент делался и на получении сведений о разработках по химическому и бактериологическому оружию. За несколько месяцев разведчик сумел создать группу «Крона», куда завербовал около двух десятков источников ценной информации. Были среди них и руководитель исследовательского центра авиационной фирмы, секретарь министра, офицер разведки, высокопоставленный офицер штаба и даже банкир, через которого удалось получить список закрытых финансовых счетов некоторых высокопоставленных нацистских бонз. Группа работала 11 лет, но так и не была раскрыта. Именно поэтому архивные материалы о работе Яна Черняка в годы Великой Отечественной войны так тщательно бережет Главное разведывательное управление. Не исключено, что до сих пор живы родственники тех, кто работал в одной команде с советским разведчиком.
Конечно, не за ордена и звания помогали советской военной разведке добывать ценнейшую секретную информацию наши закордонные источники. Антифашистские настроения и коммунистические идеалы были основной движущей силой, которые помогали в подборе агентов. Так дочь известного инженера, который участвовал в разработке новейших образцов немецких танков, передавала нашему разведчику секретные чертежи боевых машин, пока ее отец выпивал свою послеобеденную кружку пива. В считанные минуты их переснимали и готовили для отправки в Москву, а подлинники возвращали на место.
Но были и другие, еще более фантастические примеры.
Еще в 1937 году Ян Черняк будто бы завербовал кинозвезду, экранный символ фашистской Германии, а потом и мирового кино, актрису венгерского происхождения и любимицу министра пропаганды Геббельса Марику Рёкк. Это она сыграла в 1944 году главную роль в фильме «Девушка моей мечты», которым бредил весь Третий рейх, а потом Америка, Франция и даже Советский Союз.
Кстати, ее настоящее имя – Мария (по другим даным – Илона) Керрер. Она родилась в Каире в 1913 году. Жила и работала во Франции и США. Карьеру танцовщицы начала с одиннадцати лет. Ее коронный номер – венгерский танец чардаш. Благодаря ему она стала известна в Париже, а чуть позднее в Нью-Йорке. Потом началась и ее карьера в кино.
В 1935 году Мария Керрер получила выгодный контракт в Берлине. Ее пригласили только благодаря внешности. Светловолосая, с идеальной фигурой – она как нельзя лучше соответствовала женскому стандарту красоты нордической расы. А то, что актриса с трудом объяснялась по-немецки и немилосердно коверкала язык – никого не смущало.
На свое первое приглашение к Гитлеру она пришла в вечернем платье, и вместо традиционного приветствия вскинутой рукой (в роскошном платье это выглядело бы весьма некстати) она, ко всеобщему изумлению, сделала книксен. Фашистские бонзы изумились еще больше, когда в ответ Гитлер, тоже слегка ошеломленный, поцеловал ей руку.
Говорят, что этот поцелуй открыл перед актрисой все двери рейха. Став подругой жены Геббельса Магды, Марика Рёкк получила доступ к ценнейшей разведывательной информации.
Через несколько лет после окончания войны Марика Рёкк вновь снималась в кино, некоторое время жила в социалистической Венгрии (не является ли это косвенным подтверждением тому, что она, действительно, сотрудничала с советской разведкой в годы войны) и даже владела небольшой австрийской кинофирмой. Умерла она в Австрии в мае 2004 года.
На просьбу подтвердить или опровергнуть эти сведения, мои высокопоставленные собеседники из ГРУ говорили лишь о том, что еще не пришло время вот так, «в лоб», обсуждать эту тему… И все же, если предположить, что эта мировая кинозвезда действительно сотрудничала в те годы с военной разведкой нашей страны, то можно лишь представить, какая информация попадала в Москву с ее помощью. Мата Хари, как говорится, и рядом не стояла… Сама Марика Рёкк, которая почти на десять лет пережила Яна Черняка, до последней минуты жизни хранила тайну и унесла ее с собой. Так что теперь открыть секрет ее возможного тайного сотрудничества с военной разведкой Советского Союза могут только архивы ГРУ, с которых никогда не будет снят гриф «Хранить вечно». Но если это и случится, то лет через сто – не меньше.
С 1938 года, после Мюнхенского соглашения и в период Второй мировой войны советский разведчик продолжает работу на нелегальном положении во Франции, Швейцарии, Англии. Удивительно, но за время нелегальной работы, когда в огне большой войны полыхала вся Европа, гестапо не раскрыло ни одного из агентов резидентуры «Крона», руководимой Яном Черняком, хотя работали эти люди и в Германии, и в Италии, и в некоторых оккупированных фашистами странах. Более того, трое из завербованных им агентов около тридцати лет сотрудничали с военной разведкой Советского Союза, а 16 человек из резидентуры Яна Черняка за особые заслуги получили ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак Почета». Это произошло уже после войны, в апреле 1946 года. Но в списке отмеченных не было фамилии резидента. Лишь в 1958 году он получает орден Трудового Красного Знамени, да и то уже за послевоенную деятельность.
Еще 12 июня 1941 года Ян Черняк с помощью своей агентуры добыл и передал в Москву приказ главнокомандующего сухопутными войсками Германии о сроке, основных целях и планах нападения на СССР в рамках операции «Барбаросса». В его донесении отмечалось: «22 июня, 3 часа 30 минут – начало наступления сухопутных войск Германии».
Сейчас уже вряд ли стоит выяснять, кто первым отправил в Центр эту стратегически важную для Советского Союза информацию – Рихард Зорге, Леопольд Треппер или Ян Черняк. Главное в том, как распорядилось этими сведениями партийно-политическое руководство страны.
На сообщение Черняка Сталин отреагировал как на очередную британскую провокацию. И это при том, что в отличие от резидентуры Рамзая (Рихарда Зорге) группе «Крона» Сталин и его окружение доверяли. Именно поэтому другие сообщения Черняка принесли стране реальную пользу, будь то новейшие акустические системы в первые дни войны, материалы о стрелковом, артиллерийском вооружении в самый разгар боевых действий, или документы по реактивной авиации и даже оружию возмездия – ракетам ФАУ-1 и ФАУ-2 в финальный период сражений.
Так, за несколько недель до начала упреждающего наступления на Курской дуге Ян Петрович направил в Центр копию оперативного плана германского командования. А за два месяца до этой битвы советские конструкторы имели возможность по материалам группы «Крона» изучить наиболее уязвимые места танка «Тигр», который немцы считали своим непобедимым сверхсекретным оружием. Именно на основании этих разработок уже в ходе боев нашими артиллеристами-бронебойщиками была выработана тактика успешной борьбы с новым немецким танком.
Именно Черняк завербовал ученого из германской бактериологической лаборатории, где разрабатывались образцы биологического оружия, способного уничтожить население едва ли не половины Европы. От «Кроны» поступала не только документальная информация, чертежи и фотоснимки, но и образцы отдельных узлов техники и вооружения.
«Присланные за последние 10 месяцев материалы представляют очень большую ценность для создания радиолокационного вооружения Красной Армии и Военно-Морского Флота. Особая их ценность заключается в том, что они подобраны со знанием дела и дают возможность не только ознакомиться с аппаратурой, но в ряде случаев изготовить аналогичную, не затрачивая длительного времени и значительных средств на разработку. Кроме того, сведения о создаваемом немцами методе борьбы с помехами позволили нам уверенно развивать новую и мало известную технику радиолокации и разрабатывать соответствующие контрмероприятия». «Полученные материалы на 1082 листах и 26 образцов изделий следует считать ценной информацией. Просим принять меры к получению следующей части документов». «Получили 475 иностранных письменных материалов и 102 образца аппаратуры. Подбор материалов сделан настолько умело, что не оставляет желать ничего иного на будущее… Полученные сведения имеют большое государственное значение».
Все это цитаты из документов архива Государственного Комитета Обороны, в которых давалась оценка эффективности работы Яна Черняка и его группы. Только за 1944 год из резидентуры в Центр было направлено двенадцать с половиной тысяч(!) листов технических чертежей и документов, десятки образцов аппаратуры по радиолокации, самолетостроению, корабельному вооружению, электроприборам и другим отраслям военной науки и техники. Судя по всему, в потоке ценной информации были не только немецкие документы, но и некоторые секреты союзников, которыми они не торопились делиться с нами. В тяжелые для нашей страны годы эти сведения позволили сэкономить миллионы рублей, при этом жалованье самого резидента в предвоенные годы было сокращено на четверть. Об этом мало кто знает, но именно Ян Черняк внес бесценный вклад в оборону Москвы в 1941 году. Добытая им информация позволила создать радиолокационные станции, которые еще на дальних подступах могли предупреждать о налетах фашистской авиации.
В начале 1942 года руководство военной разведки ставит перед резидентом Дженом (под этим псевдонимом Ян Черняк работал в Англии) задачу изучить и завербовать крупного ученого физика из Кавендишской лаборатории Кембриджа Алана Нанн Мэя. Он был доктором физики, секретарем бристольского, а позднее кембриджского отделения Национального исполкома ассоциации научных работников Великобритании, имел большой авторитет в научных кругах, участвовал в британской ядерной программе «Тьюб Эллойз».
Установив контакт с ученым, Ян Петрович сумел убедить Мэя, который симпатизировал коммунистическим идеям, в необходимости сотрудничества с СССР. С тех пор в совершенно секретных документах советской военной разведки Мэй проходил под псевдонимом Алек, и от него поступала документальная информация об английских разработках по проблеме урана. До конца года от Алека поступило 130 страниц уникальной информации об установках по отделению изотопов урана, принципах получения плутония и даже чертежи «уранового котла». В январе 1943 года Мэй был переведен в Канаду, где продолжались секретные разработки. На последней встрече Алек и Джен отработали линию поведения ученого и направление сбора секретных сведений, обусловили способы восстановления связи.
Продолжил работу над атомным проектом Ян Петрович и после войны. Но эта часть его биографии окутана еще большей завесой секретности. По одним сведениям, нелегал Джен выехал в Канаду уже в качестве военного разведчика, работающего под посольским прикрытием, когда еще не высохли чернила на акте о капитуляции Германии. Но не исключено, что он мог остаться в Европе, где сам или через своего связника снова встречался с Мэем.








