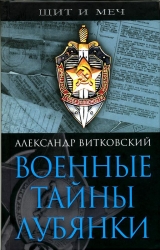
Текст книги "Военные тайны Лубянки"
Автор книги: Александр Витковский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Силою света в полсвечи
Необыкновенный дневник обыкновенного жителя блокадного Ленинграда
Вечером 27 января 1944 года ленинградское небо осветилось тысячами разноцветных огней. За многие месяцы люди впервые радовались грохоту артиллерийской канонады – ведь это был салют в честь окончательного снятия блокады.
И вот совсем недавно, более чем через полвека после окончания войны, в архивах Петербургского управления ФСБ был найден удивительный документ.
Автор этой потрясающей летописи – обыкновенный ленинградский житель Николай Павлович Горшков. Все 29 блокадных месяцев день за днем (не пропустив ни одного!) он записывал трагические события из жизни осажденного города. Нет, это не были официальные сводки «Совинформбюро» или цитаты из газетных публикаций. Он записывал то, чему сам был свидетелем, что видел или слышал на улицах, во дворах и квартирах блокадного Ленинграда.
Ему повезло дожить до Победы, но в декабре 1945 года его арестовали и осудили на 10 лет. Умер он в лагере 6 лет спустя. Где похоронен – неизвестно.
Этот очерк написан в память о нем, в память о тысячах ленинградцев, погибших в те страшные годы.
Но прежде несколько слов о самом документе и его авторе.
Его дневник – шесть небольших тетрадок в клеточку, сшитых черной суровой ниткой – написан четким, легко читаемым почерком. Он был приложен к делу № 62 625 на Горшкова Николая Павловича, 1892 года рождения, уроженца Угличевского района, деревни Выползово, русского, беспартийного, старшего бухгалтера Ленинградского института легкой промышленности. Фигурант дела подозревался в совершении преступлений по ст. 58–10 ч.11 (антисоветская агитация) и 58–11 (организованная антисоветская деятельность) УК РСФСР. Но, судя по документам, дело Горшкова шло туго. Путались или отказывались от своих показаний свидетели, не признавал свою вину и сам обвиняемый. Материалы дважды отправлялись на доследование, но все же после восьми месяцев заключения Николай Павлович был осужден.
Подсудимый будто знал, что дневник переживет его, и попросил приобщить свои записки к уголовному делу. Впрочем, не исключено, что он надеялся на снисхождение советской юстиции – к пережившим блокаду ленинградцам после войны все относились с сочувствием и уважением. Но дневник был обойден вниманием следователя, которого не интересовали сугубо личные записи.
А зря. Дневник, составленный в дни блокадного лихолетья, когда усомниться можно было в чем угодно и в ком угодно, характеризовал автора как глубоко преданного своей Родине человека, твердо убежденного в победе над врагом. Но следователя это интересовало меньше всего. Мне известна фамилия этого человека, но я просто не хочу ее называть. Был ли он фронтовикам, прошедшим войну, или отсиживался где-то по глубоким тылам – не знаю. Ясно одно – о блокадном Ленинграде он мало что знал. Ему не ведом ни вкус столярного клея, который варили и жевали в самую голодную первую зиму, ни дурманящий запах 150 граммов блокадного хлеба с опилками пополам, который нужно было разделить на весь день, ведь ничего другого просто не было. Не слышал он и об умерших от голода малышах, которых матери прятали в укромных уголках, чтобы как можно дольше получать на мертвую душу продовольственную карточку и хоть как-то поддерживать тех своих ребятишек, в ком еще не угасла жизнь. Нет, этого следователь не знал. Иначе совесть, совесть человека, знакомого с лишениями войны, не позволила бы ему осудить автора блокадных записок Николая Горшкова.
Первая и, наверное, самая короткая пометка дневника была сделана 4 сентября 1941 года, когда на Ленинград упали первые снаряды: «В Волковой дер. Около «Кр. Нефтяника» разрушения и пожар». Последняя запись датирована 31 января 1944 года, спустя четыре дня после полного освобождения города. Всего в дневнике 880 записей – 880 дней трагедий, голода, смерти. Даже в самую суровую зиму 1941–1942 годов, когда от голода, мороза и бомбежек за сутки умирало до тысячи (а может быть, и больше) человек, Николай Петрович усаживался вечерами на кухне, окно которой выходило в глухой Литовский двор, и…
«Настоящие записки пишутся при свете самодельной лампочки-мигалки силою света не более 1/2 свечи. Лампочка состоит из стеклянной аптекарской баночки на 50 грамм, сквозь пробку которой проходит трубочка из металла, в которую продет фитилек».
Удивителен принцип, положенный в основу записей. Автор обходит стороной все личные проблемы. Здесь нет рассказов о том, как он варил столярный клей, ел дуранду, пух с голода, жег в «буржуйке» мебель и книги. Невероятно, но в дневнике ни разу не употребляется местоимение «я»! Зато феноменальна пунктуальность этих записей. Автор словно понимает, что каждый прожитый им день блокады – это день, принадлежащий Истории. Конечно, не ведал он о стратегических замыслах воюющих армий, но все, что способен увидеть и услышать самый обыкновенный «маленький» человек, с удивительной точностью и педантичностью бухгалтера заносилось в дневник.
А еще в нем много простых и безыскусных описаний погоды. Но это не лирические зарисовки скучающего горожанина. Густую низкую облачность, глухую безлунную ночь или ясный солнечный день автор, как и любой житель осажденного города, связывал с вероятностью авианалетов и воздушных бомбардировок.
20 октября 1941 года.
«…около 17 часов дня была сброшена врагом фугасная бомба большой силы. Упала она в реку Мойку около музея-квартиры A.C. Пушкина (дом 12). Взрывом подняло массу воды и грязи, вблизи стоящих домов вырвало оконные рамы и двери взрывной волной.
Ночь была темная, и ночного налета не было».
Сегодня, проходя по набережной Мойки у дома 12, даже трудно представить, как здесь рвались фугасы. И уйди та бомба на несколько метров в сторону, не осталось бы этого адреса, дорогого сердцу любого россиянина. Но кто об этом помнит сейчас.
12 ноября 1941 года.
«…Шестой налет (за эти сутки) в 1 ч. 50 мин. до 2 ч. 15 мин. ночи и с 2 ч. 30 мин. до 3 ч. 08 мин. Вместе с этим враг обстрелял город тяжелыми снарядами, слышны были сильные разрывы, так что дребезжали стекла в окнах. Ночь была очень беспокойная. На небе светили звезды и большой серп луны».
Не знаю, стал ли этот день самым напряженным по количеству бомбежек, но ведь кроме авианалетов были еще и постоянные артиллерийские удары. И если днем люди еще находили в себе силы по несколько раз спускаться в бомбоубежище, то ночью многие на свой страх и риск оставались в домах. Но ведь были еще и ночные дежурства на крышах, когда, изнемогая от усталости и голода, собрав всю волю в кулак и победив страх, горожане боролись с вражескими зажигательными бомбами.
21 декабря 1941 года.
«…фугасные бомбы враг сбрасывает куда попало, а надежных укрытий вообще в городе очень мало, а имеющиеся бомбоубежища в жилых домах – в подвалах – от прямого попадания тяжелых бомб не спасают и всех находящихся заваливает рухнувшими стенами и еще затапливает водой от лопнувшего водопровода… Город мертвеет. Эл. света в домах нет. Водопровод едва подает воду до второго этажа. Трамваи с большими перерывами ходят только на некоторых и то измененных маршрутах… Идя пешком от Новокаменного моста по обводному каналу до Международного проспекта, в течение 25 минут встретил 57 покойников, которых везли на Волково кладбище».
Я долго не мог понять, как можно вот так просто, безыскусно и как бы отстраненно писать о трагедии целого города? Неужели и к смерти можно привыкнуть, очерстветь душой?
Вряд ли.
И лишь перечитывая недавно древнерусскую литературу, вдруг увидел, что таким же отстраненным был стиль монахов-летописцев. Не для себя они писали, а в назидание потомкам, твердо зная, что без прошлого нет настоящего, а без настоящего – будущего. Поэтому все личное оставалось в себе. Вечности доверялось только главное. Помните, у Нестора в «Повести временных лет: «Пришли иноплеменники на русскую землю…»
И в этом смысле дневник Николая Горшкова не уникален. Ленинград, а затем и весь мир был потрясен, прочитав блокадный дневник Тани Савичевой. В коротких строчках девочка писала о смерти своих близких. Последняя запись: «Умерли все». Не дожила до победы и сама Таня.
12 января 1942 года.
«Лютый мороз 33 с ветром. Все замерзло, кругом картина заледенелого умирающего города. В большинстве домов воды нет совсем. Всюду встречаются вылитые и выброшенные нечистоты, в особенности во дворах… Все чаще и чаще случаи бандитизма – отнимают из рук хлебные и продуктовые карточки, сумочки и пакеты у выходящих из булочных и магазинов. Продуктов все нет и нет. Голод…»
Конечно, в ту пору в газетах об этом не писали. Говорили о мужестве, стойкости, героизме. Но ведь и параша была на улицах, и вонь, и нечистоты, и бандитизм, и воровство. И мужество людей, переживших на этом фоне и мороз, и голод, и смерть, не стало менее значимым. Наоборот. Жить в невыносимых условиях, преодолеть такие испытания и не опуститься до животного инстинкта самосохранения за счет таких же, как ты, но только более слабых – это ли не есть настоящее мужество?!
1 февраля 1942 года.
«… На толкучке у рынка (Кузнечного) идет обменный торг и спекуляция. На хлеб меняют все, что хотите.
На деньги купить что-либо очень трудно. Папиросы «Беломор» – до 60 руб. Пачка табаку 100 гр. – от 300 до 400 гр. хлеба. Хлеб на деньги редко – 40 руб. за кусочек около 100 гр. Дорогие безделушки, статуэтки, посуда идут за бесценок, за кусочек хлеба от 100 до 200 гр…»
Ни деньги, ни украшения – только хлеб. Вот истинная мера ценности в осажденном городе.
Конечно, сейчас времена другие, и деньги уже не те. И дети не то что хлебом – уже тортами бросаются на школьных чаепитиях – сам это не однажды видел. Зато безделушки теперь в цене. А вот оставшуюся после обеда горбушку уже никто в чистое белое полотенце бережно не заворачивает. В мусорное ведро выбросить легче.
4 февраля 1942 года.
«… в уголовном розыске видел двенадцать человек арестованных женщин, пойманных с поличным и обвиненных в людоедстве. Одна женщина говорила, что когда муж ее, умирая, потерял сознание, то она отрезала ему часть тела от ноги, чтобы сделать варево и накормить голодных детей, также умиравших, и себя, уже совершенно отчаявшуюся и обессиленную. Другая говорила, что она отрезала часть от трупа на улице замерзшего от голода, но ее поймали на месте преступления. Сознавая свою вину, плачут и сокрушаются, уверенные, что их приговорят к расстрелу. Все это слишком ужасно… О случаях людоедства в городе говорят открыто, без стеснения…»
Да, судя по всему, всех этих женщин расстреляли по суровым законам военного времени. И это тоже страшная правда жизни, о которой предпочитают не говорить вслух. После публикации отрывков из дневника Николая Павловича Горшкова в «Парламентской газете», из Санкт-Петербурга мне пришло письмо от ветерана-блокадника. Он рассказывал о фактах еще более страшных. С каждым годом становится все меньше людей, переживших эти ужасы. Они уходят, а вместе с ними уходит и память. Впрочем, они и при жизни-то не любили об этом говорить. И все же такое забывать нельзя. Нельзя хотя бы потому, что б это не повторилось вновь.
5 февраля 1942 года.
«…В городе идет массовая эвакуация населения. Не занятые работой люди… могут записаться на эвакуацию в райсоветах в особ, комиссиях и выехать из города с багажом 35 кг на человека. Поездом едут с Финляндского вокзала до Ладожского озера, а там на автомашинах по льду до ж. д. станции (Волхов), оттуда уже поездом вглубь страны… Сообщают, что в последние дни уходит до 4-х поездов с эвакуированными, примерно от 2-х до 3-х тысяч человек в каждом…. Многие устраиваются ехать на автомашинах, доставляющих продукты и грузы с того берега Ладожского озера и возвращающихся из города порожняком вновь за продуктами. Предположительно, на автомашинах уезжают от 1 до 3 тысяч человек в день. Всего за сутки при благоприятной погоде разными путями уезжают из города до 15 тысяч человек. Да, как говорят, в иные дни столько же умирают от истощения…»
Еще совсем недавно приходилось слышать, что власть бросила окруженный город на произвол судьбы. Чушь, да и только. Блокадный дневник Николая Горшкова полностью опровергает эти домыслы. И предприятия работали, и продукты по Ладоге доставляли, и обессилевших людей вывозили. Конечно, ошибки были, просчеты, упущения. Но, не дай Бог, случись нечто подобное сейчас, – справились бы мы? Сейчас мирное время, и то каждый год Россия теряет по миллиону своих граждан.
28 апреля 1942 года.
«Легкая облачность. Дует холодный ветерок. Наши самолеты с 5 ч. утра патрулируют над городом. В 12 ч. 35 мин. воздушная тревога. Отбой дан в 13 ч. 10 мин. Самолеты врага в город не пропущены.
В городе идет выдача по продкарточкам дополнительных продуктов питания к первомайским праздникам:
Чай. Рабоч(им) 25 гр., служ(ащим) 25 гр., иждивенцам) 25 гр., детям – 25 гр.
Сухофрукты. Рабоч. 150 гр., служ. 150 гр., иждив. 150 гр., детям 150 гр.
Клюква. Рабоч. – , служ. 150 гр., ижд. 150 гр., детям 150 гр.
Крахмал. Рабоч —, служ —, ижд. – , детям 100 гр.
Пиво. Рабоч. 1,5 л., служ 1,5 л., ижд. 0,5 л., детям —.
Сол. рыба. Рабоч. 500 гр., служ. 400 гр., ижд. 75 гр., детям 100 гр.
Сыр. Рабоч. 100 гр., служ. 75 гр., ижд. 75 гр., детям 100 гр.
Какао с молоком. Детям на 2 табл. (50 гр.)
Табак. Рабоч. 50 гр., служ. 50 гр., ижд. – , детям —.
Водка или виногр. вино. Рабоч. 0,5 л., служ. 0,5 л., ижд. 0,25 л., детям —.
Всюду на улицах и во дворах идет последняя уборка мусора. Город принял опрятный вид. Ночь прошла спокойно».
Именно первомайскими праздниками закончилась первая, самая страшная блокадная зима. Но впереди были еще долгие месяцы тяжелейших испытаний и 643 дневниковые записи. Но город выстоял, выстоял и победил.
Из материалов уголовного дела Николая Горшкова стало известно, что в 1920 году у него родился сын Игорь. В годы войны он учился в Военно-воздушной академии им. Можайского, в январе 1944 года принимал участие в снятии блокады.
Сотрудники Питерского ФСБ разыскали этого человека. Сейчас Игорь Николаевич на пенсии. Но самое удивительное в том, что проживал он в том же самом доме на Лиговке, в той же квартире № 6, где его отец писал свою блокадную летопись. Сын ничего не знал о дневнике и даже не подозревал о его существовании. Трепетно и осторожно листал он пожелтевшие тетрадные листочки, и пальцы его дрожали. А за кухонным окном был все тот же тесный петербургский дворик, в котором мало что изменилось со времен войны.
Постскриптум.
Сейчас блокадный дневник находится в музее обороны Ленинграда. Туда его передали сотрудники Управления ФСБ Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сам Николай Павлович Горшков реабилитирован.
Пространство жизни, творчества и славы
У знаменитого российского конструктора оружия МЛ. Калашникова именно в первые месяцы войны родилась идея создать легкое стрелковое оружие нового поколения – лучший в мире автомат АК-47.
К великому счастью, сегодня узнать об этом уникальном человеке, которого на современном новоязе величают не иначе как «главным российским брэндом», можно не только из архивных документов. Лучше всего просто прогуляться вместе с ним по уникальному музею, который создан нашим государством в честь этого человека еще при его жизни, и послушать незамысловатый и удивительный рассказ.
Михаил Тимофеевич Калашников – фигура для России не просто символическая. Разменяв девятый десяток (сейчас ему 86 лет), он вместе со своей страной пережил нищету и достаток, взлеты и неудачи, гордость и боль, трагедию, неизвестность и славу Его судьба стянула в тугой узел десятки крайностей и сотни закономерностей, тысячи случайностей и одну, но главную цель всей жизни. Он раз пять мог погибнуть, но провидение словно оберегало его. И он создал то, о чем мечтал сам и что ждали от него другие – простое, удобное и надежное оружие для защиты Родины. И без ложной скромности, лукавства и пафоса дал ему свое имя – «7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года». Французская газета «Либерасьон» назвала АК-47 «главнейшим изобретением XX века».
С тех пор ни одна большая или малая война, произошедшая на земле, не обошлась без автомата Калашникова. С помощью этого оружия получили свободу и независимость многие страны, а изображение АК-47 украсило гербы и флаги нескольких государств. На сегодняшний день в мире изготовлено около 100 миллионов экземпляров АК различных модификаций. Количественные показатели американской автоматической винтовки М-16 Стоунера, занимающей вторую позицию в ружейной табели о рангах, не идут ни в какое сравнение – всего 12 миллионов. Сейчас автомат Калашникова используется армиями 82 государств, а его производством заняты 14 стран. С декабря 2005 года 18 автоматов с личной подписью конструктора и 3 штык-ножа переданы Михаилом Тимофеевичем в дар Оружейной палате Московского Кремля. И что бы ни говорили о нашей стране, во всем мире Россия XX века ассоциируется с двумя именами, которые стали нашим символом, – Юрий Гагарин и Михаил Калашников.
В это трудно поверить, но Михаил был предпоследним ребенком в крестьянской семье, где родилось… 18 детей. Правда, десять ребятишек умерли еще в младенчестве. Жизнь в далеком алтайском селе Курья была не из легких, особенно после кубанской станицы Отрадная, откуда были родом Калашниковы. Сказались и трудности переезда его родителей – Тимофея Александровича и Александры Фроловны, которые в 1910 году вместе с тремя миллионами переселенцев отправились в ходе столыпинской реформы из губерний средней России за Урал и в Сибирь.
Миша рос слабым, болезненным ребенком. Однажды он сильно захворал, а потом с ним случилось то, что нынешние врачи назвали бы комой. Но в богом забытой Курье доктора не было, и родители посчитали, что малыш умер. Погоревали, поплакали, а потом позвали местного дьячка – отпеть новопреставившегося, да соседа-плотника – маленький гробик смастерить…
– Будто сквозь сон услышал я стук топора и разговоры родителей о кладбище, – вспоминал позднее Михаил Тимофеевич. – Испугался сильно, попытался крикнуть и открыл глаза. На мое счастье рядом оказался кто-то из взрослых. «Батюшки, да жив, жив Мишутка-то…» Ну, а потом дело пошло на поправку.
Домашние его любили, но не баловали. Да и наказывали крепко, если было за что. Со слов матери знает он семейное предание. Говорили ему, будто в рубашке он родился. И прятали ту рубашку в красном углу за иконой.
Вот однажды и разобрало мальца любопытство – что за рубашка такая? Снял икону, полез посмотреть… Конечно, ничего не нашел, а вечером получил от отца изрядную трепку.
Как и все в доме, он с младых ногтей помогал матери по домашнему хозяйству, потом и отцу на пашне. По слабости и малолетству работу ему давали не самую тяжелую – скотину пасти, домашнюю птицу накормить, позднее стали посылать в поле. Но и здесь не обходилось без казусов. Пару раз он засыпал и падал с лошади. Хорошо, кобылка была спокойной. Тут же останавливалась, поэтому ни под борону мальчишка, ни под плуг не угодил.
Соленым потом и собственным трудом от зари до зари сколотили Калашниковы на алтайских землях крепкое хозяйство. Имели ручную молотилку, коров, лошадь, мелкую скотину, домашнюю птицу. Но пришел тридцатый год, а с ним и раскулачивание. Отобрали все, что можно, а большую семью отправили еще дальше в Сибирь – в деревню Нижняя Моховая. В первую же зиму умер отец. Морозы тогда стояли лютые. Несколько дней покойник в доме лежал – не могли могилу выкопать, похоронить.
Как бы ни тяжело жилось, школу Михаил не бросал, да и учился с удовольствием. Но по всеобщей бедности бумаги не было. Вот и придумали: тетрадки из бересты делать. Выбирали ствол побелее да поглаже, вырезали ножом из коры странички сантиметров десять на двадцать, и сшивали их по несколько штук вместе. Вот такая «берестяная грамота» получалась. Любимые предметы – физика, геометрия, литература. Механика тоже нравилась – все домашние инструменты до последнего винтика разбирал, потом вновь собирал – и ничего, работали. С оружием тоже познакомился, когда пацаном был. Без охочего промысла в Сибири не житье. Вот и Михаил со старенькой берданкой в лес ходил. А однажды дружок его – Гаврилка – нашел у себя дома сломанный браунинг. Видать, еще с Гражданской войны завалялся. Показал находку Михаилу, да заодно посетовал – жалко, мол, что не стреляет.
Вот тут-то судьба и взглянула на будущего оружейного конструктора завораживающим черным зрачком дульного среза пистолета. Выпросил Михаил у друга браунинг, разобрал, его, смазал, собрал. Одним словом – починил. И на всякий случай в тайник спрятал. Но по деревне уже нехороший слушок пробежал, до ушей участкового милиционера докатился… Арестовали подростка по подозрению в незаконном хранении оружия, в местную кутузку под замок посадили. Но через два дня выпустили, поскольку в доме ничего не нашли, а сам Михаил ни в чем не признался. Знал бы тот милиционер, кого в тюрьму хотел упрятать… Однако и сам Калашников о своем будущем еще не догадывался. Но от греха подальше ушел из села. В большую и новую для себя жизнь вступил. В Казахстан подался. Уходил зимой, по дороге едва не замерз, но добрался до станции Матай, что на Турксибе. Здесь и остался. Поначалу взяли его учеником, а вскоре грамотный и башковитый парень, хоть и росточку невеликого, зато из породы тех, у кого голова светлая, да руки золотые, на работу в учетчики попал, а вскоре его в политотдел перевели.
В сентябре 1938 года Михаила призвали в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Служить пришлось в Киевском особом военном округе. В городе Стрый Львовской области Михаил окончил школу младших командиров, получил специальность механика-водителя танка. Здесь, в окружении боевой техники развернулся технический талант двадцатилетнего парня. Он разработал приспособление для повышения эффективности стрельбы из пистолета «ТТ», создал счетчик моторесурса двигателей танков и инерционный регистратор фактического количества выстрелов из танковой пушки. За свою конструкторскую работу он получил первую награду – часы, которые ему лично вручил командующий Киевским округом Георгий Жуков.
Не осталось забытым и увлечение литературой. Калашников пишет стихи и даже участвует в конкурсе, который проводился киевской газетой «Красная Армия». Патриотические вирши молодого солдата оценили в редакции и в апреле 1940 года даже опубликовали в одном из номеров.
– Я мог бы стать поэтом, танкистом, железнодорожником, но стал конструктором стрелкового оружия и горжусь этим, – отметил Михаил Калашников. – И это неправда, что музы молчат, когда говорят орудия. В моей жизни получился дуэт, и, судя по всему, неплохой.
Но все это будет потом. А пока старшего сержанта Калашникова направляют в Ленинград на завод имени Ворошилова для изготовления и войсковых испытаний счетчика моторесурсов. Шел апрель 1941 года.
О начале войны он узнал под Харьковом, где находился, возвращаясь из очередной командировки. Совершенно случайно встретил эшелон со своими однополчанами, которые, получив новые танки, двигались в сторону фронта. Так Михаил влился в действующую армию и стал командиром танка «Т-34». С середины августа воевал на Брянском направлении уже командиром танкового взвода. Осенью, в одном из боев в его танк попал вражеский снаряд. Михаил был контужен и тяжело ранен осколками брони – левая рука почти не действовала.
Две недели вместе с боевыми товарищами, также получившими ранения, старший сержант Калашников пробирался на санитарной машине к линии фронта по оккупированной фашистами территории. Однажды ночью подъехали к какой-то деревне. Калашников вместе с товарищем пошел выяснить, есть ли там немцы. Из вооружения – пистолет да винтовка. Когда вышли к околице, за спиной, там, где оставили машину, услышали частую автоматную стрельбу и редкие винтовочные выстрелы.
Страшную картину увидели бойцы, когда вернулись из разведки. Изуродованная машина с красным крестом и трупы солдат, расстрелянных фашистами почти в упор. В живых не осталось никого. Со своими трехлинейками раненые бойцы даже сопротивления не смогли толком оказать. Вот тогда Калашников и понял то преимущество, которое в ближнем бою имеет автоматическое оружие.
– У автоматов в Советском Союзе была трудная судьба, – говорит Михаил Тимофеевич. – Первый в мире автомат был создан в России еще в 1916 году, а пистолет-пулемет – в том же году в Италии. Но в СССР такое оружие с большим расходом патронов считали оружием богатых империалистов. Советский боец должен экономить боеприпасы, стрелять из винтовки редко, да метко. Да и прицельная дальность у трехлинейки побольше… Лишь финская война доказала, что в ближнем бою автоматическому оружию нет альтернативы. Тем не менее пистолет-пулемет Дегтярева до войны вообще сняли с производства.
Тот эпизод на всю жизнь врезался в память молодому бойцу. Находясь в госпитале, он начал работать над чертежами пистолета-пулемета. Помогал ему сосед по палате – раненый лейтенант-десантник, который хорошо разбирался в системах стрелкового оружия, знал все плюсы и минусы и наших ППШ, немецких пистолетов-пулеметов МП-40.
В январе 1942 года военраненого Калашникова отправили из елецкого госпиталя домой в шестимесячный отпуск на поправку. Но до родных он так и не добрался. Прибыл на станцию Матай, где с разрешения начальства и с помощью друзей за три месяца создал в железнодорожных мастерских первый образец пистолета-пулемета. Здесь же, наделав много шума своей стрельбой, провел и первые испытания.
Со своим детищем молодой конструктор поехал в Алма-Ату По направлению ЦК Компартии Казахстана его направили на работу в эвакуированный сюда Московский авиационный институт. Здесь он разработал и изготовил свой второй образец пистолета-пулемета, который отправили на экспертизу в Самарканд, куда в то время была эвакуирована Артиллерийская академия имени Ф. Э. Дзержинского. Конечно, в серию опытный образец запущен не был – уж слишком он оказался сырой. Но выдающийся ученый-теоретик стрелкового оружия генерал Анатолий Аркадиевич Благонравов разглядел в невысокого роста 22-летнем старшем сержанте огромный талант оружейного конструктора.
Из архивных документов.
Военному Совету Средне-Азиатского военного округа.
В артиллерийскую Академию старшим сержантом тов. М. Т. Калашниковым был предъявлен на отзыв образец пистолета-пулемета, сконструированный и сделанный им за время отпуска, предоставленного после ранения. Хотя сам образец по сложности и отступлениям от принятых тактико-технических требований не является таким, который можно было бы рекомендовать для принятия на вооружение, однако исключительная изобретательность, большая энергия и труд, вложенный в это дело, и оригинальность решения ряда технических вопросов заставляют смотреть на товарища М. Т. Калашникова, как на талантливого самоучку, которому желательно дать возможность технического образования. Несомненно, из него может выработаться хороший конструктор, если его направить по надлежащей дороге.
Считаю возможным за разработку образца премировать тов. М. Т. Калашникова и направить его на техническую учебу.
Заслуженный деятель науки и техники, профессор, доктор технических наук, генерал-майор артиллерии A.A. Благонравов.
Так в 1942 году Калашников направляется для дальнейшего прохождения службы на Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового оружия Главного Артиллерийского управления РККА. Здесь в 1944 году он создает опытный образец самозарядного карабина. Именно устройство его основных узлов и стало основой будущего автомата.
Тем временем война доказала не только плюсы, но и минусы пистолета-пулемета. И прежде всего – его небольшую дальность стрельбы. В 1943 году немецкий конструктор Хуго Шмайссер разработал для вермахта штурмовую автоматическую винтовку МП-43 под патрон промежуточного типа. Он был меньше винтовочного, но больше пистолетного. В 1944 году аналогичный патрон появился и в Советском Союзе. Тогда же был объявлен конкурс на создание нового автоматического оружия под этот боеприпас. В нашей стране оно получило название автомат. Для середины XX века он стал оружием нового поколения и до настоящего времени нет ничего, что смогло бы его заменить.
Конкурс длился более трех лет – с 1944 по 1947 год.
До сих пор ходят слухи, что Калашников будто бы сымитировал свой автомат с немецкой штурмовой винтовки – уж больно они похожи по внешнему виду. Но ближайшее рассмотрение опровергает этот вымысел. Отличается механика, калибр, способ разборки, многие конструктивные особенности. Взять хотя бы затвор. У МП-43 он слева, у АК – справа. Автомат Калашникова более совершенен и по тактико-техническим характеристикам. А похожий внешний вид доказывает лишь ту истину, что при разработке принципиально нового типа легкого стрелкового оружия конструкторская мысль в разных странах работала в одном направлении. Кстати, и в СССР, все четыре автомата, представленных на конкурс, очень похожи друг на друга. И все же без помощи германской техники не обошлось. Практически все чертежи АК и его последующих моделей конструктор сделал на трофейной чертежной доске из Германии «Кульман патент».
Свою разработку Михаил Калашников представил уже в 1945 году. Конкуренты были сильные – Дегтярев, Симонов, Судаев, Вулкин, Дементьев. Но к финалу признанные мэтры легкого стрелкового оружия Дегтярев и Симонов сняли свои образцы с конкурса, а Калашников доработал и усовершенствовал свою конструкцию, добившись надежности, простоты и удобства. Благодаря этим качествам АК-47 одержал блистательную победу и в 1949 году был принят на вооружение Советской Армии. Тогда это оружие считалось секретным. После стрельбы солдаты собирали все гильзы, а сам автомат носили только в чехлах.
Опытный образец АК был сделан в Коврове, но первая партия была выпущена в 1948 году в Ижевске. На следующий год сюда приезжает и сам конструктор. Тогда же его, глубоко засекреченного специалиста, отметили Государственной (Сталинской) премией, вместе с которой он получил автомобиль «Победа», стоивший по тем временам баснословные деньги – 16 тысяч рублей.
Вспоминая об этом, Михаил Тимофеевич любит рассказывать историю о том, как «отец народов» сам осматривал первую послевоенную советскую легковушку. Тогда у нее еще не было названия – выбирали между «Родиной» и «Победой». «Ну, и за сколько же вы будете продавать свою «Родину»? – поинтересовался Сталин у заводчан. Конфуз дополнила и фуражка, которая слетела с головы вождя, когда он садился в машину. После этого крышу салона чуть-чуть приподняли, а машину назвали «Победой». «И все-таки это еще не «Победа», – усмехнулся Сталин, попыхивая трубкой. Но название оставил.








