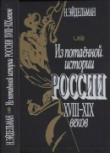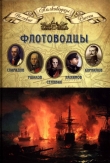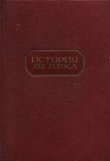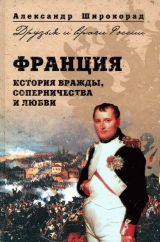
Текст книги "Франция. История вражды, соперничества и любви"
Автор книги: Александр Широкорад
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
Летом 1788 г. во Флоренцию прибыл генерал-поручик И.А. Заборовский с целью вербовки наемников в русскую армию и флот. 1 июня 1789 г. Заборовский пишет Екатерине: «По приезде в Италию я послал обер-офицера на Мальту, а штаб-офицера в Тоскану, где [он] осмотрел набранные на службу 70 корсиканцев, и их отправили в Сиракузы, а бригадиру Мещерскому предписал воздержаться от их дальнейшего набора».
Чем Заборовскому не угодили корсиканцы, остается загадкой. Об этом факте и не стоило бы упоминать, если бы неприязнь нашего генерал-поручика не изменила бы историю человечества. В начале лета 1789 г. Заборовский получил прошение о приеме на русскую службу от младшего лейтенанта французской армии, служившего в Балансе. Звали лейтенанта Наполино Буона Парте. Двадцатилетнему корсиканцу из семьи адвоката явно не светила карьера в королевской армии, а о том, что через несколько недель падет Бастилия, в валанской глухомани и помыслить никто не мог. Но, увы, Заборовский резко отклонил просьбу Наполино. Тут была и неприязнь к корсиканцам, да еще этот молокосос просил сразу чин майора.
На этом я заканчиваю описание холодной войны между Францией и Россией. Продолжалась война с турками и шведами, поддерживаемыми Францией, но 14 июля 1789 г. началась новая эпоха в истории человечества.
В заключение следует сказать, что, несмотря на холодную войну, культурные и торговые отношения с Францией при Екатерине Великой процветали.
Екатерина с самого начала царствования состояла в переписке с философами Ж.Л. д'Аламбером, Вольтером, Гриммом, Дидро. Чтобы финансово поддержать Дидро и одновременно произвести впечатление, русская императрица купила у него библиотеку за 15 тысяч ливров – огромную по тем временам цену. Однако библиотека осталась в пожизненном пользовании философа, и Екатерина назначила ему жалованье в тысячу франков как хранителю ее книг.
Вольтер был в восторге от щедрости и благородства Семирамиды: «Кто бы мог вообразить 50 лет тому назад, что придет время, когда скифы будут так благородно вознаграждать в Париже добродетель, знание, философию, с которыми так недостойно поступают у нас» [69]69
Черкасов П.П. Екатерина II и Людовик XVI. Русско-французские отношения 1774—1792. М.: Наука, 2004. С. 26.
[Закрыть].
А после смерти Вольтера Екатерина купила и его библиотеку, которая и по сей день находится в Петербурге.
Дважды, в 1773—1774 гг. и в 1776—1777 гг., в Петербурге гостил Гримм.
Торговля между Францией и Россией с XVI века осуществлялась лишь через английских и голландских посредников. Екатерина II всячески способствовала расширению товарообмена между двумя государствами. Для этого императрица распорядилась учредить русские консульства: в 1767 г. – в Бордо, а в 1778 г. – в Марселе. В 80-х годах XVIII века русские консульства открылись в Дюнкерке, Тулоне и Ницце. Но, несмотря на принятые меры, товарооборот между Россией и Францией к 1780-м годам оставался крайне низким. Так, в 1766 г. в петербургский порт прибыли 457 иностранных торговых кораблей. Из них 165 были английскими, 68 – голландскими, 40 – датскими, 51 – из Любека, 34 – из Ростока, 25 – из Швеции, 5 – из Гамбурга, 5 – из Пруссии, и только один (!) корабль прибыл из Франции. В 1773 г. в Петербургский порт прибыли 326 английских судов, 106 голландских, а французских только одиннадцать. В Ригу и Ревель французские суда ходили крайне редко, а в Архангельск вообще не ходили.
Русские купцы везли во Францию пеньку, парусину, кожи, конопляное масло, лен, говяжье и свиное сало для производства свечей, железную и медную руду, а также икру. А во Франции закупались вино, соль, индиго, засахаренные фрукты и конфитюры, галантерея и предметы роскоши. Так, в 1782 г. Франция закупила в России товаров на 9166 тыс. ливров, а продала в России только на 4802 тыс. ливров, то есть осталась с дефицитом в 4364 тыс. ливров.
С возвращением России Дикого поля и основанием русских портов на Черном море, против чего так активно выступал Версаль, там началась интенсивная русско-французская торговля.
В статистическом отчете «Картина торговли между Марселем и Херсоном» за вторую половину 1786 г. [70]70
Tableau du Commerce entre Marseille et Kerson // Ibid. Piece 4.
[Закрыть]говорится, что в Марсель прибыли 12 судов из Херсона с товаром на 626 700 ливров. За первые 6 месяцев 1786 г. в Марселе побывали 5 судов из Херсона с товарами на сумму 207 840 ливров. Из Марселя в Херсон в 1784 г. прибыли 4 судна с товарами на сумму 152 300 ливров, в 1785 г. – 4 судна с товарами на 153 450 ливров и за первое полугодие 1786 г. – 4 судна с товарами на 21 700 ливров. То есть за два с половиной года из Херсона в Марсель прибыли 21 торговое судно с товарами в сумме на 1 028 680 ливров, а из Марселя в Херсон – 12 судов с товарами на 516 450 ливров. Из приведенных цифр видно, что русский экспорт из Херсона в Марсель превысил на 512 230 ливров импорт из Марселя в Херсон.
Как видим, в документе не упоминается национальность владельцев судов. Во всяком случае, суда русских купцов в те годы на Средиземном море не плавали. Да и французские суда в Черное море ходили редко. Так что грузы перевозили, в основном, греческие судовладельцы. Другой вопрос, что значительная часть их плавала под русским коммерческим флагом (нынешним триколором).
11 января 1787 г. в Петербурге был подписан русско-французский договор о дружбе, торговле и навигации, в котором обе стороны снизили пошлины на ввозимые товары. Увы, из-за начала русско-турецкой, а затем и русско-шведской войн реализовать возможности этого договора не удалось.

Глава 7
РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ И РЕАКЦИЯ ЕКАТЕРИНЫ И ПАВЛА
В 1789 г. во Франции произошла революция, то есть событие, казалось бы, чисто внутреннее. 14 июля 1789 г. восставшие парижане взяли Бастилию. По этому поводу французский посол в Петербурге Сегюр писал: «...в городе было такое ликование, как будто пушки Бастилии угрожали непосредственно петербуржцам».
По свидетельству секретаря императрицы А.В. Храповицкого, Екатерина, получив известие из Парижа, заявила: «Зачем нужен король? Он всякий вечер пьян, и им управляет, кто хочет, сперва Бретейль, партии королевиной, потом принц Конде и граф д'Артуа и, наконец, Лафайет; уговаривали его идти в собрание депутатов».
В октябре 1789 г. Луи XVI со своим семейством под угрозами революционных толп, едва не разгромивших Версальский дворец, был вынужден перебраться в Париж, где королевское семейство оказалось на положении заложников.
В начале ноября того же года посол Симолин докладывал Екатерине: «Король лишен власти, а 14 июля 1789 г. восставшие парижане взяли Бастилию. Такое состояние не может продолжаться, но трудно предвидеть, когда и как оно кончится. Во всяком случае, возможно, что в течение нескольких лет Франция не будет иметь никакого значения в политическом равновесии Европы» [71]71
Международные отношения в начальный период Великой французской революции (1789). Сборник документов из Архива внешней политики России МИД СССР / Под ред. А.Л. Нарочницкого. М.: Международные отношения, 1989. С. 401.
[Закрыть].
В октябре 1789 г. граф Сегюр уехал из России, проигнорировав предложение Екатерины не подвергать свою жизнь опасности во Франции и остаться в Петербурге в качестве ее личного гостя. А представлять интересы Франции в России остался поверенный в делах Эдмон Шарль Эдуард Жене.
Отношение Екатерины II к событиям во Франции давно уже вызывает споры историков. На мой взгляд, все точки над «i» можно поставить, отделив высказывания императрицы для «внешнего» и «внутреннего» пользования. Письма заграничным корреспондентам, высказывания на балах и приемах послов можно отнести к первой группе, а речи в узком кругу – к другой.
На публике Екатерина была крайне возмущена событиями во Франции. Ее гневные слова разлетались по всей Европе. Она называла депутатов Национального собрания интриганами, недостойными звания законодателей, канальями, которых можно было бы сравнить с «маркизом Пугачевым». Екатерина призывала европейские государства к интервенции – «дело Людовика XVI есть дело всех государей Европы».
Екатерина заявила: «Мы не должны предать добродетельного короля в жертву варварам. Ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии. Древние за одно утесненное правление воевали против сильных; почему же европейские государи не устремятся на помощь государю и его семейству, в заточении находящемуся? Безначалие есть злейший бич, особливо когда действует под личиною свободы, сего обманчивого призрака народов. Европа вскоре погрузится в варварство, если не поспешать ее от онаго предохранить. С моей стороны, я готова воспротивиться всеми моими силами. Пора действовать и приняться за оружие для устрашения сих беснующихся! Благочестие к сему возбуждает, религия повелевает, человечество призывает, а с ним драгоценные и священные права Европы сего требуют» [72]72
Брикнер А. История Екатерины Второй. Т. 2. С. 680.
[Закрыть].
В ночь на 21 июня 1791 г. Луи XVI с женой и детьми тайно бежал из Тюильри, где они проживали после переезда из Версальского дворца, и отправился в Германию. В побеге короля активное участие принял посол Симолин. В частности, он выдал Марии Антуанетте поддельные документы, согласно которым, она значилась русской подданной, баронессой Корф, следующей во Франкфурт с двумя детьми, лакеем (Луи XVI), тремя слугами и горничной.
Самое любопытное, что в Париже действительно проживала Анна Христина Корф, урожденная Штегельман, дочь петербургского банкира, вдова полковника русской службы, убитого в русско-турецкую войну 1768—1774 гг., при штурме Бендер. И она, согласно требованию Екатерины II о том, чтобы все русские подданные незамедлительно покинули революционный Париж, действительно тихо уехала во Франкфурт.
Однако в городке Варенн королевская семья была опознана, арестована и препровождена в Париж. Симолин оказался в сложном положении. Депутаты Национального собрания возмущенно обличали «солидарность тиранов». Сейчас трудно сказать, была ли замешана в инциденте Екатерина II или это была самодеятельность Симолина.
В декабре 1791 г. Симолину было предписано покинуть Париж. Перед отъездом он тайно встретился с Марией Антуанеттой и повез в Вену ее корреспонденцию.
Екатерина Великая всячески подстрекала к нападению на Францию своего двоюродного брата, шведского короля Густава III. 27 июля 1791 г. в своем дневнике секретарь Екатерины Храповицкий записал: «Барон Плен из Ахена пишет, что шведский король стремится защищать короля французского, подговаривая к тому и нас, но по-прежнему просит три миллиона за мир; мы с ним часто в мыслях разъезжаем по Сене в канонерских лодках» [73]73
Французская буржуазная революция 1780—1794 / Под ред. В.П. Волгина и Е.В. Тарле. М.—Л.: Издательство Академии наук СССР, 1941. С. 159.
[Закрыть].
Для этой цели Екатерина II отправила братцу кругленькую сумму. Но 16 марта 1792 г. шведский король был застрелен на маскараде.
После казни Людовика XVI Екатерина публично плакала, позже она заявила: «...нужно искоренить всех французов для того, чтобы имя этого народа исчезло».
Осенью 1791 г. Екатерина II вступила в переписку с братом короля Луи XVI, графом Прованским, обосновавшимся в германском городе Кобленце. Письмами жив не будешь, и императрица отослала ему 2 млн. франков. Со времени казни короля 21 января 1793 г. роялисты объявили королем Людовиком XVII восьмилетнего Луи Шарля, сына покойного короля. Он находился в Париже в заключении, и 8 июня 1795 г. правительство Французской республики официально объявило о смерти бывшего дофина. Хотя обстоятельства и дата смерти Луи Шарля вызывали и вызывают ныне много споров, граф Прованский немедленно провозгласил себя королем Франции, Людовиком XVIII. Понятно, что первой признала нового короля Екатерина II и стала настойчиво советовать сделать то же Лондону и Вене.
Нетрудно догадаться, что мудрая императрица надеялась еще больше обострить отношения Англии и Австрии с Францией и затруднить возможное примирение.
В 1795 г. Екатерина направила в Северное море эскадру вице-адмирала Ханыкова в составе 12 кораблей и 8 фрегатов. Эта эскадра конвоировала купцов, вела блокаду голландского побережья и т.п. Боевых потерь она не имела. Фактически это была обычная боевая подготовка, с той разницей, что финансировалась она целиком за счет Англии.
В связи с революцией во Франции Екатерина приняла и ряд мер внутри страны. Так, французам, находившимся в России, дозволялось оставаться не иначе, как подписав присягу, что они ничего общего не имеют с «правилами безбожными и возмутительными» и что они признают «злодеяние, учиненное сими извергами над королевскою особою во всем том омерзении, каковое оно возбуждает во всяком добром гражданине». Кроме того, французы, находившиеся в России, должны были дать обещание прервать «всякие сношения с одноземцами своими, повинующимися нынешнему незаконному и неистовому правлению». И около тысячи находившихся в России французов подписали эту присягу.
Но когда по Петербургу пошел слух о том, что злодеи якобинцы повсеместно рассылают убийц для покушения на жизнь государей, дежурный генерал-адъютант П.Б. Пассек приказал при каждом входе во дворец удвоить караулы. Узнав об этом, императрица немедленно отменила это распоряжение.
Итак, в Екатерине мы видим непримиримого врага революционной Франции. Но вот в узком кругу... Так, как-то цесаревич Павел, читая газеты в кабинете императрицы, злился: «Что они все там толкуют! Я тотчас бы все прекратил пушками!» Екатерина ответила сыну: «Vous etes une bete feroce [Ты жестокая тварь. – фр.].Или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями? Если ты так будешь царствовать, то недолго продлится твое царствование» [74]74
Шильдер Н.К. Император Павел I. СПб., 1901. С. 248.
[Закрыть].
А вот возьмем переписку Екатерины II с Потемкиным, большая часть которой посвящена войнам и политике. Поначалу Луи XVI упоминался довольно часто, а после 30 сентября 1788 г. – ни разу (!) до самого конца переписки 4 октября 1791 г. На официальных приемах можно поболтать и о якобинцах, а с фаворитом – только о серьезных делах: турецких, австрийских и польских.
При этом Екатерина была прекрасно осведомлена о событиях во Франции. Полнота информации плюс аналитический ум императрицы позволили ей прогнозировать события. Так, в октябре 1789 г. она сказала о Людовике XVI: «Его постигнет судьба Карла I». И действительно, 21 января 1793 г. голова короля скатилась в корзину у подножия гильотины.
В феврале 1794 г. Екатерина писала Гримму: «Если Франция справится со своими бедами, она будет сильнее, чем когда-либо, будет послушна и кротка, как овечка; но для этого нужен человек недюжинный, ловкий, храбрый, опередивший своих современников и даже, может быть, свой век. Родился он или еще не родился? Придет ли он? Все зависит оттого. Если найдется такой человек, он стопою своею остановит дальнейшее падение, которое прекратится там, где он станет, во Франции или в ином месте». А ведь до 18 брюмера было 5 лет и 7 месяцев!
4 декабря 1791 г. Екатерина сказала своему секретарю Храповицкому: «Я ломаю себе голову, чтобы подвинуть венский и берлинский дворы в дела французские... ввести их в дела, чтобы самой иметь свободные руки. У меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтобы эти дворы были заняты и мне не мешали».
В августе 1792 г. прусские и австрийские войска вторгаются на территорию Франции. Европа вступает в период «революционных войн». А вот в России происходят странные события. Лучшие силы армии и флота стягиваются не на запад против злодеев якобинцев, а на юг. В 1793 г. из Балтики на Черное море были переведены 145 офицеров и 2000 матросов. В Херсоне и Николаеве были заложены 50 канонерских лодок и 72 гребных судна разных классов. К навигации 1793 года в составе Черноморского флота было 19 кораблей, 6 фрегатов и 105 гребных судов. В указе о приготовлении Черноморского флота было сказано, что он «Чесменским пламенем Царьградские объять может стены».
В январе 1793 г. в Херсон прибывает новый главнокомандующий, граф А.В. Суворов. Пока Екатерина сколачивала коалицию для борьбы с якобинцами и устраивала публичные истерики по поводу казни короля и королевы, на санкт-петербургском монетном дворе мастер Тимофей Иванов тайно чеканил медали, на одной стороне которых была изображена Екатерина II, а на другой – горящий Константинополь, падающий минарет с полумесяцем и сияющий в облаках крест.
Операция по захвату Проливов была намечена на начало навигации 1793 года. Однако весной этого года началось восстание в Польше под руководством Костюшко. Скрепя сердце Екатерина была вынуждена отказаться от похода на Стамбул. 14 августа 1793 г. Суворов прибывает в Польшу, а уже 24 октября перед ним капитулирует Варшава. В результате Суворов стал фельдмаршалом, Екатерина присоединила к России еще три губернии – Виленскую, Гродненскую и Ковенскую, а заодно и герцогство Курляндское. Но не всегда синица в руках лучше журавля в небе. Екатерина это прекрасно понимала, и на 1797 год была запланирована новая операция. По ее плану, граф Валерьян Зубов должен был закончить войну в Персии и двинуть войска в турецкую Анатолию. Суворов с армией должен был двинуться к Константинополю через Балканы. А вице-адмирал Ушаков с корабельным и гребным флотом – к Босфору. Формально командовать флотом должна была лично императрица.
6 ноября 1796 г. скончалась Екатерина Великая, и вновь, как и после смерти Елизаветы Петровны, внешняя политика России резко изменилась. В тот же день с барабанным боем и развернутыми знаменами в Петербург вступили прусские войска. Очевидец, француз Масон сострил: «Дворец был взят штурмом иностранным войском». Но, конечно, это были не пруссаки, а гатчинское воинство, которое Павел еще при жизни матери одел в прусские мундиры и муштровал по прусским уставам.
К Павлу потянулись со всех сторон тысячи немецких проходимцев, всякие там Адлеры, Адленберги, Бенкендорфы, Врангели и т.п. Сам Павел I был женат на Марии Федоровне (принцессе Софии Доротее Вюртембергской), а его сын Александр – на Елизавете Алексеевне (принцессе Луизе Баденской). Вся эта германская партия начала буквально давить на Павла, а затем на Александра. У одних «русских немцев» в германских княжествах был собственный гешефт, у других от французов пострадали родственники.
Однако, придя к власти, Павел решил вести мирную политику. Он прекратил подготовку к босфорской операции и отозвал эскадру Макарова из Северного моря.
В первые месяцы своего правления Павел не вмешивался в европейские дела, но внимательно наблюдал за ними. 1796—1797 годы ознаменовались, с одной стороны, политической нестабильностью во Франции, а с другой – успехами французской армии в борьбе против европейской коалиции. Такую ситуацию Павел воспринял лишь как военную слабость монархов Европы. Он постепенно давал себя убедить, что без его вмешательства порядок в Европе навести невозможно.
В апреле 1796 г. французская армия под командованием 27-летнего генерала Бонапарта вторглась в Италию. Австрия посылала одну за другой лучшие армии под командованием лучших своих полководцев, но они вдребезги были разбиты Бонапартом. В мае 1797 г. французы заняли Венецию. По приказу Бонапарта на венецианские корабли был посажен французский десант, который в июне 1797 г. занял Ионические острова, принадлежащие Венеции. Эти острова – Корфу, Цериго, Санта-Мавра и другие – находятся вблизи берегов Греции и имеют стратегическое положение в центральном и восточном Средиземноморье.
18 октября 1797 г. Австрия и генерал Бонапарт заключили мир, вошедший в историю как Кампаформийский.
А как реагировал Павел на Кампа-Формио? Да никак. При известии о Лёбенском перемирии, когда австрийский посол Кобенцель дал понять, что его можно нарушить, если только Россия захочет поддержать свою союзницу, Павел пожал плечами. «Вы еще недостаточно терпели поражений?» [75]75
Валишевский К. Сын Великой Екатерины. Император Павел I. М.: СП «ИКПА», 1990. С. 296.
[Закрыть]
Но вот к императору прибыл представитель французских эмигрантов. По условиям мира, Австрия уже не могла держать на своей территории эмигрантские отряды, которыми командовал принц Конде. На этот раз эмигранты просили не военной поддержки, а убежища, взывая к милосердию императора. Павел считал себя благородным рыцарем без страха и упрека. «Русский Дон Кихот», – называл его Наполеон. Не подумав о последствиях и интересах России, Павел широким жестом пригласил эмигрантов к себе.
Самому принцу Луи Конде, его сыну, герцогу Бурбонскому, и его внуку, герцогу Ангиенскому, в Петербурге было оказано пышное гостеприимство, а их отряды Павел велел расквартировать в Подолии и на Волыни. Даже был поднят вопрос о браке Александры Павловны с Антуаном, герцогом Ангиенским.
А в декабре 1797 г. сам претендент на французскую корону, герцог Прованский поселился в Митавском замке, и Павел назначил ему пенсию в 200 тысяч рублей.
После отъезда Симолина Россия и Франция не имели дипломатических отношений. Тем не менее французские дипломаты неоднократно пытались вступить в переговоры со своими российскими коллегами, вначале в Копенгагене, а потом в Берлине. Был момент, когда Павел даже хотел прийти к мирному соглашению с Республикой, благо делить обоим государствам было нечего. Увы, субъективные факторы оказались сильнее объективные жизненно важных интересов России и Франции.
Русская военная партия сфабриковала заговор поляков в Вильно, которых якобы субсидировал Бонапарт. На самом деле в Вильно хватало скандальных панов, но серьезным заговором и не пахло. Да и Бонапартий в те годы даже не слыхивал о таком городе. Тем не менее слухи о заговоре и участии Бонапарта вызвали ярость императора.
Существенную роль во втягивании России в войну сыграли и мальтийские рыцари. В 1525 г. император Карл V уступил остров Мальту рыцарскому ордену иоаннитов, после того как турки изгнали их с острова Родос. С тех пор остров принадлежал рыцарскому ордену. В ходе обеих турецких войн Екатерины II мальтийские рыцари оказывали существенную помощь русским. На Мальте базировались и ремонтировались наши корабли, а сотни, если не тысячи мальтийских моряков плавали на каперских судах под Андреевским флагом.
Основную часть доходов ордена составляли поступления из десятков имений, принадлежавших рыцарям по всей Европе, включая Речь Посполитую. Французская революция и последовавшие за ней войны лишили орден значительной части доходов, поступавших с континента.
А тут возникли проблемы с владениями князей Острожских на Волыни. После пресечения рода законных наследников богатейшие имения по завещанию должны были быть переданы ордену. Но буйные соседские паны объявили себя наследниками князей Острожских по боковой линии и приступили к самозахвату земель.
В связи с этим в Петербург прибыл бальи ордена, граф Джулио Литта. В свое время он служил в русском флоте, и Екатерина присвоила ему чин контр-адмирала.
Павел считал себя рыцарем, и хитрый Литта сыграл на его чувствах. Литта и компания «для большего эффекта... в запыленных каретах приехали ко двору». Павел ходил по зале и, «увидев измученных лошадей в каретах, послал узнать, кто приехал; флигель-адъютант доложил, что рыцари ордена св. Иоанна Иерусалимского просят гостеприимства. "Пустить их!" Литта вошел и сказал, что, "странствуя по Аравийской пустыне и увидя замок, узнали, кто тут живет..."». Царь благосклонно принял все просьбы рыцарей.
4(15) января 1797 г. Павел подписал конвенцию, обеспечивавшую ордену взамен земель на Волыни, требуемых им обратно, ежегодный доход в 300 тысяч польских злотых на содержание великого Российского приорства.
Как видим, пока речь шла лишь о расхищении русских финансов. Однако во время следующего визита в Петербург Литта привез крест, который носил самый знаменитый из гроссмейстеров ордена – Лавалетт, и предложение протектората. 27 ноября 1797 г. он совершил парадный «въезд» в Петербург, а через два дня Павел, дав ему торжественную аудиенцию в присутствии своего двора и большого числа высших представителей православной церкви, принял подношение и согласился на протекторат. И опять же, принятие протектората над Мальтой не приносило особого ущерба России.
Весной 1798 г. в Тулоне началось сосредоточение кораблей и транспортов. Туда же был стянут 38-тысячный десантный корпус под командованием самого Бонапарта. Вся Европа затаила дыхание. Газеты распространяли самые противоречивые сведения о планах Бонапарта – от высадки в Англии до захвата Константинополя. На брегах Невы испугались и решили, что злодей Бонапартий не иначе как замыслил отнять Крым. 23 апреля 1798 г. Павел I срочно посылает приказ Ушакову выйти с эскадрой в море и занять позицию между Ахтиаром и Одессой, «наблюдая все движения со стороны Порты и французов».
19 мая французский флот вышел из Тулона. 23 мая французы подошли к Мальте, которая принадлежала ордену мальтийских рыцарей. Мальта сдалась без боя, а рыцарям пришлось убираться с острова по добру-поздорову. 20 июня 1792 г. французская армия высадилась в Египте. Бонапарт легко победил турок и занял Египет, но 20—21 июля адмирал Нельсон в Абукирской бухте разгромил французский флот. Армия Бонапарта оказалась отрезанной от Франции.
Изгнанные с Мальты рыцари обратились за помощью к Павлу I и предложили ему стать Великим магистром ордена. Павел радостно согласился, не думая о комизме ситуации: ему, главе православной церкви, предложили стать магистром католического ордена. 10 сентября 1798 г. Павел издал манифест о принятии Мальтийского ордена в «свое Высочайшее управление». В этот же день эскадра Ушакова соединилась с турецкой эскадрой в Дарданеллах, и они вместе двинулись против французов.
Бонапарт турок напугал еще больше, чем русских. Хотя Египет и управлялся полунезависимыми от Стамбула мамелюкскими беями и Бонапарт неоднократно заявлял, что воюет не с турками, а с мамелюками, все равно султан Селим III считал высадку французов нападением на Оттоманскую империю. Мало того, иностранные дипломаты, скорей всего, русские, довели до султана «секретную» информацию о планах Бонапартия, который решил, ни много ни мало, как разорить Мекку и Медину, а в Иерусалиме восстановить еврейское государство. И как этому не поверить, когда французы на Ниле и двигаются в Сирию? Тут уж не до воспоминаний об Очакове и Крыме.
Султан Селим III повелел заключить союз с Россией, а французского посла, как положено, заточили в Семибашенный замок.
7 августа 1798 г. Павел I послал указ адмиралу Ушакову следовать с эскадрой в Константинополь, а оттуда – в Средиземное море.
12 августа 1798 г. из Ахтиарского порта вышли шесть кораблей, семь фрегатов и три авизо. На борту кораблей были 792 пушки и 7406 «морских служителей». Попутный ветер надувал паруса, гордо реяли Андреевские флаги, эскадра знаменитого Ушак-паши шла к Босфору. Все, от вице-адмирала до юнги, были уверены в успехе. Никому и в голову не приходило, что именно в этот день началась шестнадцатилетняя кровопролитная война с Францией. Впереди будут и «солнце Аустерлица», и горящая Москва, и казаки на Елисейских полях.
25 августа русская эскадра прошла Босфор и встала на якоре в Буюк-Дере, напротив дома русского посла. Интересно, что население радостно встречало своих «заклятых врагов». Адмирал Ушаков доносил Павлу: «Блистательная Порта и весь народ Константинополя прибытием вспомогательной эскадры бесподобно обрадованы, учтивость, ласковость и доброжелательство во всех случаях совершенны».
Даже Селим III не удержался и инкогнито на лодке объехал русские корабли.

Операции эскадры Ушакова в Средиземном море в 1798– 1799 гг.
От имени султана Ушакову была вручена табакерка, украшенная алмазами. Вместе с ней была передана декларация Турции: «О свободном плавании русских военных и торговых судов через проливы, о взаимной выдаче дезертиров и содействии санитарным мерам во избежание распространения заразных болезней».
23 декабря 1798 г. (3 января 1799 г.) в Константинополе был заключен Союзный оборонительный договор между империей Всероссийской и Оттоманской Портой. Договор подтверждал Ясский договор 1791 года («от слова до слова»). Россия и Турция гарантировали друг другу территориальную неприкосновенность по состоянию на 1 января 1798 г. В секретных статьях договора говорилось, что Россия обещала Турции военную помощь, определенную в 12 кораблей и 75—80 тысяч солдат. Турция обязалась открыть Проливы для русского военного флота. «Для всех же других наций, без исключения, вход в Черное море будет закрыт». Таким образом, договор сделал Черное море закрытым русско-турецким бассейном. В то же время было зафиксировано право России как черноморской державы быть одним из гарантов судоходного режима Босфора и Дарданелл.
8 сентября русская эскадра вошла в Дарданеллы. При выходе из Дарданелл эскадра Ушакова соединилась с турецкой эскадрой, которая состояла из четырех кораблей, шести фрегатов, четырех корветов и четырнадцати канонерских лодок. Командовал эскадрой вице-адмирал Кадыр-бей.
28 октября русские корабли подошли к острову Цериго, а через три дня боев французский гарнизон капитулировал. В течение последующих 35 дней от французов были освобождены острова Занте, Кефалония и Санта-Мавра. Мощная же крепость на острове Корфу оказалась более крепким орешком. Ее осада длилась до 22 февраля 1799 г. Наконец французский гарнизон капитулировал. В плен были взяты 2931 француз, 635 пушек и мортир, корабль, три фрегата и шесть малых судов. По этому поводу Суворов воскликнул: «Зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом?!»
Вопрос о дальнейшей судьбе Ионических островов обсуждался Россией и Турцией еще до взятия Корфу. Турки предлагали передать их Неаполитанскому королевству или создать там княжество, зависимое от Турции. Павел же предложил учредить на островах... республику! Конечно, по современным понятиям, конституция этой республики была не совсем демократической. Так, выборы в Большой совет проходили по куриям, отдельно для каждого сословия. Но тем не менее факт остается фактом, Павел 1 стал первым русским царем, учредившим республику.
Неаполитанский король Фердинанд IV, ободренный действиями Ушакова и Нельсона, в ноябре 1798 г. решил напасть на французов в Центральной Италии. Однако 7 тысяч французов быстро разгромили 50 тысяч неаполитанцев. В Неаполе была провозглашена республика, а Фердинанд IV бежал на корабле Нельсона в Сицилию. Англичане и Фердинанд IV срочно обратились к Павлу I за помощью. Русские корабли высадили несколько небольших десантов в Италии, которые совместно с неаполитанскими роялистами изгнали французов и восстановили королевскую власть. Отряды русских солдат и матросов торжественно были встречены населением Неаполя и Рима.
В Неаполе королевская чета праздновала победу. Торжествовало и семейство Нельсона – Гамильтонов [76]76
К тому времени адмирал Нельсон и британский посол в Неаполитанском королевстве лорд Гамильтон образовали «шведскую семью», имея общую жену Эмму Гамильтон – бывшую лондонскую проститутку.
[Закрыть]. В проигрыше оказалась лишь Россия.
К этому времени на помощь эскадре Ушакова с Балтики пришла эскадра контр-адмирала П.К. Карцева, в составе которой были 74-пушечный корабль «Исидор», 66-пушечные корабли «Азия» и «Победа» и 38-пушечный фрегат «Поспешный». 22 августа 1799 г. эскадра Карцева соединилась с кораблями Ушакова в Палермо.
Начав войну с Францией, Павел решил не ограничиваться посылкой эскадры Ушакова в Средиземное море. 29 декабря 1798 г. в Петербурге был подписан русско-английский договор, согласно которому, Россия обязывалась направить в Европу для военных действий против Франции 45-тысячную армию, а Англия, со своей стороны, соглашалась предоставить единовременную денежную субсидию в 225 тыс. фунтов стерлингов и выплачивать ежемесячно по 75 тысяч.