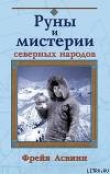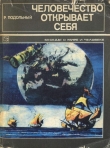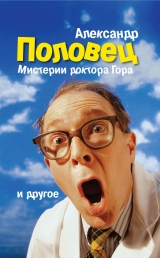
Текст книги "Мистерии доктора Гора и другое…"
Автор книги: Александр Половец
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
…и другие

Рассказ моряка
Биографическая справка
Чернов Михаил, 1955 года рождения, русский, член ВЛКСМ, образование среднетехническое, с 1982 года – моряк Калининградской рыболовной флотилии. 28 января 1986 года попросил политического убежища в американском посольстве в Перу.
День уходил. Вдоль улиц, обрывавшихся почти у самой полосы берега, стали зажигаться первые фонари. Убогие вывески голубым и розовым свечением неона обозначили пивной бар, булочную и чуть дальше – ресторан… А с противоположной стороны, от моря, вдруг задул сырой, порывистый ветер. Невысокие волны, через точно отмеренные промежутки времени, окатывали прибрежную гальку, с каждым разом все ближе и ближе подбираясь к слегка изогнутой по своей высоте стене парапета, отделявшего набережную от открытого моря.
Багровый диск солнца, казалось, падал в море, обозначив собою границу приблизившегося горизонта. Смотреть на него можно было почти не щурясь.
– Занятно, – размышлял Чернов, прислонившись к высокой спинке деревянной скамьи, словно забытой на самом неподходящем для нее месте – у подъезда к заброшенному складскому помещению, возле почти истлевших деревянных ящиков и прочего хлама.
– Вот он какой, латвийский город Лиепая… Гостиницы забиты, мест нет. Да и были бы – толку что, когда в кармане копейки.
Еще одна папироса сломалась в его руках.
– Друг, угости покурить! – Чернов оглянулся. Перед ним стоял пожилой мужчина. Казалось, он не был похож на русского. Его живот громоздко вываливался из поношенных парусиновых брюк, маленькие бесцветные глазки почти безразлично осматривали внушительную фигуру Чернова, брошенный им у ног рюкзачок.
Легкий акцент действительно выдавал в нем прибалта. В то же время склад его речи удивительным образом повторял слегка приблатненный уличный говорок горожанина средней полосы России: вероятно, сказывался в этом некороткий опыт, если не лагерной жизни, то высылки – судьбы, постигшей в свое время немало его земляков. Чернов протянул ему пачку. Незнакомец толстыми пальцами, как можно аккуратнее, вытащил из нее одну за другой две папиросы.
– Про запас, – пояснил он, как нечто само собой разумеющееся, и тут же спросил: – Ты что, приезжий?
– Ну да… вот, приехал… ночевать пока негде…
– А чего приехал-то – работать, что ли?
– Да. На пароход хочу попасть.
– Хм… здесь ты, парень, вряд ли устроишься. Гляди, одни военные суда вокруг. Есть, правда, и рыболовецкие – колхозные они. Только ты, похоже, не о них думаешь. Тебе, браток, надо в Калининград пробираться, бывший Кенигсберг – вот там есть гражданское пароходство, может, там устроишься…
– Может, и устроюсь – да как туда добраться-то?
– Э… здесь я тебе, кажется, подскажу. Я работаю в цирке. Одна из наших трупп через месяц едет в Калининград. Им, вроде, нужен униформист. Валяй, поступай к нам. А попадешь в Калининград – уволишься, и дуй в свое море, коли так решил…
* * *
Здесь, собственно, и начинается сама история. История профессионального советского моряка, который несколько лет проплавал на промысловых судах, бороздящих под красным флагом международные воды. Это не были военные корабли. Однако, будучи приписаны к торговому или промысловому флоту, они не ограничивались ловлей тунца или перевозкой грузов. Были у этих кораблей и другие функции… Но об этом потом.
Для нас же рассказ Чернова интересен не только неординарной судьбой его героя: на фоне перипетий его жизни отчетливо вырисовываются фрагменты уникальной для стороннего взгляда картины быта советских моряков – тех, чье привилегированное служебное положение предполагает длительные плавания в территориальных водах других государств. А нередко – и заходы в порты, принадлежащие этим государствам, – как нетрудно понять, возможность, вызывающая зависть почти у любого подсоветского обывателя…
Здесь уместно передать слово Чернову:
– Лет 17… Ну, может быть, 18… По-моему, только к этому возрасту человек начинает осознавать себя, формируется как личность. Для меня это был 72-й год… – тогда я получил аттестат десятилетки. И я впервые задал себе вопрос – а что дальше? Как и всем моим сверстникам, хотелось верить в свою исключительность, в то, что именно у меня сложится жизнь; хоть чем-то отличная от той рутинной, которая, как мы все уже понимали, поджидает нас и порог которой мы готовились переступить. Был передо мною опыт – отца, служащего железной дороги, матери-акушерки – серая, скучная жизнь… Нет, не хотел я повторять их путь! Не хотел… А как избежать его?
Решили мы с одним из моих приятелей поступить в училище гражданской авиации – романтичнее профессии летчика в голову ничего не приходило. Ближайшим к Волгограду, где мы жили, оказалось находящееся в Красном Куте Саратовской области. Едем? – Едем! Приехали. И быстро убедились, что поступить нам вряд ли удастся: на 90 вакантных мест – 900 заявлений… Документы мы, однако, подали и даже прошли предварительные испытания – на физическую выносливость.
До сих пор помню эти вращающиеся стулья… А на математике срезались оба. Этот же предмет подвел меня и при попытке поступить в Институт химической технологии, выбранный мною, поскольку химию я любил и знал ее хорошо. И тогда я без особого труда поступил в Волгоградский химико-технологический техникум, откуда после первого же курса был забран в армию.
Последующие два года ничем особым примечательны не были – если не считать вынесенного мною из авиационной части увлечения электротехникой. Эта привязанность и определила, в значительной степени, мою судьбу. Вернувшись в Волгоград, продолжил учебу в техникуме – в этот раз уже на вечернем отделении.
В 1978-м году получил диплом… И ничего в моей жизни не изменилось: в период учебы я работал днем на химзаводе и практически выполнял уже работу техника-прибориста. Там же я и остался – прибористом участка на 120 рублей в месяц. И, может быть, так ничего и не произошло бы со мною… никогда и ничего. Ну, наверное, со временем кончил бы институт, стал бы зарабатывать чуть больше. Или – не стал бы. А дальше-то что?
Спасла меня от этой рутины аллергия к каким-то химическим соединениям. Представляете – химический завод, сотни километров труб, и почти из каждой – то какая-то «химия» просачивается, то пар хлещет. Нанюхаешься за смену сероводорода – жить не хочется! А мои напарники, безалаберные пацаны – покрутятся, в карты поиграют, пошатаются по помещениям – глядишь, день прошел. Надоело, словом, мне за 120 рублей гробить свое здоровье… А, главное, понимал я – тупик. Ну, женился бы, детей нарожал… А впереди – ничего не светит. Ничего! Чувствовал – прозябаем мы, как слепые, не подозревая о том, что творится в мире, чем живут другие.
Не хотел, в общем, я для себя такой судьбы – провести всю жизнь среди этих людей, для которых кроме водки нет ничего значимее. Найти бы, – думал я, – дело, которое и заработок приносило бы приличный, и дало бы возможность лучше узнать жизнь…
* * *
Был у меня друг, Саша Рассейкин, сосед по дому, где я жил. Он к тому времени успел отслужить на Балтийском флоте и, казалось, обладал каким-то неизвестным мне еще жизненным опытом. Вот он-то меня и надоумил:
– Тебе, – говорил он, – стоило бы попробовать устроиться на один из гражданских пароходов. Зарабатывают там прилично, загранпоездки случаются. Это, наверное, то, что ты ищешь.
– А как это сделать-то? – спрашивал я его.
– Ну, поехал бы я с тобой, да жена вот второго ребенка ждет… А хотелось бы…
Жена его как-то узнала о нашем разговоре – такую трепку ему закатила, что он вообще перестал со мной эту тему затрагивать. И тогда я решил ехать сам. Мать и младшая сестренка пытались меня отговаривать, но решение я принял. И обещал им только, что, заработав денег, вернусь обязательно. Женюсь, мол, детей заведу – но сначала попробую себя на море. Вот так, до сих пор возвращаюсь… Рассчитался я на заводе – тогда это можно было сделать за месяц, сейчас, говорят, много сложнее. Начал свою попытку с латвийского города Лиепая, как посоветовал мне Саша.

Беглецы Валерий Полянин, Михаил Чернов и Олег Емельянов в редакции лос-анджелесского еженедельника «Панорама». 1986 г.
– Надо сказать, работа в цирке мне понравилась, – продолжал Чернов. – Платили 130 рублей в месяц, квартира бесплатная. Выезжаем куда-нибудь на гастроли, развертываем шапито – цирк под сборным куполом – подтаскиваем артистам реквизит, убираем за ними арену – вот и вся работа. Наконец, в августе 80-го, приехали мы в Калининград. И я уволился из цирка – работу следовало искать где-то здесь…
* * *
Много, ой как много Чернову предстояло еще узнать… Ну, а пока надо было как-то устраиваться, желательно, – ближе к морю. А как? Не было знакомых в пароходстве, не с кем было просто посоветоваться – не говоря уже о том, чтобы составить протекцию.
Однажды, слоняясь в районе порта, он прочел объявление. Наклеено оно было прямо на облупившуюся штукатурку стены какого-то здания: Калининградскому морскому торговому порту требуются грузчики, такелажники, механизаторы… В этом же объявлении обещалась характеристика для загранплавания на торговых судах – тем, кто проработает по контракту два года. И 40 рублей безвозвратного пособия, получив которое, нанявшийся уже просто не мог уволиться раньше, чем через эти два года (в объявлении, правда, это условие не упоминалось, о нем узнавали только подписывая контракт).
– Похоже, то, что надо, – решил Чернов.
Зарплату сулили неплохую – до 300 рублей в месяц. А главное – возникала какая-то перспектива. И 9 сентября 80-го года Чернов, облаченный в выданную ему спецодежду, уже стоял у распахнутых дверей грузового трюма на судне, привезшем из ГДР замороженные свиные туши, которые предстояло перегрузить в железнодорожный вагон. Бригада разделилась – четверо, спустившись в трюм судна, укладывали в капроновый трал девяностокилограммовые туши, подъемный кран переносил груз в вагон, где Чернов и его напарник крючьями растаскивали их и укладывали – сначала на пол вагона, а затем слоями, друг на друга.
К исходу второго часа работы Чернов почувствовал усталость. А когда вагон был наполовину полон, у него уже плыли перед глазами радужные круги. Ноги стали тяжелыми, будто обвешанные пудовыми гирями. Он с трудом отошел от трала, принесшего очередную махину груза, прислонился к стене вагона. И почти сразу услышал бригадира, орущего ему сверху:
– Слышь, ты, молодой! Деньги приехал зарабатывать? Работай, черт тебя дери!
Кто-то из ребят сжалился над новичком – принес ему стакан холодной воды. Передохнув минуту, он зацепил крюком очередную тушу. Наконец, вагон вроде бы стал полон. Тыльной стороной рукавицы Чернов размазал пот и грязь по лицу, присел на оставленную кем-то рядом, неподалеку, грузовую тележку. Неожиданно раздался голос напарника:
– Эй, держи тушу за ногу!
Пришлось снова подняться, превозмогая дикую, налившую ноги чугуном, усталость. Сам напарник взялся за другую половину туши, и, раскачав, они забросили ее вглубь вагона – поверх остальных. Грузчики, успевшие закончить работу получасом раньше, собрались рядом и весело подбадривали:
– Валяй, кидай дальше, больше заработаешь!
Кончался первый день работы Чернова в порту.
Наступал новый этап его жизни.
* * *
Прошло три месяца. Чернов окреп, работать стало легче, смены завершались вроде бы быстрее. Но зато каждую ночь, едва он закрывал глаза, ему мерещились пароходы, стоящие под разгрузкой, кран, туши… потерявшие человеческий облик лица грузчиков, их огромные ручищи, покрытые несмываемой грязью, оскаленные рты, исторгающие запах алкогольного перегара. «Выдержу ли я эти два года?» – все чаще задавал он себе вопрос.
Однажды, во время перекура, Чернов обратился к одному из грузчиков, с которым у него вроде бы установились если не дружеские, то вполне доверительные отношения:
– Ну, ладно, отмучаюсь я положенный срок… Но начальство ведь не обманет, даст характеристику для загранплавания?
– Ты что, с ума сошел, парень? – рассмеялся собеседник.
– На моей памяти никто еще отсюда не ушел с хорошей характеристикой. Никто. Ты же видишь, как мы работаем. Люди зверьми становятся. Или калеками…
Он был прав. Только за то время, что Чернов успел здесь отработать, и только на его глазах произошло восемь несчастных случаев. Два из них закончились гибелью такелажников. Чего же удивляться, если люди, отработав смену в диких условиях, теряли человеческий облик – напивались до одурения, устраивали дебоши, обычно кончавшиеся отделением милиции. А то и тюрьмой.
Чернов:
– Прошло еще пару месяцев. Однажды к нам в бригаду направили четырех новичков, только что прибывших из разных концов России. Все они приехали сюда с теми же намерениями, что были у меня – рассчитывали попасть в море. На следующий день я и мой напарник Толя Лазарев разгружали вагон с цементом. Новички работали с нами. Мы вытаскивали из вагона мешки, при малейшем к ним прикосновении рассеивающие вокруг себя облака едкой пыли, укладывали их на поддон, который переносился краном в трюмы парохода, направлявшегося, как помню, на Кубу.
В каждом вагоне было 1800 мешков, в каждом мешке – 50 килограммов цемента. Обливаясь потом, мы вытаскивали их наружу. Цементная пыль забивала рот, ноздри, – выданные нам респираторы были неисправны, после первых же минут работы мы отбросили их в сторону. Свою половину вагона мы кончили раньше новичков и, жадно глотая воздух, вылезли на платформу.
Неожиданно работа в вагоне прекратилась. Заглянув вовнутрь, мы увидели одного из ребят корчившимся на пыльных мешках. Его рвало, его буквально выворачивало наизнанку. Мы вытащили парнишку из вагона, усадили на пирсе. Когда он пришел в себя, мы оставили его и снова вошли в вагон, чтобы помочь оставшимся завершить разгрузку. А к вечеру, вернувшись в общежитие, я сел за столик и, почти не задумываясь, написал заявление об увольнении.
В отделе кадров, куда я принес его, пришлось ждать – впереди было несколько человек, составлявших недлинную очередь – минут, может быть, на двадцать. Стульев свободных, однако, не было, и я присел на край стола, стоявшего в приемной недалеко от входной двери. И впервые обратил внимание на его поверхность: она была буквально испещрена надписями, нанесенными чернилами и даже вырезанными перочинным ножом. Смысл этой графики сводился, примерно, к следующему: «Ребята, не будьте дураками, бегите отсюда!»
Ну почему, почему я не обратил внимания на этот стол в тот день, когда пришел наниматься на работу в порт?..
Непросто, ох как непросто советскому человеку стать «выездным» – иначе говоря, получить право «на законном основании» пересекать государственную границу. И статус моряка загранплавания не только не исключение из этого правила, но прямое ему подтверждение. В нормальных обстоятельствах кандидату на какую-либо должность необходимо обладать определенными качествами – быть таким-то и таким-то, иметь то-то и то-то…
Здесь же все наоборот: стремящийся стать советским моряком загранплавания должен НЕ обладать рядом достоинств. Например, он не должен иметь высшего или среднего специального образования. Не должен отличаться какими-то особыми талантами, выделяющими его из безликой массы корабельной команды. Не должен иметь родственников, живущих за границей. При этом он, разумеется, не должен иметь судимостей, а характеристика, выданная ему береговыми властями, должна быть безукоризненной.
Хотя и она не всегда поможет: выпускник Ленинградского, к примеру, института, приехавший даже по направлению в Калининградскую флотилию (здесь речь идет, разумеется, не о рядовом матросе – на том же рыболовном траулере немало профессий, требующих специального образования), практически не имеет шансов быть в нее зачисленным: нужна местная характеристика. А для того, чтобы ее получить, нужно устроиться работать здесь же, предпочтительно – поближе к порту. В принципе, это возможно, но… нужна местная прописка. Которую, конечно же, нельзя получить, не устроившись на работу.
Чернову удалось каким-то образом – признаемся, не вполне легальным – обойти эти препоны… Он до сих пор хорошо помнит, как стоял перед партийной комиссией Калининградской базы тралового флота по стойке смирно, а разместившиеся за столом пытливо допрашивали его – сколько мест работы успел он сменить, чем любит он заниматься в свободное время, сколько лет состоит в комсомоле…
Через это следовало пройти, Чернов знал это и был к этому готов. Как и к тому, что, даже при самом благополучном исходе, заграничную визу ему могут выдать лишь через год. А то и через все полтора – в зависимости от того, потребна ли в настоящее время рабочая сила в пароходстве, или она в избытке. В летнее время людей, как правило, не хватает, поскольку многие в отпусках – глядишь, и спустя месяц после этой комиссии ты уже в море. Ну, а зимой… зимой будешь ты болтаться в порту многими неделями, месяцами, пока обнаружится вакансия, и о тебе вспомнят в отделе кадров. Или – не вспомнят…
* * *
Настал 82-й год – год первого рейса Чернова. 22 июня группа моряков вылетела на Канарские острова, чтобы подменить экипаж судна, стоявшего там на приколе в порту. Был это так называемый БМРТ – большой морозильный рыболовный траулер под названием «ГРАНАТ». Почему-то все подобные суда традиционно называют именами драгоценных или полудрагоценных камней. «ТОПАЗ», например… или «САПФИР».
Обычно корабли эти находятся в море полгода. И если по истечении этого периода регистр его еще не истек, судно направляется в ближайшую иностранную гавань – чаще всего в африканский порт Дакар. Или на Канарские острова, в порт Лас-Палмас, где его поджидает специальная советская ремонтная бригада. Здесь проверяются основные системы корабля, его главный двигатель, электрика, перематываются электромоторы. Потом наводят косметику – красят, полируют металлические части.
Чернов:
– Для меня этот рейс явился каким-то чудом. Начиная с момента, когда была открыта заграничная виза, жизнь моя буквально преобразилась. Представляете – прилетаем в Шереметьевский международный аэропорт, кругом иностранцы, валютные киоски, бары… Советские паспорта мы перед вылетом сдали в паспортный отдел Калининградского морского порта, получив взамен специальные мореходные – их называют «паспорт моряка».
Ну, еще дают свидетельство о вакцинации – т. е. о том, что тебе сделаны уколы от желтой лихорадки и т. п. Это – требование международное. И, говорят, не напрасное: есть в некоторых африканских районах мушка, которая, садясь на кожу и прокалывая ее жалом, запускает в кровь человека личинки червячков. И если вовремя не принять меры, эти червячки вырастают, пробивают стенки сосудов, выходят наружу через кожу… Тогда смертельный исход почти гарантирован. Да и желтая лихорадка – тоже не подарок. Вакцина эта французская, из чего можно предположить, что подобные прививки делают и морякам других стран.
Летели мы до Канарских островов часов восемь. Вышли из самолета – и попали в пекло. Солнце стояло в самом зените, на горизонте – горы, почти полностью лишенные растительности. Усадили нас в автобус, чемоданы погрузили в автомобиль. Здесь я впервые заметил, что испанцы любят быструю езду не меньше русских. А может, даже больше…
Автобус несся с сумасшедшей скоростью по узкой трассе, зажатой с одной стороны нескончаемой вереницей небоскребов, а с другой – морем, подступавшим почти к самому шоссе. Казалось, у первого же поворота автобус врежется в барьер, отгораживающий трассу, и все мы полетим в тартарары. И, несмотря на то, что водитель сразу же включил приятную стереофоническую музыку, чувствовали мы себя не очень спокойно… Даже те, кто не первый раз попал на Канарские острова.
Пароход, который мы должны были ремонтировать, стоял в сухом доке – у него нашли что-то неладное с корпусом, и он не мог оставаться на плаву. Эту работу – заварку повреждений – взялись делать испанцы: наша «подменка» управиться не могла: то ли не было нужной аппаратуры, то ли квалификации не хватало… В общем, простояли мы полторы недели.
Когда ремонт закончили, к пароходу подсоединили два троса, и тракторы стянули его вместе с многоколесной тачанкой, на которой он был установлен, по рельсовой дороге на другую линию. Там тракторы разделились – один зацепил его с кормы, второй с бака – и потащили судно уже в другом направлении, задвинули на платформу, и та вместе со своей чудовищного веса ношей погрузилась в воду. Опускали ее, кажется, восемьдесят лебедок… Очень интересная технология, в наших портах я такого не видал.
Есть и у нас плавучие доки, только на них работа идет куда медленнее…
В конце концов привели все в порядок и спустя неделю взяли курс на Гвинею-Биссау. Предстоял лов рыбы со странным названием «курок» – один из ее плавников, действительно, напоминает курок пистолета и согнуть его нельзя, не сгибая одновременно другой. Рыбу эту обычно скармливают пушному зверю, человек ее есть не может. Так я думал раньше. А потом обнаружил этот самый курок на прилавках калининградских магазинов – по 90 копеек за килограмм.
Зубы у этой рыбы – как у крысы, и главный корм ее – мальки и икра других видов морских обитателей. Словом, беда для районов рыболовства. Вот наши и заключили договор на ее отлов… вроде бы для очистки моря. Помню, первый трал еле вытащили – было в нем тонн пятьдесят, не меньше. Развязали его, стали спускать содержимое в люки рыбообрабатывающего цеха – а оно не идет. Ломами пришлось разбивать груды, в которые сбилась эта маленькая хищница.
Простояли мы там на рейде дней пять. Вспоминать не хочется, какие это были дни. И ночи тоже. Жара стояла невероятная, небо плавилось. Спать в трюмах было невозможно – устроили на палубах палаточный городок, на баке. Каюты на БМРТ не кондиционированы, есть кондиционеры только на кораблях, построенных в ГДР. А эта модель – наша… Правда, в последние годы некоторые советские суда тоже стали делать с охлаждаемыми помещениями, но они во многом уступают гэдээровским – сейчас, говорят, несколько таких судов ловят тунца в районе Сьерра-Леоне.
Всего в этом рейсе мы провели месяца два. И где-то к середине августа вдруг выяснилось, что денежный план трещит по всем швам: рыбы вроде много наловили, но вся она дешевая. Поясню, в чем дело: судну типа нашего за полгода положено выловить две с половиной тысячи тонн – это при его вместимости пятьсот тонн. И после каждых пятисот тонн – надо возвращаться в порт, сдать улов. Или перегрузить его на плавучую базу, которая заберет замороженную в наших цехах рыбу.
Когда ловится рыба крупная – вроде скумбрии или ставриды – все проще: разделка ее идет быстрее. Вот проходит она через машину, которая отделяет мясо от костей: пролетает через нее рыбина, как через пушку, только слышишь – пуф, пуф! – кость вылетает в сторону, две половинки тушки – вниз… Так машина и называется – филейная пушка. Допотопная, очень капризная – чуть расстроилась, кость идет вместе с мясом, брак, словом. Для каждого сорта и размера рыбы – специальная настройка.
Так вот, если рыба «дорогая», то есть легкая в обработке, крупная – можно выколотить максимум 3200 рублей за полугодовой рейс. Это – потолок. Раньше получали и до четырех тысяч – когда не было постановления о рыбных экономических зонах. Заходили в любую зону, берег видно – а рыба-то обычно ловится ближе к берегу – запускали трал, уловы были превосходные, рыба крупная. А с шестидесятых годов были установлены двухсотмильные промысловые зоны – во всех странах, где есть рыбный промысел.
Чтобы ловить в самой зоне, нужно купить разрешение – значит, платить золотом. Ну, а наши на это идут неохотно. За пределами же зон рыбы куда меньше… Морякам кое-какую валюту в рейсе выплачивают – до 7 процентов от заработка, если заходим в иностранные порты. Ну, а что такое 70 долларов, которые составляют эти 7 процентов? Правда, в перуанской, например, валюте, – это больше миллиона солей. А на Канарских островах – десять тысяч песет. Только все равно – копейки для моряка, который и сам стремится приодеться, и домой что-то близким привезти…
* * *
К началу третьего месяца этого рейса на «Гранате» вышли из строя холодильные камеры. Рыбные брикеты стали разваливаться – температура в хранилищах поднялась выше допустимой. Капитан послал запрос на базу – просил разрешения поменять район промысла. И «Гранату» изменили маршрут, отправив судно на север в район острова Шпицберген, в норвежскую зону. Шли туда восемнадцать дней с заходом на Канарские острова, но уже в Санта-Крус. Перед выходом на берег матросам выдали по 50 валютных рублей – те самые 70 долларов. Они же – 10 тысяч песет…
В тот раз Чернов впервые увидел Запад – разумеется, «Запад» в понимании советского человека, очутившегося на территории другого государства. Все – и рядовые матросы, и начальство, были в приподнятом настроении – возбуждала возможность хоть мельком, хоть краем глаза заглянуть за железный занавес, прочно отгородивший их родину от всего остального мира. Даже те, кто не в первый раз готовился спуститься на чужую землю.
– Чужую, – рассуждал про себя Чернов, – но почему «чужую»? Ведь земля-то у всех людей одна, кто же сделал ее для нас чужой?
Наверное, схожие мысли навещали тогда не только Чернова… Однако, мысли – мыслями, но подобная возможность предоставлялась матросам не чаще, чем раз в полгода. Да еще не всегда – с валютой в кармане! Правда, и без нее дорожат советские матросы этой возможностью – хоть на витрины удастся поглазеть…
Чернов:
– Молодежь в тот раз вообще чуть ли не с ума сходила – бегают, «ура!» кричат… Словом, праздник на судне.
Зашли мы в порт Санта-Крус, пройдя мимо берега Западной Сахары. В отличие от Лас-Палмас, где судно к берегу не может подойти, а команда снимается с него катерами, здесь мы вошли прямо в порт и встали у пирса. Вышел я на палубу – вижу всю команду, столпившуюся у трапа. Город, окутанный дымкой, вдали – горы, покрытые вроде бы лишайниками. Пальмы вдоль берега… Привезли из банка валюту, заказанную нашим капитаном.
А кроме доставившей нам валюту, выстроилось у причала еще машин сорок. Не понял я сначала, в чем дело. Слышу, кричат с берега – руссо, бронза давай, баббит давай! Медь давай, русски деньги давай! Ченьж давай! Появился наш замполит, стал прохаживаться вдоль борта, следя за тем, чтобы никто из команды, и правда, не вздумал бы вступить в коммерческие связи с туземцами, нарушив тем самым раз и навсегда установленную государственную монополию на внешнеторговые связи.
Ну, а все, что могло бы быть обменяно или продано, было предварительно убрано, спрятано и наглухо заперто надежными замками. Цветные металлы, например, которые там очень высоко ценятся. Или – рыбная мука: мешок ее стоит на берегу 500 песет, доллара три с половиной. Однако ухитряются наши морячки и муку припрятать, и баббит – сплав, идущий на изготовление подшипников, и бронзу. Ну, я-то был в первом рейсе и решил не связываться с этим, А другие ребята сумели-таки провернуть свой скромный бизнес, в чем я потом убедился, заметив их повышенную активность в портовых магазинчиках.
Экипаж разбили на две группы – одна должна была сойти на берег в первый день стоянки, другая – во второй.
Интересно отметить, что только на Канарских островах наши матросы чувствуют себя на берегу более или менее вольготно: даже при наличии старшего группы и заведомо известных стукачей в составе ее, контроль за нами здесь не такой жестокий, как в Перу, например, или других портах Южной Америки: там нас запугивают портовыми ворами (и они действительно есть), возможностью антисоветских провокаций (чего я ни разу не встретил, если не считать ими довольно большое количество литературы, изданной за рубежом на русском языке – она, правда, и на Канарах попадается).
И вот идем мы по городу, магазины – один на другом громоздятся, товары – такие, что многие из нас в жизни не видели, да и не подозревали, что они вообще существуют. Старший группы – и тот растерялся: «Ребята, – кричит, – не подведите только!» Куда там: один устремился в радиомагазин, другой – в обувной. Поди уследи за ними. Правда, «следящий» и сам почти сразу забыл о своих обязанностях, предавшись общему азарту.
Кто-то джинсы выбирает – чтобы разрисованные, чтобы больше этикеток на них висело, чтобы были на замках и с вытканным сзади парнем с бичом, погоняющим быков. Рубашки с рисунком… Ну и прочее – все с мыслью, чтобы дешевле заплатить и больше купить. Ну, а потом, по возвращении – продать подороже. И когда основная задача выполнена, на оставшиеся деньги покупается водка. Много водки – благо она дешевая, особенно местных сортов. Все это доставляется на палубу, где вскоре начинается «активный отдых». Потом судно отчаливает, и снова впереди – долгие корабельные будни.
* * *
Наше судно направилось по предписанному маршруту – на север. Там мы и оставались последующие месяцы, добывая мойву. Корабельные будни, как правило, заполнены рутинной работой, иногда тяжелой чрезмерно, иногда не очень. А в промежутках между сменами моряки развлекаются, как могут. Кто книжки читает, кто картишками балуется. А кто и выпивает… начальство на это смотрит обычно сквозь пальцы – во всяком случае до той поры, пока у тебя нет на борту недругов, пока никому из экипажа ты не перешел дорогу. Главное – чтобы не на глазах у комсостава, не провоцировать их, так сказать. Нет водки – бражку моряки варят потихоньку, а то и одеколоном балуются.
Я служил электромехаником и при желании мог бы пользоваться большей свободой во внутрикорабельной жизни, чем другие группы экипажа. Доставалось, правда, и мне нередко – когда в электрооборудование машин, обрабатывающих рыбу, попадала соленая вода, когда электроконтакты покрывались наростом ржавчины, когда замыкало моторы…
Иногда, если улов был особо крупный, вызывали в помощь обработчикам – на подвахту. То есть четыре часа отстоишь на основном дежурстве, четыре – на этой подвахте, помогаешь разделывать рыбу, с которой не справляются матросы. Сейчас, правда, это случается не часто – рыбы мало стало…
План «по рыбе» нам здесь изменили – так всегда происходит, когда меняется зона лова. Увеличили его, но рыба ловилась хорошо, и мы надеялись, что денежные дела поправятся. Однако не все шло так, как мы рассчитывали – плавбазы, на которые перегружается рыба, приходили реже, чем следовало бы. А однажды случилась авария – нейлоновый швартовый канат во время перегрузки рыбы намотался на винт. Стали мы его лебедкой выдирать оттуда – погнули винт, пароход задрожал, как в лихорадке. Вызвали спасателей, у Шпицбергена в спокойном заливе освободили наш винт, а потом целую неделю выпрямляли его лопасть.