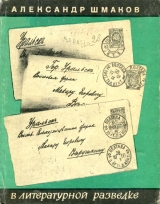
Текст книги "В литературной разведке"
Автор книги: Александр Шмаков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
«ПОЭМА О ТОПОРЕ» И «СТРОЙФРОНТ»
«Поэма о топоре» Николая Погодина для начала 30-х годов была значительным явлением в советской драматургии. Это одна из первых пьес, рассказывающих о жизни заводского коллектива. Она как бы открыла в драматургии новую страницу, связанную с показом в театре созидательного труда советских людей.
Вслед за «Поэмой о топоре» Н. Погодина о жизни рабочих Урала, появилась пьеса «Стройфронт» А. Завалишина. В той и другой пьесах нарисованы образы вдохновенных тружеников – рядовых рабочих, показаны трудовые будни металлистов на Златоустовском заводе имени Ленина и строителей плотины на реке Урал для Магнитогорского металлургического комбината.
В пьесах совершенно точно обозначены места действий. Если внимательно проанализировать их содержание, то нетрудно будет установить прообразы героев и конкретные факты, легшие в основу драматургических конфликтов. Н. Погодин и А. Завалишин увлечены огромнейшей перспективой, открывающейся перед Уралом в годы первой пятилетки. Н. Погодин на Златоустовском заводе. А. Завалишин на Магнитострое увидели процесс коллективного труда, помогающий формировать сознание рабочего человека, и им захотелось воспеть его.
Как раз в те годы на Златоустовском заводе имени Ленина происходили события, к которым было приковано внимание всей страны. Внедрялась новая технология изготовления топора – самого простого орудия массового предназначения. Это была в те годы весьма важная хозяйственная задача.
Н. Погодин, побывав на Урале как журналист – корреспондент «Правды», ознакомился с работой завода. В газете появились его очерки, рассказывающие о важности дела, начатого на заводе имени Ленина. Первый очерк был опубликован в «Правде» 27 сентября 1927 года под названием «Юж-Урал». Затем появились и другие очерки, имевшие подзаголовки: «Третий рудник мира», «Горящий камень», «Чудесный порошок» и «Бакальская руда», рассказывающие о магнезитовом производстве и железных рудниках Бакала. Продолжением очерков «Юж-Урала» были «Пушки», «У расплавленного металла», показывающие труд рабочих механического и металлургического заводов Златоуста.
В очерках, написанных с журналистской оперативностью, рисовалась не только картина производства, показывался трудовой героизм рабочих, раскрывался быт, делалась попытка дать портреты конкретных живых людей – инженера, мастера, сталевара. В журналисте Погодине уже угадывался будущий драматург, по образному выражению М. Горького – «человек, способный к писательству, с хорошим зорким глазом и с хорошим сердцем»{94}.
Вскоре Н. Погодин возвращается к опубликованным в «Правде» зарисовкам и создает цельные очерки «Юж-Урал» и «Поэма стальная» с более рельефной обрисовкой характера своих героев – мастера Ногина и сталевара Крутицкого. Он полнее раскрывает в них ростки нового человека, коммунистическое отношение к труду. Эти яркие страницы, отражающие создание советской индустрии на Урале, потом войдут живыми картинами-сценками в «Поэму о топоре» – произведении, показывающему, как в процессе преодоления технических трудностей воспитывался и мужал советский рабочий Урала.
Уже в очерках бросалась в глаза лаконичность и предельная сжатость описания, характерные для драматурга.
«У дверей, откуда вывозят топоры, нас встретил очень способный вождь златоустовских точильщиков. Он нежно, как будто брал в руки белое перо страуса, подал мне голубоватый теплый топор, молча указал на железные полосы и предложил рубить.
Я ударил.
Мастер усмехнулся снисходительно, как факир: засучил рукава, рука его с топором свистнула в воздухе, и завыла железная полоса под чудовищным ударом. Мастер ловко обернул топор острием вверх – оно было так же ровно, так же остро.
Поглядев на нас, мастер ушел, не оборачиваясь.
– Добились своего ребята, – сказал директор».
Или еще одно место из очерка.
«Года два назад рабочий как-то попросил мастера мартеновского цеха Крутицкого:
– Крутицкий, свари мне сталь, чтобы не ржавела. Клещи мне надо. А то вон в чанах, где окисляем сталь, клещи быстро портятся. Беда!»{95}
Молодому мастеру эта мысль понравилась. Он сварил такую сталь, не думая, что совершил важное открытие, а потом забыл способ ее приготовления и долго затем мучился в поисках «секрета».
Этот диалог мастера Крутицкого с рабочим и мучительные поиски «секрета» целиком были перенесены Погодиным в пьесу «Поэма о топоре». Так, скромные труженики своими руками создающие новую жизнь, стали героями «Поэмы о топоре».
Очерковый стиль был характерен и для пьесы «Стройфронт». Это было неудивительно. Ведь А. Завалишин так же, как Погодин, был журналистом.
Прежде чем написать пьесу о строителях плотины, на страницах газеты «Магнитогорский рабочий» публиковались очерки и фельетоны, в которых рассматривались конфликты, послужившие основой для пьесы «Стройфронт».
И, если Н. Погодин называет первую пьесу «Темп», а следом за ней появившуюся «Поэму о топоре» – «сценическим очерком со всеми особенностями очерка»{96}, то А. Завалишин свой «Стройфронт» определяет как «драматический плакат в трех действиях»{97}, подчеркнув, видимо, этим самым жанровые особенности письма – документальность и очеркизм.
Обе пьесы – «Поэма о топоре» и «Стройфронт» – были поставлены Театром революции, примерно с годовым интервалом.
Таким образом, эти две пьесы сближало и роднило не только то, что они были созданы на уральском материале, увидели свет рампы одного и того же театра, но и авторский почерк – сценическая очерковость. Это был тогда один из наиболее верных путей сближения литературы и жизни, показа созидательного труда, определивший их успех у зрителей.
Пьеса «Стройфронт» была поставлена Магнитогорским драматическим театром к 50-летию Советской власти. Спустя 37 лет романтика и пафос гигантской стройки оказались созвучны нашим дням. «Поэма о топоре» больше не возвращалась на сцену, тем не менее – значительное и важное произведение в драматургии Н. Погодина никогда не утратит своего значения как пьеса, правдиво рисующая картины уральской заводской жизни. Пьеса начинается с чтения перед занавесом газетного очерка.
«За горой Таганай, между сопками, над прудом, как на пятаке, расположен главный город Южного Урала – Златоуст… От крепостных плавильщиков, кузнецов, слесарей, от крепостного народа и до сей поры, от поколения к поколению передается высокий опыт златоустовских мастеров… Поэтому на весь мир златоустовские мастера сделали единственную булатную сталь…»{98}

Н. Медведев, главный режиссер Челябинского драмтеатра и Н. Погодин.
Это пролог пьесы. Здесь все точно, верно, как и картина нарисованного рабочего города, видимого с Александровской сопки. Погодинская фотографичность в описании места действия пьесы понадобилась для того, чтобы убедить зрителей, смотрите, все это не выдумка, а жизнь, правда жизни!
«Ты видишь своими глазами, что самое существенное для людей – это печи, пламя, станки, металлы, завод, – продолжает читать ведущий, – ты вдруг начинаешь понимать, что тут начало и конец всему, и если однажды в стране остынут ее печи, возникнут ужас, голод, мор. И дальше и выше ты видишь, что люди, хозяйствующие у печей, по единственно справедливому праву, по великому праву, утверждают, что владыкой мира будет труд»{99}.
Пролог кончается, начинаются эпизоды. В центре пьесы – мастер мартеновского цеха Степан, который «на спор», за пару пива отливает клещи из нержавеющей стали. Клещи теряются. Степан забывает состав плавки, ее метод. Чуть позднее, когда до сознания его доходит значительность утраченного секрета, Степан решает вновь отлить нержавеющую сталь. 26 плавок не отходит он от печи. После 16-й плавки кажется, что нужная сталь найдена, но она рассыпается, как хрусталь под ударами молота. Степан не оставляет свой поиск и, наконец, после 26-й плавки, когда усталость сваливает его окончательно, он угадывает рецепт, выдает плавку нержавеющей стали.
Одновременно с этим основным конфликтом, позволяющим нарисовать сильный характер, упорного в достижении цели Степана, драматург развивает вторую сюжетную нить пьесы – сложность реконструкции цеха и его оборудования, дающего возможность резко поднять производство топоров, и тем самым избавиться от необходимости ввозить топоры из-за рубежа.
И вот в девятом эпизоде, как в прологе, снова перед зрительным залом появляется ведущий. Он, как бы обобщая все показанное на сцене, говорит:
«– Не ради театральной эффективности мы вынесли действие в зрительный зал. Мы выносили его дальше и шире, в фойе нашего театра. Мы стремились дать на сцене живую действительность, подлинную быль, подлинную героику эпохи. Замечательная история с топором, когда в борьбе с иностранной зависимостью рабочие реконструировали производство, героическая история открытия советской нержавеющей стали в действительности происходит на заводе Южного Урала в городе Златоусте. Не бутафорские вещи показывает вам участник спектакля. И в фойе театра мы приглашаем вас, зрителей, осмотреть выставку уральского завода имени Ленина»{100}.
«Поэма о топоре» – это поэма о талантливости русского народа, побеждающего своим созидательным трудом, своим творчеством вековую отсталость, борющегося со своей технической неграмотностью. И в этом было ее огромное значение.
Когда пьеса была представлена в Театр революции, началась ее сценическая доработка. А. Попов, народный артист СССР, режиссер, рассказывает интереснейшие подробности подготовки «Поэмы о топоре» в театре. Постановщику спектакля захотелось «увидеть пьесу в жизни». С этой целью он, Погодин, художник театра И. Шлепянов выехали в Златоуст и решили «пожить в атмосфере завода, среди прототипов будущего спектакля».
«Драматург на месте, то есть в Златоусте, дорабатывал пьесу, художник изучал завод, искал принцип и образ будущего оформления, а я всматривался в людей, – пишет А. Попов, – ежедневно совершающих высокие трудовые подвиги, улавливая атмосферу в старых заводских корпусах, хранивших следы екатерининского времени, в корпусах, где сейчас бились сердца советских энтузиастов, слушал музыку заводского грохота, всматривался в характеры уральских металлургов, запоминал «массовые мизансцены», каких никогда не увидишь в театре, смотрел плавки знаменитых сталеваров и артистическую работу кузнецов, орудующих у механического молота»{101}.
Ведущий в прологе пьесы верно заметил, что
«теперь, в наши дни, высокое мастерство златоустовских пролетариев обрело иное содержание. Простые вещи теперь не так просты, как можно думать о них. И в примерах простых дел златоустовского или какого-нибудь другого завода вы без особого труда раскроете международные проблемы»{102}.
С тех пор как были написаны эти слова Николаем Погодиным, рабочие и инженеры завода имени Ленина ушли далеко, сделали большой шаг вперед по пути технического прогресса. Но «Поэма о топоре» не устарела – она славит созидательный труд советских людей, как славит труд строителей магнитогорской плотины А. Завалишин в пьесе «Стройфронт».
ГЛАЗАМИ ДРУЗЕЙ
1. Джерманетто в Челябинске
Джованни Джерманетто побывал на Урале с бригадой агитсамолета «Крокодил» в начале октября 1938 года. Известный антифашистский писатель, представитель ЦК МОПРа в СССР, он выступал с докладами перед рабочими Челябинска и Копейска, был на строительстве завода имени Серго Орджоникидзе, встретился с рабкорами, журналистами и литературным активом города.
Выступая с докладами, Дж. Джерманетто рассказывал о подпольной деятельности своей компартии, положении трудящихся в Италии, капиталистической печати, которая публикует материалы, дающие превратное представление о СССР.
– За последние 16 лет в Италии не было поставлено ни одной новой оперы, – говорил он. – Число книг, выходящих там, за десять лет уменьшилось вдвое. Обычный тираж книги в Италии не превышает 500, 1000 экземпляров. Как мизерен этот тираж в сравнении с десятитысячными тиражами книг в Советском Союзе!{103}
Коммунист с момента основания итальянской компартии, он был уже известен советским читателям как автор повести «Записки цирюльника», изданной в СССР в 1930 году, позднее переведенной на немецкий, английский и испанский языки. Эта повесть о судьбах итальянского рабочего класса в начале двадцатых годов, об истории создания итальянской компартии. Имя ее автора сразу стало популярным.
Дж. Джерманетто активно сотрудничал в итальянской и советской печати. Его статьи и очерки часто публиковались в газетах «Правда» и «Труд». Он писал, в основном, о рабочем движении.
Дж. Джерманетто был участником многих международных встреч, делегатом нескольких конгрессов Коминтерна, не раз находился под судом за свои политические убеждения, за острые печатные выступления. Многочисленные преследования со стороны властей, заключение в тюрьму, угроза новых арестов, заставили его эмигрировать.
Наша страна стала для него – итальянского писателя-антифашиста второй родиной. Он сравнительно быстро освоил русский язык и свободно выступал с докладами в разных аудиториях, подолгу беседовал с рабочими на заводах и стройках{104}.
Записей выступлений Дж. Джерманетто не сохранилось кроме кратких газетных сообщений о том, где он выступал, с кем встречался в дни своего приезда на Урал. О впечатлениях, какие произвели индустриальные города на писателя, можно судить лишь по небольшой заметке, опубликованной в газете «Челябинский рабочий».
«Из окна самолета, когда посмотришь вниз, кажется, что СССР – это одна громадная бесконечная стройка. Я был в Карелии и в Армении, в БССР и на Украине, в Ленинграде и в Поволжье, в больших городах и деревнях – всюду картина одна и та же».
Такой видел нашу страну итальянский писатель-коммунист. Челябинск не был исключением на обширной географической карте нашей Родины.
«Челябинск! Первое впечатление. Мне кажется, что Челябинск с самолета похож на огромное поле сражения, – делился он впечатлениями с читателями «Челябинского рабочего», – окопы, фортификации, крепости. И, действительно, это так – поле сражения между старым и новым миром. И видно ясно, что победа принадлежит новому миру. Вокруг главной крепости – ЧТЗ и других гигантов социалистической индустрии – армия нового мира имеет уже все лучшие позиции. Леса новых строек, дымящиеся трубы и снова новые стройки»{105}.
Дж. Джерманетто пытался осмыслить масштабность и значение развернувшегося строительства в советской стране. Обобщая частные факты, увиденные им на Урале, он убежденно писал:
«И вот все мы видим рядовой советский город Челябинск, обновленный большевиками. Ушло в прошлое то время, когда Челябинск имел 62 тысячи жителей, пару мельниц, немного кустарей, несколько жалких школ и грязь, непролазную грязь.
Октябрьская революция положила конец этой жизни. Строятся заводы, фабрики. Строятся без конца.
В Копейске, на ТЭЦ, на заводе, который носит имя дорогого Серго, на ЧТЗ, в центре города, на окраинах – всюду стройки, стройки, прекрасные, залитые асфальтом улицы, многоэтажные великолепные дома»{106}.
В годы Великой Отечественной войны Дж. Джерманетто находился в СССР, выступал как публицист, разоблачал фашистских захватчиков. В 1946 году он возвратился в Италию, чтобы продолжать революционную работу на родной земле, помогать итальянской компартии осуществлять свою благородную миссию. Пальмиро Тольятти назвал Джерманетто интернационалистом, борцом, тесно связанным с массами трудящихся, «с их жизнью, с их чаяниями и ежедневными переживаниями»{107}.
В конце своей жизни Дж. Джерманетто снова приехал в СССР для лечения. Но болезнь, давно отнимавшая силы этого неистового революционера, сломила его. Он умер в Москве осенью 1959 года. В его лице советская литература и общественность потеряла большого друга нашей страны, писателя-коммуниста, сказавшего доброе слово об Урале, его индустриальном центре – Челябинске.
2. «Поэма о Магнитострое»
Станислав Ришард Стандэ (1897—1937 гг.) – революционный поэт Польши. Он впервые появился на литературном поприще в начале двадцатых годов и выступил совместно с Владиславом Броневским – крупнейшим представителем польской революционной поэзии. В сборнике «Три залпа» они декларировали свое стремление служить поэтическим словом борьбе пролетариата за новый, справедливый, общественный строй.
Первая книжка стихов Станислава Стандэ «Молоты» вышла в 1921 году. За революционные убеждения его преследовали в панской Польше, и он вынужден был эмигрировать в СССР. В нашей стране поэт много ездил, изучал жизнь советского народа. Он побывал на юге и написал стихотворение «По дороге на Днепрострой», посетил Урал и создал «Поэму о Магнитострое». Стандэ занимался переводами на родной язык стихов Н. Асеева, Э. Багрицкого, Н. Тихонова и других поэтов.
Ныне имя польского поэта, как и его «Поэма о Магнитострое», почти забыты. А когда берешь в руки эту книгу, выпущенную в 1933 году в переводе с польского Александра Ромма, невольно переносишься в годы бурного строительства на Урале. Романтика тех лет, размах шагов саженьих широко предстают глазам читателя «Поэмы о Магнитострое».
Оригинально оформление книги. На белом поле красное заглавие, разбитое на две строки – по горизонтали и вертикали, изображение плиты с барельефом Ленина, отлитой из первого чугуна гиганта советской индустрии – Магнитогорского металлургического комбината. Уже внешний облик книги создает у читателя определенное настроение. Портреты ударников стройки с мужественными, чуть суровыми лицами, индустриальные пейзажи и фотографии, запечатлевшие бытовые моменты, разбросанные в книге, – все это зрительно дополняет картину гигантского строительства на реке Урал, придает документальность и убедительность поэтической летописи Станислава Стандэ.
Чтобы написать «Поэму о Магнитострое», мало было увидеть размах стройки, вглядеться в лица строителей запомнить в беседе с ними характерные фразы и слова, надо было еще глубоко и серьезно изучить историю края как бы представить ее в разрезе – от далекого прошлого до наших дней. И перед читателем зримо встают картины вольницы Пугачева, гулявшей по здешним степям и долинам, Урал Демидовых и Урквартов, зарево революционного пожара, полыхнувшее здесь в Октябре 1917 г., кровопролитье Дутова в гражданскую войну.
Степь пустая,
тебя разносил
буран,
на твоих угорьях
учился летать —
и стоял угрюмый,
разложистый Урал,
и стояла
гора
Атач.
Только Дутов
гулял
по степи гулевой,
штыками
железо ее
разгрызал,
да носился в степи
удалой верховой,
красный партизан{108}.
Автор сочувствует России, на которую обрушились разруху и голод. Стандэ ясно представил небывалый трудовой подъем в годы первой пятилетки, ознаменовавшейся началом строительства индустриальных гигантов

Обложка книги С. Стандэ.
Пришли эти люди со всех сторон,
с востока и запада, с севера и юга,
принесли кирку и лопату, и лом —
днем и ночью впрягаются в работу упругую.
Стальными челюстями экскаваторного рта
вгрызались они в эту девственную почву,
поделили работу: ты – здесь, ты – там.
Нашей победы – партия хочет{109}.
Глубокое проникновение в историю края помогло поэту выбрать наиболее яркие художественные детали, сделать правильные обобщения, увидеть подлинный размах и перспективу гигантской стройки у горы Атач, как огромнейшей школы перековки людей, освобождения их от груза прошлого и воспитания совершенно нового человека – строителя социализма.
Ибо вправду были трудности – да где же их нету?
Шутка ли – строительство в голой степи?..
И в бараках было тесно, и не было света,
и были в бараках грязь и клопы.
И за все приходилось отчаянно драться —
за машины, за бревна, за кирпич, за бетон, —
чтобы новая жизнь начала пробиваться
там, где прежде цари задавали тон…
Приходилось таскать на себе руками
части машин и моторов, котлов…
Только тот не дрогнул, кто тверд, как камень,
остался лишь тот, кто на все готов.
Осталось – твердое, стальное поколенье,
что успели уже выходить большевики,
да старая гвардия, чей вождь был Ленин, —
товарищи, ходившие на белых в штыки{110}.
В «Поэме о Магнитострое» вкраплены подлинные документы – цитаты из статей В. И. Ленина о разгроме Колчака и задачах рабоче-крестьянской власти, выдержки из буржуазных газет, кончавших о провале большевистских планов и называвших создание Урало-Кузбасса – бредом. В произведении использованы письма рабочих и инженеров Магнитостроя, приводятся их социалистические обязательства, а также многочисленные цифры вплоть до диаграммы. Все это помогает автору раскрыть пафос стройки, показать природу массового героизма и мужества рядовых строителей.
Произведение Станислава Стандэ агитационно от первой до последней главы и строки. Поэт идет по горячим следам событий, показывает будни строительства. Герои его произведения – рабочие и инженеры – действительно вписали своим самоотверженным трудом блистательные страницы в летопись стройки.
Они названы в «Поэме о Магнитострое» собственными именами.
Произведение Станислава Стандэ можно назвать оперативным поэтическим репортажем. Пусть по форме своей в нем много подражательного манере Вл. Маяковского – в разбивке строф, рифме, маршевом ритме, нарочитых прозаизмах. Так писали в те годы многие поэты. Это было веяние бурного времени ломки старых литературных канонов, поиска своего стиля, письма. Для нас важно сейчас другое – глубокий интерес поэта к тому, что творилось на Магнитострое.
С напряженным драматизмом выписаны Станиславом Стандэ главы о строительстве плотины и пуске ЦЭС. Их можно отнести к лучшим. Именно в них автору удалось с наибольшей убедительностью раскрыть духовный облик таких геров стройки, как инженера-ударницы Джапаридзе Е. – дочери одного из двадцати шести бакинских комиссаров.
Последняя глава «Привет домнам» – это как бы интернациональная перекличка рабочего класса России с рабочими Польши, песня их солидарности в борьбе за независимость и свободу.
…на грудах угля голодает Силезия
и копит свой гнев, чтобы завтра встать.
Чтобы встать – великаном, литым из металла,
на угольной базе, грозным, широким,
чтобы, глядя на вольные выси Урала,
разогнать своих бар, стереть в порошок их{111}.
Автор верит, что пробьет час, настанет день и «первую домну свою» польские рабочие назовут «именем славным Магнитостроя». «Поэма о Магнитострое» Станислава Стандэ заканчивается веще:
Общее солнце взойдет над нами,
Урал будет Вислой, а Висла – Уралом!
Перелистана последняя страница «Поэмы о Магнитострое» Станислава Стандэ. Закрываю книгу, ставшую теперь библиографической редкостью – одну из первых, написанных другом нашей страны о героической Магнитке. Хорошо, что такая книга есть. Она и сейчас остается в боевом строю.








