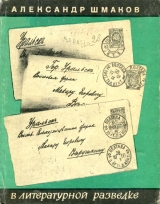
Текст книги "В литературной разведке"
Автор книги: Александр Шмаков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
РЕВОЛЮЦИОНЕР, ПУБЛИЦИСТ, ИЗДАТЕЛЬ{85}
Николай Никандрович Накоряков был профессиональным революционером, членом большевистских комитетов в Казани, Самаре, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, делегатом уральцев на IV и V съездах РСДРП. Он прекрасно знал историю родного края, его литературу, людей, связанных с журналистикой Урала.
Любовь к печатному слову у Николая Никандровича пробудилась в юношеские годы, когда он, ученик тобольской иконописной мастерской Знаменского монастыря, стал пользоваться книгами из библиотеки, созданной политическими ссыльными в духовной семинарии. Тут судьба свела его с ссыльным революционером «паном Костей» – Константином Владиславовичем Гамалецким – одним из участников покушения на царя. Беседа с «паном Костей» о том, почему он пытался убить царя и был сослан навечно в Сибирь, оказали влияние на пытливого начитанного юношу. Вскоре он стал библиотекарем «нелегалки», постепенно втянулся в подпольную работу, приобщился к революционному движению.
Жандармы выследили молодого революционера. Николай Накоряков, исключенный из семинарии, покинул родной Тобольск. Так начался трудный путь скитаний по городам и весям России, подпольная работа, аресты, ссылки, бегства. Николай Накоряков исчезал из рук полиции в одном месте, а в другом появлялся, то как студент Петров, то Федор Казанский, то Стодолин, то Назар Уральский. Все это были его партийные клички.

Н. Н. Накоряков.
Исчезнув в 1901 году из Тобольска, он появился в Уфе. Вместе с Герасимом Мишеневым, выполняя поручения Уфимского комитета РСДРП, ездил по заводам Южного Урала. Был в Миньяре, Усть-Катаве, проводил здесь с рабочими нелегальные собрания, вел революционную работу и в других уральских городах.
Так, в Екатеринбурге вместе с С. Чуцкаевым и М. Лядовым, Назар Уральский в 1907 году организовал выпуск газеты «Екатеринбургский листок». На четвертом номере газета была закрыта жандармами. Однако она сыграла свою положительную роль в подготовке к V съезду РСДРП и в разъяснении политики большевиков в подготовке к выборам во II Государственную думу.
1906—1907 годы – особые, памятные в жизни Николая Никандровича – он встретился с Лениным на IV Стокгольмском и V Лондонском съездах РСДРП, и несколько позднее – в Париже, на заседании расширенной редакции «Пролетария».
В марте 1908 года царская охранка напала на след Николая Никандровича в Перми. Он был арестован, а затем осужден на вечное поселение в Сибири.
Будучи сосланным в Сибирь, Накоряков завязывает тесные связи с редактором челябинской газеты «Голос Приуралья» – П. Злоказовым. На страницах ее появляются боевые статьи о литературе. Автор их, скрывшийся за криптонимом – «Н. Н-в» и «Н. Н. Н.», разбирает произведения С. Сергеева-Цеиского, И. Бунина, В. Вересаева, утверждает их народность и демократический дух. Он высоко оценивает книгу М. Горького «Мать», называет писателя великим художником.
Обзорные статьи по литературе, принадлежащие перу публициста-большевика Н. Накорякова, были заметным явлением на страницах «Голоса Приуралья». Он разбирает произведения Л. Андреева «Анфиса», С. Сергеева-Ценского «Движение», И. Бунина «Деревня». Его выступлениям присуща яркость, полемичность, острота наблюдений, а самое главное, партийность оценок произведений русских писателей.
Н. Накоряков высказывал мысли и взгляды, которые не переставал утверждать М. Горький, видя будущее литературы, прежде всего, в рождении писателей из недр самого народа. И сам выбор литераторов – Л. Андреев, Сергеев-Ценский, Бунин – тоже характерен. Это были писатели, группировавшиеся вокруг издательства «Знание», руководимого А. М. Горьким.
В газете «Голос Приуралья» была напечатана статья Н. Накорякова «Заметки по поводу некоторых явлений в современной литературе», где идет разговор о произведениях В. Вересаева «К жизни», Ропшина «Конь бледный» и Вербицкой «Ключи счастья». Накоряков начинает с того, что подчеркивает:
«Революционная волна оставила огромное наследство, не отображенное художественной литературой, кроме разве целостного произведения М. Горького «Мать»{86}.
Автор подвергает критике Вербицкую и Ропшина и выделяет повесть Вересаева. Он анализирует образы Чердынцева и рабочего – дяди Белого, который чувствует себя единицей класса, носителем его общественных интересов, его силой.
В статье «Новости литературы» (Критические заметки о сборниках «Знания» за 1910 год) автор дает положительную оценку творчеству Ивана Шмелева, разбирая его повесть «Под горами». Он останавливается на характеристике произведения Л. Никифоровой «Две лестницы» и подчеркивает:
«Чтобы художественно изобразить социальную пропасть между классами, одного негодования (даже искреннего) недостаточно – в этом случае не выручит и параллелизм описания. Надо в образах представить эту пропасть, в словах и действиях живых людей, как, например, это сделал М. Горький в пьесе «Враги».
«Чтобы кончить, – пишет далее Накоряков, – я все-таки должен сказать хоть несколько слов о гвозде рассматриваемых сборников – о новом произведении М. Горького «Городок Окуров». Это целая богатейшая галерея типов и картин из жизни русского захолустья. Оценить такое произведение можно лишь в специальной работе и тогда, когда оно закончится». Он говорит, что «гениальный художник дает выпуклые, нестираемые образы» и развивает мысль, что «оценка критикой произведения по частям привела бы к высказыванию о нем неправильных взглядов».
Очень характерен вывод, который делает автор, обобщая свои мысли о роли и значении М. Горького в современной литературной жизни России:
«Очевидно, тут дело не в Горьком, а в самих критиках, ибо из той же хроники можно привести тысячи картин и картинок, о которых затрудняешься сказать – живопись это или произведение слова и которые по яркой красочности, по дышащей от них силе движения жизни нисколько не уступают произведениям того же автора первого периода.
Нет, Горький – великий художник – не умер. Мы думаем, что он, твердо став на путь художественного воссоздания современной социальной обстановки, даст еще захватывающие картины. И сейчас пришествие Тиуновых мы готовы приветствовать возгласом: «Шире дорогу! Молодая Россия идет…»{87}
Читая эти строки Н. Накорякова, не следует забывать, что тогда был 1910 год. Русская реакция всячески пыталась зачеркнуть талант буревестника, провозгласить: Горький, как художник, умер. Большевик Накоряков на страницах челябинской газеты страстно защищает талант Алексея Максимовича, с которым он познакомился и сдружился на Лондонском съезде РСДРП. Долголетняя дружба их нашла яркое отражение в их переписке, опубликованной в десятом томе архива Горького.
Участие Николая Никандровича в печати, связи его с местными большевиками активизировали преследования Накорякова жандармами. Тогда родилась мысль – вырваться из ссылки, бежать, но куда, где достать необходимые для этого деньги?
Помогли уральские товарищи по подполью, материально помог редактор «Голоса Приуралья» П. Злоказов, он прислал посылкой, в подушке, двести рублей в Канский уезд, где на поселении находился Накоряков.
Николай Никандрович близко сошелся с П. Злоказовым после Лондонского партийного съезда, когда объезжал заводы и города Урала. Злоказов сотрудничал тогда в екатеринбургских либеральных газетах – «Урал» и «Уральская жизнь». Письменно условились с ним: не порывать связей с челябинской газетой, писать статьи хотя бы с самого края света!
А путь бегства действительно лежал на край света. Было решено, что по железной дороге Накоряков доедет до Владивостока, там пересядет на пароход, идущий в Японию, а затем доберется до Америки…
В 1911 году Николай Никандрович благополучно, хотя и с трудностями, достиг берегов, открытых Колумбом, и вскоре стал редактировать газету «Новый мир», первую рабочую газету, издававшуюся в Америке на русском языке, принимал активное участие в деятельности Нью-Йоркской группы русских социал-демократов.
Но он не забыл своего уговора с Злоказовым. В «Голосе Приуралья» появились его письма с пути «От Иркутска до Дальнего», «Заметки о культуре и искусстве Японии», статьи «От нашего корреспондента» – о рабочем движении в Америке и о революции в Мексике все за той же подписью «Н. Н-в.».
После Февральской революции 1917 года Накоряков возвратился в Россию. Не сразу удалось ему разобраться в сложной политической обстановке в стране. Накоряков временно оказался даже вне большевистской партии.
После Октября по личной рекомендации Ильича, Накорякова направляют на ответственную работу – членом правления Госиздата. Проходит три года, решением ЦК РКП(б) Николая Никандровича принимают в партию, назначают зам. заведующего Госиздата, затем директором «Международной книги», издательства «Советская энциклопедия», Гослитиздата.
Николай Никандрович умело вел издательское дело. И неудивительно – книги были его постоянными друзьями, верными спутниками в жизни.
Через руки Николая Никандровича – издателя и редактора – прошли тысячи книг, из них 600—700 – лично редактировал и правил… Он и в последние годы жизни писал рецензии на отдельные издания, вступительные статьи, заботился о воскрешении забытых страниц истории революционного подполья, помогал авторам в розысках материала.
Он пристально следил за изданием книг на Урале. Вот некоторые его отзывы на прочитанные книги:
«Книга по истории Челябинской партийной организации тоже интересная и богатая по содержанию, причем хорошо издана. Она отлична по содержанию от других известных мне сборников. В ней общественное движение освещено широко и с политической стороны и с хозяйственной»{88}.
«Брошюра о С. Цвиллинге очень хорошо написана. Передайте привет ее автору Б. Мещерякову»{89}.
Какой глубокой заинтересованностью революционной историей Урала проникнуты эти строки накоряковских писем, дышат заботой об объективном освещении событий, соблюдении исторической правды!
Человек исключительной душевной простоты и доступности, Накоряков умел подмечать в других эти же черты и высоко ценил за это людей, встречавшихся на его жизненном пути. О тех, чьи судьбы скрещивались с его судьбой, он всегда отзывался искренне и правдиво.
О каждом из боевых товарищей у Николая Никандровича было приветливое слово, согретое теплом его сердца. И мне думается, это шло от доброты, врожденного такта, высокой интеллигентности и культуры. Знания этого человека всегда притягивали к нему людей.
Его небольшая, скромно обставленная квартира в тихом московском Мансуровском переулке была известна многим журналистам, писателям, редакторам, историкам Ленинграда, Иркутска, Тюмени, Челябинска, Свердловска, Перми, Уфы. В последние годы полученные от него письма с обстоятельными ответами на вопросы многочисленных адресатов, были уже написаны рукой дочери с его слов, а под последней строкой лишь стояла его личная подпись с разбегающимися буквами…
Как рассказчик, Николай Никандрович был неутомим. Он вспоминал то одного, то другого сверстника своей боевой молодости. Это были уральские революционеры-подпольщики или забытые теперь литераторы. Так всплыло в его памяти имя уральца Сергея Карцевского – литератора необычной судьбы, бывшего учителя из поселка Конды. Туда ему помог устроиться Николай Никандрович. Важно было иметь своего человека для работы среди хантов и манси.
И Сергей Карцевский поехал на берега Конды, написал повесть «Ямкарка», заинтересовавшую М. Горького. Более того, Алексей Максимович отредактировал повесть «Ямкарка», и произведение – одно из первых из жизни народностей Севера – было напечатано в 31-м выпуске сборника «Знание».
Н. Н. Накоряков известен как профессиональный революционер и издательский работник, но мало, кто знает его, как литератора. Однажды я попросил Николая Никандровича рассказать об этом. Сначала он махнул рукой, а потом кратко и скупо поведал о себе, как писателе, показав книги.
Это были небольшие книги, изданные в 30-е годы «Молодой гвардией» и Госиздатом, предназначенные для детского и юношеского читателя, – повесть «Петька-адмирал» и рассказ «Сенькин Первомай», несколько раз переиздававшиеся. Сейчас книги эти стали библиографической редкостью. А между тем в свое время рассказ «Сенькин Первомай» был переведен на удмуртский, коми-пермяцкий и другие языки. Книги Н. Накорякова сыграли свою роль в развитии детской советской литературы. И именно за эти книги, по настоянию М. Горького, Николай Никандрович был принят в Союз писателей.
Перу Н. Накорякова принадлежат интересные воспоминания о В. И. Ленине, первоначально напечатанные в ханты-мансийской газете; очерки о М. Горьком, Д. Бедном, уральской революционерке Л. И. Бойковой, И. Д. Сытине – «Очарованный книгоиздатель»; сборники: «О. Ю. Шмидт как издатель и просветитель», «У истоков книжной торговли», «Случай в ГИЗе», очерк «Три дня Казанской республики», множество статей, опубликованных в энциклопедиях и любопытный очерк «Страна энциклопедий», напечатанный в горьковском журнале «Наши достижения», очерк «Писатель-коммунист» – о старейшем советском поэте А. Богданове.
Н. Накоряков писал только о том, что хорошо знал, с чем лично соприкасался. Он был предельно честен, научно добросовестен, зная, что факты, сообщаемые им в очерках, статьях и в частных письмах, должны помочь добраться до истины литератору или исследователю.
Жизнь Николая Никандровича богата волнующими и значительными страницами революционной деятельности, воплощена в книгах, связана с М. Горьким и другими писателями, создававшими советскую литературу.
Николай Никандрович не только их современник, но и соратник по общему труду. Он сам созидатель и творец, чьи литературные заслуги поставили его имя в один ряд с ними, ибо издатель и писатель – неотделимы, это ветви одного могучего древа, составляющего культуру нашего народа.
КАЗАКЕВИЧ ЕДЕТ НА УРАЛ
Приезды Эммануила Казакевича в Челябинск и Магнитогорск были запоминающимся событием для литераторов Южного Урала.
Эммануил Генрихович по приезде в эти города сразу же встречался литературным активом, рассказывал о своих планах, надеясь на нашу дружескую помощь и поддержку, и не ошибся. Было сделано все, чтобы Казакевич плодотворно поработал на Урале и написал добротную книгу о его людях.
В Челябинске Э. Казакевич выступал перед радиослушателями, встречался с тракторостроителями и читателями библиотек, в Магнитогорске вел продолжительные и задушевные беседы с доменщиками и сталеварами, коксохимиками и прокатчиками. Разговор шел о жизни и труде, о литературе и культурных запросах металлургов.
В результате этих бесед и встреч с магнитогорцами у писателя появился очерк «Столица металлургии», поднимающий животрепещущие вопросы, связанные с перспективным развитием культурного строительства Магнитогорска.
Этот очерк показал, как глубоко вник писатель в историю города и строительство металлургического комбината, какими наблюдательными и зоркими глазами хозяина взглянул он на окружающую обстановку и жизнь рабочих людей.
Приезжая в Магнитогорск, он по-хозяйски обосновывался в гостиничном номере. На столе его были томики Ленина, множество книг по истории рабочего движения на Урале, о строительстве Магнитки.
Я дважды встречался с писателем в этом городе. Мы задушевно беседовали с ним вечерними часами о его новом произведении – романе «Новая земля».
– Это будет книга, – говорил тихим голосом Эммануил Генрихович, – не только о строителях Магнитки, но и о рабочем классе России, его духовном росте, его облике хозяина, создающего на земле все ценности и радости нашей жизни. Это будет произведение о нашей партии, которая, как заботливая мать, воспитала и подняла рабочего. Словом, размах гигантский, а воплощение пока в наметках и небольшой стопке исписанной бумаги…
Эммануил Генрихович внезапно оборвал фразу и обратился ко мне.
– А каковы ваши планы?
Я рассказывал о работе над романом «Гарнизон в тайте» – о жизни бойцов и командиров Особой Дальневосточной Краснознаменной армии…
– Интереснейший край, а люди, люди какие! – говорил он. – Люблю я Дальний Восток, с ним у меня связаны самые лучшие воспоминания…
Тогда я узнал, как журналист и поэт, Казакевич начал свой путь на дальневосточной земле. Он уехал туда в числе комсомольцев-энтузиастов первой пятилетки, попробовал свои силы на посту председателя колхоза и начальника строительства, директора театра в молодом Биробиджане, прежде чем стать газетчиком и литератором. Здесь у него вышли первые книги стихов и пьесы{90}.
Казакевич очень тепло рассказал о встречах с командармом ОКДВА Блюхером, с литераторами края, бок о бок с которыми начиналась и его писательская судьба. А потом с большой заинтересованностью продолжал разговор о людях Магнитки, Урала, который пришелся ему по душе богатой историей и еще более красочной перспективой.
…Вскоре Казакевич покинул гостиницу и перешел жить в дом гостеприимного Георгия Ивановича Герасимова – ветерана Магнитки{91}.
В судьбе знатного доменщика как бы отразилась судьба целого поколения металлургов комбината. Рос металлургический гигант, поднимались одна за другой его домны, росло и мастерство Герасимова, мужал его характер, Личность Георгия Ивановича давала материал для широких раздумий, помогала лучше увидеть образ рабочего человека.
Между доменщиком и писателем установилась самая близкая дружба и товарищеские отношения.
Эммануил Генрихович приехал на Магнитку с неоконченной рукописью повести о Ленине. Это было его будущее произведение «Синяя тетрадь». Долгие беседы с Герасимовым в вечерние часы помогали Казакевичу глубже осмыслить задуманное, как бы яснее увидеть написанное. Здесь, в тихой комнатке Герасимова читались главы этой повести о Ленине, – Георгий Иванович был ее первым слушателем. Писатель словно выверял себя, особенно, когда читал главу о приезде в Разлив Серго Орджоникидзе, с которым не раз встречался и разговаривал Герасимов.
Магнитогорские знакомства с людьми и впечатления ярко переданы в одном из лучших рассказов писателя «Приезд отца в гости к сыну»{92}. И кто знает, может быть, в образе Ивана Ермолаева, ставшего известным металлургом, старшим горновым Магнитки, есть черты характера Герасимова – его ухарская удаль и мужицкое упрямство, гордость комбинатом, любовь к труду, к коллективу доменщиков.
Эммануил Генрихович принадлежал к талантливой плеяде советских писателей. Его творчество оставило глубокий след. Творческими открытиями были не только его широко известные книги о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны, но и историческая повесть «Синяя тетрадь», очерк «Столица металлургии», рассказ «Приезд отца к сыну в гости» и большое эпическое полотно, оставшееся незавершенным – роман «Новая земля»{93}, над которым писатель работал в Магнитогорске.

Э. Казакевич среди челябинских писателей.
Я узнал от него, что он написал сценарий о Моцарте, но почему-то тогда не придал значение сказанному. Моцарт, его мир и духовные запросы казались такими далекими от того, чем жил в Магнитогорске Казакевич, что соединить их вместе было почти невозможно.
Руководитель Магнитогорской хоровой капеллы Эйдинов однажды рассказал мне о посещении Казакевичем музыкального училища. Писатель встретился с учащимися и долго беседовал с ними о музыке и литературе. Все были удивлены знанием Казакевича истории музыки, тончайшим пониманием Моцарта. Эммануил Генрихович хорошо знал творчество композитора, говорил о нем свободно и легко, словно был профессиональным музыкантом.
После беседы с учащимися, писатель еще почти три часа с вдохновением говорил о Моцарте с преподавателями, рассказывал им о своем сценарии о великом композиторе.
Автор повести «Синяя тетрадь» – в своем последнем и самом значительном произведении – показал, сколь ответственно он подходит к освещению сложных событий жизни и как истинный художник создает удивительное, исторически правдивое произведение.
Казакевич был по натуре жизнелюбивым и энергичным человеком, щедрым на дружбу с людьми. Отзывчивый, он вместе с тем был требовательным и взыскательным, строгим судьей без скидок па дружбу. Он и к своему творчеству был суровым и жестоко требовательным.
Больной, прикованный тяжким недугом к постели, Эммануил Генрихович не переставал работать. Он торопился дописать задуманное… Кроме романа «Новая земля», писатель одновременно работал над повестью о героической борьбе одесского подполья против французских интервентов в 1919 году. Это была «Иностранная коллегия», оставшаяся в набросках. А впереди еще большая и смелая творческая задумка – вторая повесть о Ленине, охватывающая предгрозовые события 1917 года, названная «Тихие дни Октября».
Казакевич только расправлял крылья своего могучего таланта. Он входил смело и энергично в историко-революционную тему. Но его работу прервала преждевременная смерть.
Книги, что удалось написать Эммануилу Казакевичу, – наше непроходящее культурное богатство, и Урал занял в нем свое достойное место.








