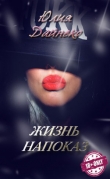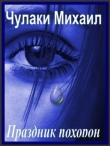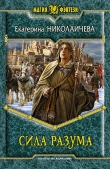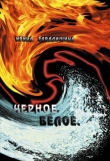Текст книги "Кочующая роза"
Автор книги: Александр Проханов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
глава седьмая
Як-40, распахивая тучи своим острокрылым телом, нес нас па Зейскую ГЭС. Меж тучами сквозили зеленые и голубые лоскутья. Блестела река с отмелями и островами, с разводами солнца. Облака распахнулись, и самолет подлетел к котловану. Повис в невесомой дымке, и его тихо разворачивало над гигантской раскрытой чашей.
Казалось, метеорит, излетев из бескрайних пространств, врезался в землю. Выбил кратер. Разметал окрестные сопки. Сдвинул в сторону реку. Осколками прочертил в тайге трассы. И, стоя потом на дне котлована, среди лязганья, грохота техники, я чувствовал себя помещенным в центр космических сил.
Молодой инженер Орлов, белозубый, быстрый и резкий, в брезентовой засаленной робе, в измызганных сапогах, водил меня по строительству, показывая растущий рядом со старым поселком новый, сиявший стеклами, многоэтажный, компактный.
Он объяснял мне уникальность плотины, которая, подобно тонкой бетонной занавеске, повиснет между сопок, удерживая давление вздувшихся вод. Показывал аппарат для резки гранита – огненный луч, рассекающий, плавящий камень. Мы смотрели, как работают взрывники, выкалывающие из сопок породу малыми, аккуратными взрывами, чтоб не растрясти основание.
Стояли на насыпи, глядя на подъезжающие КрАЗы, высыпавшие на пирсы шумящий гравий. Орлов рассказывал о мощи плотины, укрощающей паводки, сберегающей от наводнений в низовьях плодородные пашни и сенокосы. О порте, открывающем путь по новому морю в сердцевину таежных массивов.
Зея у наших ног в пене проносила расколотые сосны и ели.
– Ночью пойдет бетон. Мне надо быть в котловане. А до этого заходите ко мне. Побеседуем, – пригласил Орлов.
Мы пришли к нему вечером и сидели в его комнате с окнами на мигающую панораму строительства. На одной стене, застекленная, чернела карта звездного неба. На другой, напротив, – огромное панно из засушенных таежных цветов.
Орлов, по-домашнему, в белоснежной рубахе, разливал по глиняным кружкам чай. Быстро оглядывал нас, скалил белые зубы.
– Пейте, пейте чаек! Хорошо после реки-то согреться!
– Он у вас немножко пахнет цветами, – сказала Людмила, щуря глаза на гербарий.
– И небесными звездами, – сказал я, поворачивая голову к карте.
– И тем и другим. Настоящий, дальневосточный, – усмехался Орлов.
– Ну конечно, здесь все настоящее. Даже чай. А уж вы-то, дальневосточники, сами собой любуетесь: «Мы такие, мы сякие! Мы щедрые, мы смелые! И вообще мы песцы сибирские! – сказал я, поддразнивая его. – Мы породы особой!»
– Во-во, особой! На вас, на западных человеков, не похожие ни мехом, ни шерстью! – засмеялся он, двигая под рубахой сильными мускулами. – Открещиваемся! Мы – ермаковцы, казаки!
– Да вам, казачкам, только дай волю…
– Зато вы и ходить-то еще толком не можете! Все за стеночку держитесь, за Уральский хребет! Носитесь как заведенные: Москва – Сочи, Сочи – Москва! А страны не знаете. Размениваете юг на север. А этот-то путь еще при Петре Первом изъезжен.
– Ладно считаться. Одно бревно несем.
Орлов двигался по комнате. Голова его то тонула в черной карте созвездий, то погружалась в сухое разноцветье гербария. А за окном клубилась, лязгала стройка. Светили на высоких мачтах креоновые лампы, как подвешенные ночные солнца.
– Ну а про звездочки новые что вы нам, западным человекам, расскажете? – спросил я. – У вас и звездочки ведь по-местному называются!
– Да вы там, на западе, всегда за сибирской звездой шли. Бросали все, дома и усадьбы, и за ней, за текущей!
– Они и теперь идут, – улыбнулась Людмила, посмотрев на меня. – Она перед ними катится, а они идут.
– Вы-то, похоже, звезда сибирская? – спросил Орлов, чуть поклонившись ей.
– Байкальская.
– Так это чистейшей воды! – восхитился он. И вскочил, засмеявшись. Открыл ящик стола. Протянул ей лист бумаги, на котором, разбросав лепестки, горел засушенный дикий пион.
– Какая красота! – воскликнула она.
Текли за окном ручьи электрических сварок. Разбивались о невидимые преграды и снова падали водопадом.
Мы пили чай со свежим пшеничным хлебом. Мазали его маслом и медом. И с этим ароматом на меня вдруг пахнуло далеким и сладким: мой дед сидит на застекленной веранде перед раскрытой банкой меда. Бабушка раздувает маленький самовар. И оса, пролетев сквозь голубоватый дымок, звонко ударилась о стекло.
Мне стало горячо, тревожно. Я взглянул на нее. Она держала чашку у губ, улыбалась мне. Орлов, задумавшись, любовался ею.
Потом зазвонил телефон. Орлов подошел, ответил коротко: «Есть!» Повернулся к нам.
– Я должен извиниться. Пошел бетон. Меня ждут в котловане.
Поезд подходил к Благовещенску по залитой водой низине. В зеркальных дверях отражались дождливая даль, мокрая трава, блеск воды.
В гостинице мы сняли два номера с окнами на Амур. Она расчесывала влажные, потемневшие волосы. А я смотрел, как за перекрестьем рамы широко и тускло разлился Амур. Какой-то катерок шел далеко в тумане. Я напряженно следил за ним, пока он не скрылся. И тогда, укутавшись в плащ, я вышел на набережную, прижался к холодному парапету. Китай просматривался на той стороне, за дождем, – низины, холмы, поросшие лесом горы и на склонах ленты полей. Городок чуть вырисозывался размытыми домами из темного кирпича, кирпичными трубами, суденышками и причалами. Краснели пятна обращенных к реке транспарантов.
Глаза мои привыкли к дождю. Напротив, через пустое пространство реки, зеленели кусты и купы деревьев, паслась белая корова. И шел человек, останавливался, темнея фигуркой, и снова шел.
Я смотрел через весь этот огромный холодный разлив. Чувствовал там, далеко, дыхание этой белой коровы, шаги человека, блеск травы у него под ногами.
В обкоме, объяснив суть дела, я сказал, что хочу побывать в совхозе, посмотреть село на Амуре. Мне обещали выбрать совхоз, предупредить о моем приезде; машина утром будет ожидать у гостиницы.
Когда я вошел в номер, Людмила быстро и радостно подняла на меня глаза.
– Смотрите-ка, что я достала! – На коленях у нее лежала гитара. Она пальцами провела по струнам.
– Откуда? – спросил я, оглядывая ее всю, от босых ног до сверкающих, гладких волос.
– У моряков взяла. Из соседнего номера. Слышу, играют. Постучала: «Можно гитару?» А они: «Идите к нам, поиграйте!» Я им: «Не могу». – «Почему?» – «Меня ждет адмирал». Кажется, поверили, дали гитару.
– Такой дождь на улице, – сказал я, тихо прислонившись к стене.
– Видели Китай? Я в окно смотрела, ничего не разглядишь.
– Весь Китай сидит по домам. Одна белая корова пасется.
– Весь Китай сидит по домам, – повторила она. – Китаянки поют песни, играют на гитарах. Одна белая корова пасется.
– Ест желтую траву на границе.
– Почему желтую? Еще только зеленеть начинает!
– Есть такой китайский стих…
– Прочтите.
– Как быстро, как быстро желтеет трава на границе. Как быстро, как быстро стареет солдат на границе…
– Я это чувствую, – перебила она, мягко ударив по струнам. – Река за окном… Я играю. Вас нет. А дождь все идет и идет. Можно я вам поиграю?..
Долгий, сложный звук ударил в меня грустным звоном. Она перебирала струны, наполняя меня грустью и чистотой. Запела тихо:
В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.
Желтая трава на границе. Желтая крапива на рязанской земле. И моя память о дуплистых, обветренных ивах, где снег на дороге изрезан ободьями телег. Вот запела – и опять я стою под северной холодной зарей среди чернеющих изб. Будто зеркало поднесла: да очнись, посмотри! Вот он ты, твои глаза, брови, губы. Забыл ты их, что ли? А забыл – запою, напомню…
Там, в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.
Мы идем по этой дороге. Ее брови такие светлые, такие добрые брови. И можно идти за ней, глядя, как у нее на ступнях вспыхивают маленькие крупинки песка. А моя свобода? А мое одиночество?
Она пела так, будто дарила последнее, что у нее оставалось. А я принимал. И все у нас было общее: эта песня, дождь и Амур.
Она мне пела в маленьком гостиничном номере. Амур клубился в дожде, нес на себе чужой катер. Мне было горячо, грустно, будто я был юный-преюный и у меня еще все впереди. Или старый-престарый, знаю все концы и начала.
Она кончила петь. Мы молча сидели, омываемые огромным дождем.
Дождь кончился, будто отдернули занавеску, и в небе открылась вечерняя заря. Толпы высыпали из зари и двинулись густо по набережной, понесли откуда-то вороха цветущей сирени.
Мы гуляли в парке, глядя на «чертово колесо», перебиравшее разноцветными спицами, мявшее деревья парка. Оно вычерпывало из черных крон нарядные пары, подымало их на мгновение в лучи заходящего солнца и снова выливало во тьму.
Мы сели в скрипучую люльку. Железная спица пронесла нас сквозь тополиную зелень и горечь. Взметнула над Амуром, его розовым блеском, движением. И открылся Китай – далекие мокрые луговины с уходящими дорогами и полями, искрящиеся крыши городка. Фигурки стояли на набережной. Краснели транспаранты с иероглифами. А нас возносило над этим. Ее платье пузырилось, и она ловила его руками. В соседней люльке солдат обнимал девчонку. Два старика хохотали. Дети схватились за мокрые от дождя цепочки. И на самой вершине, на пестрой спине колеса, я увидел, как идет по воде канонерка, длинная, зализанная, как игла, ощетинившись пулеметом и пушкой. Матросы стояли, заложив за спину руки.
Мы вышли на танцверанду, дощатую, с темными лужицами. Под выбеленной освещенной верандой играл военный оркестр. Все танцевали. А когда умолкала музыка, становился слышен гул репродукторов на той стороне, усиленные динамиком выкрики, рев далекой толпы.
Я смотрел, как колеблется, танцует толпа, расплескивая лужицы. И среди них – девочка в короткой юбке выбрасывала вперед свои длинные загорелые ноги. Закидывала голову с вьющимися по плечам волосами. Словно чувствовала себя рожденной для этой музыки, этих движений, молодых взглядов, которые бросали на нее солдаты.
У края высокой, напоенной дождем тучи зажглась звезда. Амур катился, неся на волнах невидимое золотое ее отраженье.
Наутро мы выехали из Благовещенска в совхоз.
На Зее паром набивался грузовиками, тракторами, мотоциклами. Наш шофер бережно загнал в это скопище свою новую черную «Волгу». Капитан парома кричал в мегафон. Рыжий «Кировец», тяжело выворачивая огромные колеса, въезжал на палубу. Мы вышли из машины и стали у поручней, над черной бегущей водой. И рядом женщины, в сапогах, в косынках, громко говорили, поглядывая на шоферов.
– А я вчерась обряжаюсь, печь топлю, а Егорка прибег. Говорит: «Тебя директор на ферму зовет!» Я думаю, чего он меня зовет? А это он, чтоб мы соревнование подписали. Он в район ездил, ему там, видно, и накрутили, что ваши, дескать, мало подписывают. Еще больше доить надо. Он и вызвал! – говорила худая, долгоносая и язвительная, сжимая сухие губы. – Это мы посмотрим.
– Ну и что? И подпишем. Или мы хуже? – пыхнула румяными щеками другая, крутобокая, налитая силой и тяжестью.
– Бабы, никто не знает, сегодня придет, нет автолавка? – спросила третья, белесая, тихая, с маленькими голубыми сережками.
– А шут его знает, – сердито дохнула румяная. – Я его просила: привези сапожки по двенадцать рублей. Что ты все кирзу-то возишь? А он: «Насмотритесь телевизора и требуете, чего не положено». А свою бабу в сапожки уже обрядил.
– Тебе-то уж помолчать! – обрезала ее долгоносая. – Чуть не пол-лавки каждый раз закупаешь. Денег-то полно. Кто из нас, из доярок, своих коров держит? Никто. Некогда. А ты двоих завела. Знай, на мясо выращиваешь!
– И выращиваю! Тебе-то что! – трясла огненными щеками ее подруга. – Заведи сама да сдавай. А то ишь, ленивая!
– Это я ленивая? – сжимая рот в маленькую гневную щелку, выдохнула долгоносая.
– У тебя телята одни, а на мне целый дом. Под пятьдесят уже тебе, а все в девках торчишь!
– Бабы, не ссорьтесь, – сказала белесая, сморщив в досаде веснушчатый лоб и колыхнув в ушах голубыми стеклышками. – Сейчас ведь доить. Коровы все чувствуют, за вашу злость молока не дадут.
– Верно, чувствуют, – согласилась долгоносая, стихая. – Как-то я села одаивать. Аппарат-то сняла, а подойник подставила. А она чего-то все боком движет. Я ей говорю: «Ну стой, ведьма пестрая!» Она ко мне повернулась, посмотрела на меня так ласково, а ногой как брыкнет – весь подойник с молоком наземь.
– А у меня раз теплой воды под рукой не было, – сказала белесая, – я ей вымя прохладной смыла. Так что ты – обиделась! Ни капли молока не дала. Я выпрашивала, вымаливала – чуть нацедила. «Ах ты, моя родная, – думаю, – я те в другой раз рушничок с ягодками принесу».
Потом мы катили по асфальту среди ухоженных, по-весеннему свежих нив. В их зелени жирно чернели и убегали проселки, обсаженные тополями. Белели усадьбы совхозов с элеваторами, механизированными токами. И казалось, что это южнорусская, ровная до горизонта степь, качающая на себе села, стада. И только предчувствовалась за туманами близость огромной реки.
– На пароме я прислушивалась к этим женщинам, деревенским, – говорила Людмила. – Я деревни совсем не знаю, я же городская! Это бабушка была деревенской, да и она переехала в город. Но однажды, когда я училась в консерватории, побывала в колхозе. Целое лето на ферме. Даже корову доила. И тогда я наблюдала этих женщин: их обидчивость, недолгую злобу и кротость. Их готовность откликнуться на чужие слезы, на чужое веселье. И труды, труды без конца! И я думала: «А я? Другая я или нет? Родные они мне или чужие? И кто я для них? Могла бы вот так ссориться и тут же мгновенно мириться? Выкладывать по утрам на общий суд свои домашние заботы?..»
Я смотрел на нее, горожанку, на ее пышный бант, на ее туфельки и длинные, гладкие, розоватые пальцы с яшмовым камнем. Старался представить, как идет она мимо рогатых голов, неся в полутьме драгоценное мерцающее ведерко. Корова слезно раскрыла на нее свои черно-голубые в переливах глаза. А она скребком касается коровьего бока, и бок искрится от ее прикосновений. Корова стоит в сумерках, будто окована тонкой медью.
– Я думала, если бы я родилась в глухомани, в селе, и не знала бы никакой другой жизни… Ни консерватории, ни оркестра с лаковым мерцанием скрипок, с дирижером, взмахивающим палочкой, ни ресторанной эстрады с этой пестрой мишурой песенок-однодневок, с зеркальным шариком в вышине… Если б ничего этого не было. Просто родилась бы в беленькой мазанке с половичками и ковриками, с дымной печкой, с запахом огня и скотины. И девичество бы мое – на этих проселках, гулянках, в этих клубиках с бильярдами. И наконец, знакомство с трактористом или шофером. Деревенская свадьба, замужество. Ребятишки. И нескончаемый ворох забот – о детях, скотине, о хлебе насущном. Может, муж придет… Но это он ради получки, после трудных, рабочих дней. Я его раздеваю, укладываю. И, может, вдовство под старость – среди тех же проселков… Укутана в старушечий серый платок, в стоптанных валенках, сижу у окошечка. Могла быть и такая судьба. Ведь за этими хлопотами у женщины долгий век! За этими хлопотами женщина доживает до глубокой старости, потому что нельзя их прервать ни на час. Это мужчин носит по разным странам, по войнам, а женщинам от хлопот не оторваться…
А я видел, как она опускается у коровьего бока. Плещет на вымя теплую воду. От легких касаний набухают у коровы соски. Вымя огромное, розовое. Она отирает его сухим полотенцем. Вот сдавила сосок, пропуская его сквозь пальцы. Белая игла на мгновение впилась в подойник и со звоном пропала. Ведро загудело, пронзенное молочными спицами. Они залетали крест-накрест, прерываясь, попадая мимо ведра. На черном полу забелело от пролитого молока.
– И вот я думаю, такая я, как они, или нет? Возможна мне судьба как у тысяч? Поймем мы с ними друг друга? Должно быть, в главном поймем. В бабьем, в женском – поймем. Расплясаться на свадьбе соседской. Не спать над больным ребятенком. Среди этих элеваторов, тракторов и паромов что-то главное не меняется. Что-то в них главное не меняется, под этими сапожками, модными блузками и платками. Через тысячу лет все будут разговоры, как бабушка Карповна помирала. И я, как они, такая! А вы говорите: особая!
Я видел, как пальцы ее мелькали и ведерко гудело, будто колокол. Я чувствовал ее тут, рядом с собой, и там, в полутемном коровнике, среди заснеженных лесов и степей. В ведерке ее было молоко, и в снежных полях молоко, и в облаках молоко, и на руках ее молоко…
Директор совхоза встретил в своей конторе, в кабинете с красным ковром и знаменами, поставленными в углах. Сидел среди этого парада в пиджаке, в сапогах – подслеповатый, усталый.
Он спросил, как долго я намерен у них пробыть. И, узнав, что недолго, пригласил осмотреть хозяйство. Парторг совхоза, крепкорукий, рыжеватый, огромный, внес в разговор коррективы:
– По времени надо бы отобедать.
После обеда мы поехали осматривать совхозное хозяйство. Директор сам правил, то и дело включая рацию, связываясь то с фермой, то с заводом комбикормов, то с диспетчером.
Я осматривал ряды гусеничных комбайнов – они напоминали самоходки, ждущие час жатвы; «Кировцы» тяжко месили в полях чернозем…
Директор и Людмила сидели в стороне на упавшем дереве, повесив над костром таган. Кипятили воду, чистили картошку, лук. А мы с парторгом спустились к Амуру.
Он держал живого, в голубоватых отливах сазана над самой водой. Ловил в него зеркальное отраженье небес. Посылал пучок ледяного света в Китай. И китайский пограничник на вышке наблюдал в бинокль вспышки рыбы.
– Пишите, – сказал парторг, разворачивая из тряпочки нож. – Даю интервью на оконечности русской земли. Вы пишите.
Я открыл блокнот. Провел ручкой черточку. Под листками блокнота несся Амур, гладкий и светлый. Китайская вышка на той стороне стояла, как перышко поплавка. Но рыба была уже поймана.
– Пишите, – сказал парторг, – что мы эту землю держим не пупком и не брюхом, а умом и уменьем. Мы ее держим мотором, бензином, самолетным крылом. Нежим и холим, и она навеки за нами записана.
Он плюхнул рыбу на бревнышко, ударил ножом в чешую. Она треснула, осыпалась жирными ворохами. Сазан захлопал створами жабер. Парторг упер его пальцем и заводил ножом, будто точил об него. Сазан шлифовал боками мокрую сталь.
– Далее, – говорил парторг. – Земля эта в прошлом дикая. В ней другой организм, чем в Кубани. В ней корень по-своему движется, воду по-своему пьет. Наши деды вокруг нее ходили-ходили. Цветки в лугах нюхали-нюхали. За тучей следили. А потом резанули сохой. От той сохи произошли наши поля.
Мы вынимаем из земли урожаи, потому что никто ее до нас не пахал. Мы ее первые для себя приручили. Первые и последние. Народ тут широкий, никого зря не обидит. Любит красоту.
Он пальцем растворил рыбе грудь и звонко плескал туда воду. Вода, сперва розовая, мутноватая, а потом прозрачная, наполнила рыбу, и та, как ручная, колыхалась в руках парторга.
Он положил рыбу на бревнышко. Она прилипла хвостом, плавниками. Аккуратно стал резать ее, как хлеб, на сочные белые ломти, и в каждом розовел позвонок. Голова с глазами лежала отдельно. И тонкий обрезок хвоста.
– Ну что, написали? – спросил парторг. – И я написал. А теперь все в гущу!
Мы вернулись к костру. Котел закипал. Парторг спустил туда рыбу. Подбросил картошку, луковицы, лавровый лист. Раскатал по траве полотенце, извлекая оттуда водку, стаканы. Мы сидели вчетвером на берегу Амура. Хлебали уху. Выпивали. И китайский пограничник на вышке в свой сверхсильный бинокль мог сосчитать и доложить начальству, сколько граней в наших стаканах.
глава восьмая (из красной тетради). Похищение Европы
Совхозный директор Андрей Миронович хрустел сапогами в ребристой тракторной колее. Над замерзшей дорогой было звездно и разноцветно. Мерцало вдали, переливалось зеленью и синевой, сыпалось за протоки Амура,
Огни фермы дымно светили, стучали моторы. Слышался рев, перезвон. Налетел парной аромат растревоженного стада. И Андрей Миронович торопился, уже весь в заботах, весь в нетерпении, раздражаясь на них, пришедших прежде него, слушая чутко звоны и звяканья, радуясь напряженному гулу работы.
Ферма в снегах, полная биений и стуков, горячих и сонно дышащих жизней, принимала в себя ток и тепло, темное солнце летних увядших трав, вырабатывая млечную, жаркую силу.
В этот утренний, звездный час готовился вывод быков. Андрей Миронович вошел в теплоту хлева.
Под ртутными лампами, в их влажных холодных блесках, лежали быки. Глянцевитые, темно-красные, словно придавленные собственной тяжестью, как огромные киты, заплывшие в бетонный садок. Ревели, шевелились, дышали и хлюпали, качали мокрые цепи. Воробьи взрывались стаями, перепархивали над их головами.
Скотница Анна молодо, быстро сновала среди быков. Взмахивала вилами, белокурая, сильная, нагибалась и выпрямлялась. Будто перебегала среди гранитных, зализанных глыб – огромных бычьих спин и гладких, взбухавших боков. Она приговаривала, ласково усмехалась, а они угрюмо и мрачно подымали головы в кудрявых загривках, следили за ней розовато-черными тяжелыми глазами.
Андрей Миронович, поглядывая на ее деловито-веселую суету среди звериных лбов, вспомнил картинку, вырезанную из журнала: рогатый бык, озираясь, плывет по пенному морю, и женщина, держась за рога, прильнула грудью к его спине.
«И лицо как у этой Анюты. Доиграется девка!» – подумал он.
– Здравствуйте, Андрей Миронович. – Анюта заметила его. – Не спится вам? Все не доверяете, волнуетесь? Не первый раз. Отдыхали б себе!
Она улыбалась. Белый бык, один среди темных, дышал сединой, смотрел исподлобья розовым оком. Два голубя с изумрудными зобами ходили по бетонной балке над головой у Анюты.
– Габон в подсадные берете? Его, что ль, черед? – спросил директор сухо и строго.
– Габон, Габон! Вон, здоровущий. Да мы знаем, Андрей Миронович.
Текли под сводами, туманя лампы, струи горячего бычьего дыхания и пара. Андрей Миронович, зная каждого бычка, осматривал любовно кудрявые бугры на шеях, короткие тупые рога. Быки скопили в себе слепую жаркую силу. Она тревожила их, распирала, вскипала, как в котлах.
– Что я тебе, Анюта, хотел сказать? – не глядя на скотницу, произнес Андрей Миронович. – Только ты пойми меня правильно… Мне говорили, того… У тебя с электриком, с Василием Стрелковым, чего там творится? Зачем к нему лезешь? Холостых тебе не хватает? У него двое детишек, семья. Зачем воду мутишь?
Андрей Миронович говорил, а сам поражался: неужели это Анюта, через два дома соседка, которую помнит белоголовой, худой, тонконогой, с растрепанной тряпичной куклой и белой косой? А потом она же, посмуглев, повзрослев, в красном галстучке проходила каждый день мимо дома к деревянной школе и раз пронесла мимо окон, гордясь и смущаясь, пшеничный хрустящий сноп, выданный ей в награду. И когда случился пожар и горела изба напротив, она девичьими сильными взмахами выплескивала на огонь слюдяную, розовую от пламени воду. А год назад, когда парней провожали в солдаты, она, чуть захмелев от выпитой чарки, пела высоко и слезно, не стесняясь взглядов соседей, прижималась к плечу красивого Кольки Чупренко.
Анюта выпрямилась, вонзив блестящие вилы в ворох сухих колосков. А он продолжал, стараясь на нее не смотреть:
– Если отобьешь, все равно здесь жить не станешь. Уедешь с глаз долой, от людей. Да и Елена Стрелкова ребятишек в охапку – и обратно к родным, в Тамбов. И в совхозе сразу троих под корень, как не бывало. А мы людей по одному собирали, из кирпичиков хозяйство складывали. А ты в такую цельную семью рвешься!
Анюта взмахнула вилами, резко и зло метнула шелестящий соломенный ворох.
– Вы, Андрей Миронович, побольше слушайте. Чего они вам еще про меня расскажут? Я вам в быках отчетом обязана, а в своих делах отчета вам не даю. У вас на уме-то одни коровы. Как же, совхоз я вам развалила! Ваську-электрика от вас увела. Ребятишек его по миру пустила. Да он сам за мной бегает, не знаю, как отвязаться. Ленка Стрелкова от ревности бешеная, про Ваську и про меня сплетни распускает. Вы лучше в эти дела не встревайте. Вы лучше со своими коровами. Нет у вас семьи, и в семейной жизни вы ничего не поймете!
И она, блестя слезами, оставила вилы, схватила метелку и пошла вдоль быков, смахивая с них соломинки. Голуби сорвались с балки и, острокрылые, розовато-серые, косо пронеслись в дальний край хлева.
Андрей Миронович, огорченный своей неловкостью, резкостью и слезами Анюты, вышел из хлева. Задохнулся от морозного вздоха, острого света звезд. Стоял, подняв лицо к небу.
«Это я-то ничего не пойму? У меня-то семьи не бывало?»
И опять налетели на него дали и дни в синеве амурских проток. В пыльце, разнотравье отражались в воде острова. Из блеска топких низин выбивались лиловые стрелы соцветий, золотые, полые, со шмелями и пчелами Колокола. Вышагивали белые цапли, важно напрягая зобы. Утки взлетали и тут же падали в воду. Он пас скотину – первое, недавно собранное совхозное стадо. Коровы заходили в протоки по брюхо, пили, остывая от зноя, от гудящей мошки. А ему казалось, что и его, и коров, и отсвет высокого облака сносит по огромной реке в синюю, туманную необъятность.
Там, на берегу, строили новую ферму. Его брат Николай, бригадир и плотник, ухватив топор, окруженный смуглыми мужиками, вырезал пазы. Загорелый, появлялся на протоке, стоял в ладье, сгребал его нежно в охапку, дыша табаком, смоляными древесными соками. Говорил, что к осени закончат ферму. Пришлют в совхоз племенных быков. И порода их пойдет по всему Амуру.
Утром приплывали на остров весело гомонящие бабы. Выгружались, звякая подойниками. И среди них Надежда, с золотистыми худыми руками, с девичьим лицом, по которому бегали водяные тени и отсветы. Он старался на нее не смотреть, чтобы не заметили его взглядов другие. Знал, что ночью она придет в его пастуший шалаш из веток. Станет шептать ему горячо и невнятно. А луна будет катиться над протоками, и станет кричать неугомонная малая птица, хлюпать рыба, гореть далеко рыбачий костер. А наутро – коровы в млечном росистом дыму… и она убегает от него по росе, проливая с паутин и поникших стеблей ледяную влагу.
Андрей Миронович все это вспомнил, поразившись силе и свежести памяти. Вздохнул, будто очнулся. Обогнул угол фермы и снова вошел в тепло, в кафельный чистый блеск.
Здесь на тонких штативах горели кварцевые стерильные лампы. Скотник Федор, худой и небритый, затянутый в хрустящий клеенчатый фартук, ополаскивал из брандспойта стены. Готовился к приему быков. Андрей Миронович недовольно оглядывал его угрюмый, заспанный лик, его костлявое, длиннорукое тело. Федор с женой, бездетные, приехали полгода назад из-под Смоленска, гонимые беспокойством, переселенческими ветрами. Но здесь, на Амуре, не прижились. Промотали ссуду, продали корову и теперь, скучая, ссорясь и снова примиряясь на время, стремятся куда-то. То ли назад, в ту свою смоленскую деревушку, виниться, принять на себя насмешки родни и соседей, то ли дальше на восток, к Сахалину, к Курилам, на рыбу. И слышны вечерами из сирого, необжитого дома тягучие смоленские песни, и сквозь окна без занавесок видны их близкие поющие головы.
– Чище, чище мой, чтоб стерильно, – придирчиво и ворчливо сказал Андрей Миронович. – Чего не побрился? Дело свое не уважаешь?
– Я не космонавт. И не летчик, – сумрачно отозвался Федор.
– А лететь, говорят, собрался.
– Это точно. До аванса доживу – и айда.
– И что не живется людям? – с досадой сказал директор. – Квартиру дали. Землю нарезали. Какую землю!.. Оглоблю ткни – тарантас вырастет. На должность определили. Ссуда в кармане. Обзаводись обстановкой, сади сад, живи, как люди живут. Нет, червяк в них сидит. Точит, точит. С юга на север. С запада на восток. И носит их, носит, об разные косяки обшибает, мочалит. Ну что вам ехать, беспутным? Россия велика, весь век промотаетесь. Оставайтесь.
– Да я бы остался. Кланька ехать хочет, – не желая ввязываться в разговор, сваливая все на жену, ответил Федор, не глядя на директора, выводя водяные вензеля на кафельных плитах.
– Я с ней толковал, – не отставал Андрей Миронович. – Она мне другое: Федор, говорит, обратно зовет. Кто ж кого манит, а? Слушай! – стараясь заглянуть в его неласковые, смятенные, бегающие глаза, произнес Андрей Миронович. – А то оставайтесь, а? Поостыньте. Пообвыкните. Здесь же чудо! Амур, трава, рыба. Ну не хочешь на ферме, дам тебе трактор. Подучись и паши! Хочешь «Дэтэ», а хочешь и «Ка-семьсот»… К весне совхоз еще двенадцать тракторов получает. Говорю, оставайтесь. Хорошо заживете. Бог даст, детей народите. У нас тут, на Дальнем Востоке, от воды да от воздуха, знаешь, как дети родятся?
Он смотрел с надеждой на Федора, веря в его возможное счастье. Но тот разбивал о кафель водяные вороха, и горело в его темных, унылых глазах неверие. Желание подняться и с этих невзлюбившихся ему приволий, нестись сам не зная куда, мимо сел, городов вместе с Кланькой своей, с бездетной, беспутной, вздорной, которая дана ему для мыканий и раздоров, но к которой он привязан бог весть какой силой – к ее слезам, к ее песням.
– Не знаю, – сказал Федор. – Должно, уедем.
И отвернулся, худой, небритый, к стерильному свету ламп.
«Не поймешь людей, – без досады, а с печалью, с жалостью к самому себе подумал Андрей Миронович. – Некогда оглянуться. А себя-то я понял? На себя оглянулся? Какая жизнь прожита… Что взял от нее, что отдал? А что и совсем не заметил? Правду Анюта сказала: быки да коровы, да тракторы, да черные земли. Что еще видел? Чем других удивлю?»
Он снова вышел под звезды и двинулся к центральной ферме, длинной, с полукруглой кровлей, похожей на авиационный ангар. Знакомой ему каждым бетонным узлом и балкой, каждым светильником и автоматом. Ибо столько раз наносил ее на чертеж, несуществующую, высчитывал, вырисовывал, наполнял колыханьем рогов, запахом молока и травы.
И вспомнил опять…
Она, его Надя, сидела у коровьего бока, на зеленой траве у воды. И Амур проносил в коровьих рогах свое серебро. Светились подойник, млечные струи, каждый волосок на ее тонких, золотистых руках. А он думал: вот оно, чудо. Чудо ее появления – для него одного. И можно сейчас подойти, почувствовать, как дышит около нее ведро теплой пенистой гущей. Откуда взялись они? Он, и она, и луг, и рогатое, краснобокое диво? Откуда взялись и куда исчезнут?
Их свадьба на первых снегах. Брат Николай, затянув полушубок белизной полотенца, мчит их в маленьких гнутых санках мимо рубленой новой фермы, запорошенного зеленого стога. И быки отзываются ревом на рев баянов. Девки играют в снежки, метят в пролетающие санки. Бабы побросали на снег полушалки, шали и приплясывают, повизгивая, по горящим розам.