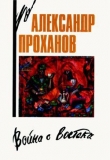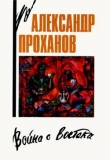Текст книги "Седой солдат"
Автор книги: Александр Проханов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Они прорвали цепь моджахедов. Пробежали мимо подбитого трактора, перевернутой тележки, разбросанных по склону тюков. Оковалков, пропуская бегущих, видел, как выскакивают они на дорогу. Обернулся, метнул гранату, укрылся за трактором, спасаясь от вихря осколков. Вторая его граната взорвалась, когда он скачками перемахивал кювет, ударял подметками в камни дороги. Он видел, как исчезают в гущах «зеленки» остатки группы. Сзади на горе, где они только что занимали позицию, клубилось многолюдное толпище, топтало, палило, сбегало с горы. Останавливаясь, кидая через кювет последнюю гранату, он подумал с ужасом о разгромленной, погубленной группе.
Солнечный, бьющий из неба клин лучей, и он, спасенный, сгубивший группу, бежит по лучу.
Они бежали в «зеленке» прочь от дороги, углубляясь в путаницу виноградников, пересохших арыков, разломанных глинобитных строений. Слышали, как гоняется за ними, отстают, начинают стихать выстрелы, вой, топот ног. Оковалков, приотстав, пропускал вперед спасенных из-под удара разведчиков.
Ефрейтор Бухов, красный и потный, с непокрытой головой, мчался, держа на весу автомат. Прапорщик Крещеных, не расставаясь с пулеметом, прыгал через колдобины, ощеря желтые свистящие зубы. Новобранец Мануйлов, без оружия, месил локтями воздух, по-заячьи скакал, высоко подымая колени. Сержант Щукин, бледный, с яркими синими глазами, бежал, перехватив «Калашников» прикладом вперед. Таджик Саидов гибко и плавно несся в горячих потоках, рукав его куртки «мапуту» был вырван с корнем, виднелось плечо с работающими тонкими мускулами. Капитан Разумовский, топорща золотые усики, жарко дышал, оглядывался, отводил в сторону готовый к стрельбе автомат.
Оковалков пропустил остатки группы. Надеясь увидеть еще кого-то, кто сумел пересечь дорогу, пробиться в «зеленку», выскользнуть из-под истребляющего удара. Но никого не было. Лишь отдаленно звучали редкие выстрелы, и он не желал думать, в кого на горе направлены эти редкие добивающие хлопки. Держал оружие с последним, вставленным на бегу магазином. Знал: если мелькнет догоняющая чалма, если проворные преследователи станут их настигать, он ляжет здесь, среди пепельно-серых рытвин и колючих узловатых лоз, и будет отстреливаться, сдерживать преследователей, давая уйти остальным.
Но погони не было. И он снова бежал, держа перед собой автомат, видя, как скачет далеко впереди Разумовский.
Они миновали сквозной безлистый сад с растресканными стволами, на сломанных суках блестел золотистый окаменевший сок. Прошуршали по колючему выгону с горелой травой, в которой белели кости и рогатый череп павшего быка. Спрыгнули в пересохший арык и виляли в растресканном русле, выбивая подошвами прозрачный прах. Проскользнули вдоль обрызганного дувала, за стенкой, подобно сгнившему зубу, высилась разрушенная сушильня. Хрустя по обломкам, задыхаясь от желтой горчичной пыли, пробежали сквозь мертвый кишлак с рухнувшими куполами жилищ. Процокали по каменному кладбищу, где в ломкие сланцы надгробий были втиснуты корявые палки с линялым зеленым тряпьем. Вынеслись на хлебное поле с неубранной пшеницей и мчались, осыпая зерна из редких, чахлых колосьев.
Они бежали по «зеленке», некогда цветущей плодоносной равнине, где в садах, виноградниках тянулись золотистые гончарные селения, в рукотворных колодцах копилась прохладная влага, на крохотных аккуратных полях зеленел молодой рис, пламенел цветущий мак, горели желтые чаши подсолнечника. Множество умелых терпеливых рук перетирали темные комочки почвы, разминали, лепили, рыхлили.
Над «зеленкой» пролетали самолеты, сбросили бомбы, сожгли сады и дувалы, разорвали под землей корни растений, сдвинули и закупорили подземные водные жилы, раздробили в крупу кишлаки, спалили в жарких взрывах кислород воздуха, и долина превратилась в луну, мучнистую, серую, где мучительно погибали остатки жизни – насекомые, семена, бактерии, пыльца цветов. Равнина, залитая солнцем, накалялась, как тигель, стерильная и сухая, и они бежали по луне, и обгорелое корявое дерево отбрасывало черную корявую тень.
Он заметил, как Щукин стал отставать, ноги сержанта передвигались все медленней, и скоро Оковалков бежал рядом с побледневшим задыхающимся сержантом. Его запекшийся рот просипел:
– Не могу!.. Упаду!..
– Еще немного, Щукин!.. – Майор подхватил его за пояс, подтолкнул, сообщая ему часть своей силы, чувствуя работу его усталых спинных мышц, пугаясь, что он может упасть. – Еще немного, и оторвемся…
Сержант кивнул, слушая свое ухающее, уставшее сердце, тяжело бежал, шаркая по земле.
Оковалков вдруг испытал страх за этих бегущих с ним рядом людей. Он, уцелевший в бою командир, потерявший группу, должен уберечь оставшихся, привести их живыми обратно.
– Милый, Щукин, давай!.. Оторвемся и отдохнем!.. – Он обнимал сержанта, толкал его вперед, отдавал ему свои силы.
Они убегали от смерти, имевшей образ разномастной толпы, растрепанных одеяний, косматых бород. Спасались в зарослях, рытвинах, лабиринтах развалин, но земля и природа, в которой они хотели укрыться, были чужими и враждебными. Изуродованная самолетами земля не укрывала их, а была наполнена незримыми энергиями вражды. И эти духи вражды тоже таили смерть. Майор на бегу озирался, вглядывался в каждый поломанный ствол, в каждый глинобитный пролом, чувствуя близкую смертельную опасность.
Но если недавняя прямая угроза смерти вынуждала их к единственно возможному – спасению бегством, то эта, неявная, вовлекала в сложное чуткое противоборство, в котором была возможность уцелеть. Он бежал, замыкая остаток группы, готовый обернуться, ударить в преследователей, расходуя последний неполный магазин, давая уйти остальным.
Мышцы его упруго работали. Кости ходили в суставах. Сердце толкало кровь. Дыхание сжигало воздух. Вся его сила, выносливость, упрямая воля и ум были подчинены одному – бежать самому и других заставлять бежать.
Теперь, на бегу, когда погоня отстала, он мог обдумать случившееся. Неверная, выбранная в потемках позиция. Ошибка генерала, сулившего малый, слабо охраняемый караван. Фонарный лучик в развалинах, где укрылся сотенный отряд моджахедов. Второй многолюдный отряд, притаившийся в другом кишлаке. Нервный припадок Мануйлова, обнаруживший выстрелом группу. Оторванная голова радиста, подкатившаяся к самым ногам. Петерс с дырой в лице, упавший на разбитую рацию. Старший лейтенант Слобода, в тоске и безумии решивший уйти через гору. Грузины, обнявшиеся в смерти. И снова в неверном свете луны ошибочно выбранная позиция.
Пот лился, как жаркое масло. К ладони прилипло теплое цевье автомата. Мелькала пепельная, без травинки, без капли росы земля. Этот бег был, как бред, как бег в забытье. И он, отупев, с остекленевшими, немигающими глазами бежал, повторяя многократно одни и те же движения рук и ног, сипло дышал, глядя, как мелькают впереди подошвы сержанта.
В этом сне на секунду ему показалось: он мальчик, бежит по белой, теплой дороге. Вокруг розовый спутанный клевер, мохнатые, в пчелином гудении головки. Через дорогу – плоский ручей, ноги в льдистой воде, на лице холодные брызги. Бузина на заросшем кладбище, красные ягоды, узорные с письменами кресты. И из зеленой прохладной пшеницы поднимаются серебряные кровли деревни.
Очнулся. Бег по афганской «зеленке». Под ногами хрустят черепки. Едкая горчичная пыль. Земля, над которой пролетели самолеты.
– Стоп!.. Встали!..
Разумовский замедлил бег, остановился, подымая и опуская плечи. Все сгрудились, дышали, стирали пот, запаленные, затравленные. Щукин упал на колени, ткнулся лицом в землю, лопатки его ходили ходуном.
– Оторвались!.. Передых!..
Они озирались во все стороны. Их руки сжимали оружие.
Кругом, как высохшая шкурка с колючками шерсти, топорщился виноградник. За ним безжизненно и серо, обнесенные растресканны-ми валами, тянулись поля. Но дальше зеленел ломтик живого поля, за ним виднелся неразрушенный глинобитный дом с полукруглой кровлей. Арык, который питал изумрудный клочок земли, был черный, влажный от недавно пробежавшей воды.
– Пить! – сказал Мануйлов, облизывая коричневым прокушенным языком шелушащиеся губы. – Нутро горит!..
– Там небось в доме колодец, – сказал Бухов, сплевывая рыжую, как желчь, слюну. – Говорил, не надо фляжки у людей отнимать! – И он зло взглянул на Разумовского, который ночью успел отобрать фляжки, зарыл их в землю, сохраняя запас воды. – Надо в дом смотаться!
– Разведать надо! – Саидов обратил к дому похудевшее, с провалившимися глазами лицо, словно внюхивался в отдаленное строение, улавливал запахи воды, пищи, скрытых за дувалом людей. Старался учуять опасность.
– Тут через «зеленку» канал проходит, – сказал Крещеных, не выпуская пулемет. – Дойдем до канала, ночью по нему до бетонки сплавимся.
– «Вертушек» ждать не приходится. Без связи на своих двоих будем топать, – Разумовский выдирал из усов катушки грязи.
– Пить! – ворочая зазубренным языком, повторил Мануйлов.
– Пойдем в дом, – сказал Оковалков. – Крещеных, Бухов – с левого фланга… Саидов, Щукин – с правого… А мы, – он кивнул Разумовскому, – в калитку… Щукин, подъем! – грубовато-бодрым окриком он поднял лежащего сержанта, заметив, какое белое с синим отливом у него лицо.
У калитки, вмурованной в глиняный монолит, Оковалков приложил ухо к корявым доскам. Легонько надавил плечом. Калитка раскрылась, и вслед за автоматным дулом он бесшумно скользнул в квадратный двор. Отпрянул, давая место Разумовскому, готовому стрелять навскидку.
Двор был пуст. У ограды лежали аккуратные кучки хвороста. В землю были вмурованы глиняные сосуды. В тени стояла двуколка с опущенными оглоблями. Из-за глиняной стены виднелась купольная кровля дома с маленькими темными продухами. Глянцевито поблескивала листва дерева.
– Кто-то есть, – одними губами произнес Разумовский, ступая на кучу сухого навоза, щепок и птичьих перьев.
За стеной раздавался лепет ребенка, женский смех, плеск воды. На этот желанный плеск, ведя автоматной мушкой, устремился майор, подступая к деревянным синим воротцам, врезанным в ограду.
Они ворвались на внутренний двор одновременно: Оковалков, ударив ногой воротца, Бухов, перемахнув через дувал, Крещеных, пробежав по кровле дома, ухнув на землю со своим пулеметом.
Они увидели выложенную плитками землю, маленький в каменном обрамлении колодец, черноволосого крохотного ребенка в красном платьице и молодую женщину, голую по пояс, склоненную над тазом, обливающую себя водой. Ее смуглые груди колыхались, блестели, мокрая кудель под мышкой слиплась, платье, расстегнутое и опущенное к бедрам, потемнело от воды, черные волосы, спадая, касались овального таза и медного, с высоким горлом кувшина.
Она распрямилась, глаза ее сквозь опавшие смоляные волосы начинали мерцать ужасом, а округлый, с темным пупком живот сотрясался от крика.
– А-а-а! – кричала она, хватая за руку ребенка, отступала и пятилась, опрокинула медный кувшин. – А-а-а! – топотала она маленькими голыми ступнями, двигалась к низенькой арке, отступая от потного огромного Бухова.
Тот медленно, автоматом выдавливал ее прочь со двора, пока она не исчезла в арке, и оттуда все раздавался, не замолкал ее крик.
– Пусто, командир! – сказал Крещеных. – Только баба одна. Дом осмотрел. – Он опустил пулемет и направился к колодцу, и все окружили маленький с близкой водой колодец.
Крещеных зачерпнул кувшином, протянул медно-пятнистый узкогорлый сосуд, отекающий капелью. Отворачивал от него свое щетинистое, с обвисшими усами лицо, красные, набитые пылью глаза.
– Ну бери кто-нибудь!
Первым, торопясь, стыдясь своего нетерпения, схватил кувшин Мануйлов. Сунул в узкую горловину рот, не достал воды, наклонил, проливая плещущую блестящую воду. Стал пить, лакать, захлебывался, кашлял, снова пил, высовывая быстрый ненасытный язык. Он был похож на собаку, и казалось, он пьет и плачет.
Следом пил Щукин, медленно, взасос, припав к медной горловине, тянул, вдыхал, всасывал в себя холод, влагу, пропитывался ею, хмурил от страдания и наслаждения брови. Отяжелел, осовел от воды, не мог больше пить ртом и, отведя кувшин от губ, все еще продолжал пить глазами.
Таджик Саидов наливал из кувшина маленькие аккуратные горсти. Промыл себе глаза, уши, губы. Захватил воду в рот, прополоскал и выплюнул блестящую струйку. И лишь потом, подготовив себя к воде, начал пить маленькими глотками, не проливая, по-птичьи дергая смуглым упругим горлом.
Бухов пил шумно, чавкал, бурля водой в зубах. Лязгал резцами по медному кувшину, словно грыз его вместе с водой. Его раскаленная плоть шипела, остывала, наполнялась упругой силой. На щеках заиграл румянец, и он, почерпнув из колодца, вылил себе кувшин на голову, тряхнул короткими волосами, сбрасывая с них мелкие брызги.
Крещеных пил мало, зло, издавая свистящий звук, словно стонал, ненавидел воду, кувшин, чужой колодец. Напившись, ополоснул свои толстые волосатые руки, промыл цевье пулемета, липкое от пота и грязи.
Разумовский пил с наслаждением, щурил синие глаза, закрывал их, словно пел. Его усики, орошенные водой, снова ярко, золотисто заблестели. Он их облизывал, словно вода, пропитавшая усы, была сладкая, медовая.
Оковалков пил последним, чувствуя, как падает ему внутрь холодная тяжелая струя, и оттуда, изнутри, холод и свежесть начинают проникать в грудь, в плечи, в пах, в колени. Топка, в которой клокотали его ужас, несчастье, растерянность, начинала остывать, и в остуженном сознании открывалось место для спокойной уверенной мысли: они спаслись, уцелели, и теперь наступила для него, командира, возможность выиграть вторую, завершающую часть боя: добраться к своим, одолеть невидимую, присутствующую рядом опасность.
Они отдыхали, сидя в тени ограды, глядя на глянцевитое дерево, на ветхое крылечко дома, на медный, стоящий на влажных плитах кувшин.
– Бухов, пойди оглядись! – приказал Оковалков, извлекая из кармана сложенную, засунутую в целлофан карту. – Погляди на окрестность! – отсылал его майор, направляя за пределы двора, где вдоль арыка и зеленого поля вилась дорожка.
Они склонились с Разумовским над картой. «Зеленка», в которой они оказались, тянулась непрерывной, расширявшейся долиной, откатываясь от гор. По этой долине была прочерчена синяя линия, дважды изломанная под углом. Канал, прорытый среди кишлаков и полей, питал равнину. К нему надлежало им выйти и, следуя вдоль русла, под покровом ночи, выбраться к трассе, по которой днем двигались военные колонны, стояло боевое сопровождение.
– Километров тридцать будет, – сказал Разумовский, поглядывая на солнце, определяя направление на канал. – Часов шесть протопаем, доберемся.
– Базовый район доктора Надира, – сказал Оковалков, проводя на карте овал, который предстояло им пересечь.
Среди развалин, бомбовых воронок и зарослей были проложены едва заметные тропы, таились наблюдательные и опорные пункты. В разгромленной, лишенной мирных обитателей «зеленке» продолжалось движение вооруженных групп, велось наблюдение, происходили стычки и примирения. Непоседливые вспыльчивые полевые командиры делили зоны влияния.
– Если не напоремся на дозор, к вечеру выйдем к каналу. Хочу тебя попросить, – Разумовский тронул его за рукав, и голос, которым он это сказал, был умоляющий и печальный. – Прошу тебя, если меня подстрелят, дотащи до части. Не хочу здесь тлеть. Пусть дома похоронят. Обещаешь?
Оковалков не ответил. Разумовский не повторил свою просьбу. Она была неуместна, была в нарушение правил. Не об этом надлежало им думать.
Оковалков начал складывать карту, засовывая ее в прозрачный пакет, когда услышал за оградой женский вопль. Крик был истошный, захлебнулся, опять разразился.
Майор вскочил, увлек за собой Разумовского. Опережая их, враскоряку, выставив пулемет, метнулся к арке Крещеных. Они одновременно, втроем, очутились на соседнем подворье.
На земле, завалив женщину, дергался, вращал голым задом Бухов. Сидя на земле, орал и плакал ребенок. Вдоль изгороди сильными скачками подбегал молодой афганец, занося для удара кетмень. Все свершалось одновременно – дрожали разодранные врозь женские голые ноги, ходили вверх и вниз незагорелые ягодицы Бухова. Афганец, оскаля белые зубы, наотмашь вгонял в стриженую макушку Бухова отточенный о землю блестящий кетмень.
Металл, прорубая кость, погружался в глубину мозга, выдавливал из головы черную жижу. Смерть, проникая в Бухова, породила в нем последний, встречный взрыв жизни. Он забился, затрепетал, и Крещеных от живота длинной хлещущей очередью перестрелил пополам афганца. Надвигался на него, продолжал стрелять, разворачивая в нем огромную лохматую воронку.
Женщина, голая, мотая грудями, сбросив с себя мертвеца, стояла, залитая слизью, мозгом и кровью. Убитый муж и насильник валялись лицом к лицу.
– Погань!.. Жопа баранья!.. – сказал Крещеных, отводя пулемет, устало, на полусогнутых ковыляя обратно к колодцу.
Кинул пулемет на землю, окатил себя из кувшина водой. Здесь больше нельзя было оставаться. Пулеметную очередь слышали в «зеленке», и сюда уже мчались разведчики.
– Берите его! – приказал Оковалков подошедшим Мануйлову и Щукину.
Вчетвером за руки, за ноги они вынесли Бухова со двора, пронесли вдоль арыка к пепельному, с черными охвостьями полю.
– Клади сюда! – показал Оковалков на край поля, огражденный невысокой лепной стеной.
Бухова положили. Он тяжело уронил руки, завалил голову. Мануйлов натянул на него штаны, закрыл перепачканные мокрые бедра. Оковалков ударил подошвой в стену. Сухая глина рухнула, завалила Бухова. Щукин и Мануйлов набрасывали на тело комья спекшейся почвы.
Майор достал карту и крестом отметил место, где засыпали Бухова. Сюда, к этому полю, если они выберутся живыми, он посадит вертолет и заберет труп. Пряча карту, глядя на груду земли, Оковалков заметил пробежавшего и замершего на кромке земли серого паучка: маленький божок, соглядатай «зеленки», ведающий обо всем.
Они уходили, торопясь, не оглядываясь, оставляя на хуторе женщину с убитым мужем.
Смерть не отпускала их, неслась за ними в пустом серо-синем небе, не оставляя тени, всматриваясь в каждого. Выбрала Бухова. Позволила ему уцелеть на горе, выбежать из-под пуль, а потом догнала, вселилась в него похотью, проникла в семя и убила его. Еще теплый, он лежит на чужом поле, засыпанный чужой землей, и его мать и отец, не ведая об этом, толклись в повседневных хлопотах в маленьком городке, и ничто не подсказывало им в эту минуту, что сталось с их сыном.
Так думал майор, тупо шагая, понимая, что не он составляет план спасения группы, а кто-то иной, всемогущий, не злой и не добрый, знающий все наперед, вписывает их в свой замысел.
Он шел впереди вместе с Мануйловым, который после гибели Бухова обрел автомат. Остальные четверо приотстали, и майор то и дело оглядывался, пересчитывал их, боясь потерять.
Солнце пекло. Снова хотелось пить. В садах, которые они проходили, не было тени. Безлистые корявые ветви пропускали жалящие лучи. Земля сквозь носки и подошвы кроссовок жгла ступни, словно близко под пепельной почвой горел угрюмый огонь.
Они миновали старое кладбище, поросшее колючками. Казалось, кто-то цепкий хватает их из могил, и на брюках, на носках оставались сухие впившиеся семена, как метки, по которым их можно отыскать.
Они проходили поле с воронками от бомб, и в каждой дергалась лиловая горячая плазма, сохранившая температуру взрыва.
Иногда они натыкались на едва заметные тропки и тут же старались от них удалиться. На этих тропках мог внезапно появиться разведчик в чалме и чувяках. Его нельзя было убить – исчезновение разведчика могло разбудить и встревожить всю млеющую, сонную под полуденным зноем «зеленку». Из невидимых нор, из развалин, из подземных колодцев – кяризов станут выскакивать бородатые вооруженные люди, искать убивших разведчика.
Над камнями, сухими руслами, руинами кишлаков струился стеклянный воздух, колебал очертания, отстаивал, выпаривал их в небо. Словно реяли души убитых, тех, над кем пролетели самолеты.
Голова гудела, мысли кипели, как в завинченном перегретом котле. Виделась мать, вернувшаяся с мороза домой, занесшая в теплую комнату запах снега. Вспоминался их дом, темный на белом снегу, и заснеженный до крыши дровяной сарай. Появлялось забытое лицо соседской девушки, ее маленькие валенки, оставлявшие на снегу вереницу следов. И тут же возникали раздвинутые, в конвульсиях, колени афганки, раздвоенный, сотрясаемый зад Бухова.
Он оглядывался: пересчитывал тех, кто шагал следом. Вел к каналу, сопрягая спасение с этой прохладной водоносной струей. Вдали, за горячим волнистым полем, среди струящихся студенистых слоев, вдруг возник человек. Огромный, до неба, в шароварах, в чалме, в развеянной накидке. Шел, не касаясь земли, нес на плече гранатомет. Мираж подхватил на далекой тропе стрелка, увеличил, поместил в слои стеклянного воздуха, перенес на волнистое поле. Огромный размытый моджахед, прозрачный для света, шел, струился, исчезал в садах и арыках.
Они шли разоренным селением среди щебня и глины. Кишлак с обрушенными куполами, сломанными стенами, остатками фундаментов был похож на раздавленную ракушку, в которой умер и высох моллюск. Мануйлов, тощий, измученный, переживший свой первый бой, испытавший ужас, разговаривал, подбадривая себя разговорами.
– Бухов – он все о женщинах говорил… Одно на уме было… Официантке деньги носил… Ночами спать не мог… А ведь у него в Союзе девушка есть… Он ей письма нежные слал… Ларисой зовут…
Оковалков вдруг подумал – семя, брошенное Буховым в момент своей смерти, оплодотворит женщину, она родит, рожденный станет жить в этой афганской «зеленке», и какие видения, какие сны будут мучить его, рожденного от семени мертвого?
– У меня девушки пока нет, – продолжал Мануйлов, не требуя ответа, благодарный за то, что ему позволяют говорить. – Я с одной дружил, на математической олимпиаде познакомились. Задачку ей помог решить. Сначала встречались, а потом она говорит: «Ты еще маленький!»
Оковалков запнулся – шнурок на кроссовке развязался, попадал под ступню. Надо было остановиться, завязать шнурок. Но не хотелось прерывать движение, останавливаться в этом разбитом, посыпанном рыжей пудрой кишлаке, где в развалинах темнели норы от погребов и фундаментов.
– Я марки собираю… Домау меня коллекция марок, хорошая!.. Мама в газетном киоске работает, марки мне достает… Сюда прибыл, думал, афганских марок достану… Ни одной!.. Что у них, почты нет? Как же они письма друг другу шлют?
Шнурок цеплялся и путался. Майор, останавливаясь, припал на колено, стал шнуровать кроссовку, отпуская от себя Мануйлова. Под кроссовкой, которую он шнуровал, лежал в пыли черепок, белый с голубым завитком, от какой-то расколотой чашки. Мануйлов удалялся, и было слышно, как он говорит:
– Я в дукан захожу, спрашиваю: «Марку мне дайте!» А он смотрит, не понимает…
Его уже не было слышно, он ушел далеко вперед, и майор, затянув шнурок, подцепил голубой черепок, стал подниматься.
Впереди, где шагал Мануйлов, метнулась бледная вспышка, рванул тугой удар копоти. Солдат взлетел вверх, как кукла, раскинув ноги и руки. В лицо Оковалкову ударила плита спрессованного горячего воздуха, пахнуло зловоньем взрывчатки, и он не видел, как рухнул Мануйлов.
Разумовский, Крещеных кинулись, обгоняя его, к месту взрыва. Рваная лунка была полна вялого дыма. Мануйлов лежал лицом вверх, и лицо было сломано, со сместившимися осями симметрии, содранным скальпом, выпученными, выдавленными из черепа глазами. Весь он был скомкан, с переломанными костями, в лепестках и полосках одежды. Не было крови, словно страшный толчок свернул в жилах кровь, и она отвердела, остановилась в едкой химии взрыва.
Все стояли, оторопело смотрели.
– Намины сели!.. Осторожно, командир, слева растяжка! – Крещеных, отступив, указывал на тончайшую паутинку, протянутую над камнями. – Мануйлов растяжку рванул!
Оковалков отводил глаза от изуродованного тела, старался рассмотреть паутинку. Желтые руины и рытвины были заминированы. Тонкие стальные волоски невидимо опутывали пространство, и каждый неверный шаг мог стронуть взрыватели, замкнуть контакты, и все они, окруженные взрывами, превратятся в мешки с костями. Оставшиеся в живых, ослепшие, с оторванными конечностями, поползут, нащупывая сквозь дым убитых товарищей.
– Надо двигать отсюда! – озирался Разумовский, поводя автоматом. – Взрыв далеко слыхать!.. Берите его Щукин, Саидов! – он кивнул на Мануйлова. – Вон в дыру запихните!
Они подняли дряблое, гнущееся во многих местах тело. Скальп, как берет, съезжал на затылок Мануйлова. Крещеных шел впереди, просматривая под ногами землю. Тело запихнули в глубокую щель, под рухнувший свод. Майор, разжав кулак, увидел в ладони черепок с голубым завитком. Машинально кинул его в темный глубокий провал, где скрылось переломанное тело Мануйлова.
– Уходим, быстро!.. По развалинам! – Разумовский указал автоматом сквозь руины, напрямик, минуя заминированный проулок. – Держать дистанцию!.. Двадцать метров!.. – Он шагнул на груду желтого щебня.
– Погоди, капитан! – Крещеных ловко, по-звериному, пружиня носками, готовый отскочить от любого взрыхленного бугорка, кинулся к месту взрыва. Подхватил брошенный, с расколотым прикладом автомат. Достал гранату. Вырвал кольцо. Мягко двигая волосатыми ручищами, стал прилаживать взведенную гранату под лежащий автомат. Накрыл ее сначала камнем, прижимая к земле, а затем сверху положил автомат. Прапорщик, умелый вояка, ненавидящий, неутомимый, прорубивший пулеметом путь к отступлению, разваливший надвое афганца с кетменем, не мог так просто уйти, оставив удачливым минерам изуродованное тело Мануйлова.
Оковалков знал хитрости и ловушки минной войны. Не мешал прапорщику, ждал его возвращения. Думал: какие слова произносил Мануйлов в момент, когда его растерзало взрывом? Какая сила остановила его, майора, заставила шнуровать кроссовки, уберегла от фугаса? Смерть, с которой он вел в «зеленке» борьбу, уже дважды его победила – убила ефрейтора и солдата, но пощадила его. Берегла для какой-то скрытой, неясной цели, давала ему выжить. Продолжала вести по заминированным садам, ведя ему вслед тонкое перекрестье прицела.
Крещеных вернулся, отряхивая ладони в желтой глиняной пудре:
– Пусть автоматом попользуются… Пусть постреляют…
Они двинулись сквозь развалины, осыпая ногами ручейки пыли, боясь прикоснуться к земле. Майор замыкал их малую, поределую группу. Вдруг услышал в стороне слабый звяк и звон хрустнувшего под стопой камня.
Свистящим направленным шепотом он остановил идущего впереди Щукина, и вся группа замерла, обернулась, собралась к нему. Они прижались к дувалу, глядя сквозь щель на проулок, где темнела воронка от взрыва и плоско лежал автомат.
Звук опять повторился – звон тонкого ломкого камня, на который наступила нога. Через проулок, сквозь солнечное пустое пространство, на соседних развалинах мелькнула чалма, смуглое лицо, край голубоватой накидки, свившейся налету в завиток.
Крещеных держал в кулаках пулемет, готовый ударить в пролом. На лице его сквозь щетину и грязь было острое терпеливое ожидание. Сощуренные злые глаза не отрывались от заминированного автомата. Он был охотник, поставивший ловушку, и зверь был рядом, ходил кругами вокруг наживки.
Опять зашуршали камни. Из развалин показался афганец. Оглядывался чутко, готовый шмыгнуть обратно, похожий на мышь, выглянувшую из норы. Он осторожно спустился к проулку и не прямо, а по сложной, извилистой линии стал приближаться к воронке. Земля была заминирована, начинена фугасами, и он, знавший проходы, выбирал безопасный маршрут.
Остановился посреди проулка, отбрасывая короткую черную тень. Поднял вверх руку и пальцами издал трескучий щелчок. На этот звук и сигнал из пролома показался второй афганец, мальчик, босой, с непокрытой головой, в легкой курточке-разлетайке. Юрко и смело, повторяя тот же извилистый путь, он пробежал по проулку и встал рядом с первым. Они что-то негромко обсуждали, высматривали вокруг, стараясь угадать причину взрыва, найти подорвавшегося.
Это были минеры, чьи ловкие пальцы из двух деревянных дощечек и консервной жести изготовляют контактные платы, вживляют их в пыль дороги, в гравий обочины, в колею «бэтээров». Взрыватель из батарейки и медных проводков приводит в движение вмурованный в землю фугас, разрывает надвое стальной транспортер, отламывает башню у танка, превращает в росу оступившегося человека.
Минеры стояли посреди сооруженного ими минного поля, осторожно оглядывались. Старший, поводя носом, словно принюхиваясь, безошибочно угадал расселину, где таилось тело Мануйлова. Пошел к развалинам, аккуратно ставя ноги в чувяках. Оковалков смотрел, как он приближается, какое узкое большеглазое у него лицо, худая шея, на которой блестела цепочка. Он уже нагибался, заглядывал в черную щель, где лежал убитый Мануйлов, когда мальчик подбежал к автомату, схватил его, и тут же под руками у него ахнул взрыв. Он упал, накрывая животом комок пламени. Маленький, босоногий, набитый осколками, слабо, в последних конвульсиях перебирал и сучил ногами.
Первый тонко вскрикнул, хотел бежать к месту взрыва, но Крещеных молниеносно, как тень, метнулся к нему, сбил на землю, схватил за шиворот, вволок в развалины. Ударил затылком об окаменелую глину, тряс, брызгая ему в лицо слюной. Глаза прапорщика, ненавидящие, желтые, смотрели в черные, полные ужаса глаза афганца.
– Что, сука, сладко?… Сейчас ты у меня, сука, будешь землю есть! Зубами из земли фугас выгрызать!..
Он тряс его, ударял затылком о глину, и в глазах афганца был черный блестящий ужас.
– Отставить! – Оковалков перехватил ударяющую руку прапорщика. – Саидов, спроси его, где проходы в минах!.. Некогда!.. Уходим!..
Саидов наклонился к афганцу. В лице таджика было сложное выражение страха, враждебности и сочувствия. Минер, услышав речь на родном языке, потянулся к Саидову, заговорил, залепетал, вращая слезными глазами, показывая через стену, о которую его бил Крещеных, на проулок, где скрючился, слабо шевелил ногами босоногий мальчик.
– Говорит, это сын!.. Говорит, надо взять, помочь!..
– Ты сам сучий сын! – рванул его за цепочку Крещеных, разрывая мягкий металл. – Всех вас с выродками бензином облить!.. Говори, падла, где мины ставил! Где проходы!..
Он ударил минера кулаком в лицо, вдавил его ударом в стену.
– Отставить!.. Убьешь! – прервал его Оковалков. – Саидов, спроси где проходы!
Таджик говорил, а афганец, оглоушенный ударом, водил глазами, прислушивался, тянулся туда, где на солнечном горячем проулке умирал его сын.