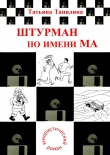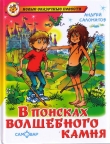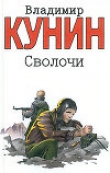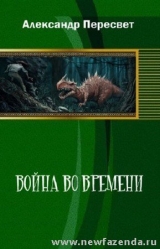
Текст книги "Война во времени"
Автор книги: Александр Пересвет
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Надо будет спросить попозже, решило нечто любознательное в мозгу Алины.
А пока воин приглашал их как раз к костру. Там уже сидел вождь, и несколько мужчин располагались возле него. Явно ждали завтрака. Ну, а пока внимательно глядели на приближающихся вроде как под конвоем детей.
Но угрозы ни от кого не исходила – Алина бы почувствовала. Просто эти люди на них смотрели. С любопытством. Причём лица были странно неподвижными. Словно мимика была им чужда.
И, кстати, теперь, в свете начавшегося дня, они уже не казались страшными, эти неандертальские лица. Грубые – да. Но зато и сильные. Именно так: сильные. Волосатые-бородатые, конечно, но не дикие.
Кстати, и фильмы всякие про первобытных людей всё врали. Не было у них неухоженных грив. Уж как и чем они тут брились и стриглись, неизвестно, но волосы то ли как-то обрезались, то ли не росли дальше некоего предела. При этом понятие причёски неандертальцам было явно не чуждо: у каждого волосы заплетены особым индивидуальным образом. У кого косичка прямо на темечке, у кого хвост, у кого кожаные полоски в причёску вплетены. Особенно забавным был один из воинов: у него висело два хвостика по бокам. Как у девчонки. В сочетании с бородой очень свежо смотрится…
Вождь понятным жестом пригласил детей присаживаться рядом. От костра пахло одуряюще. Кто говорил, что древние жрали сырое мясо, грубо обжаренное на огне? Здесь был самый натуральный бефстроганов – маленькие кусочки, пропечённые на раскалённом камне. Ничего себе, первобытная «сковородка»!
А переворачивали эти кусочки вполне по-японски – длинными тонкими палочками. И ели тоже с их помощью.
О, это хорошо, обрадовался Саша. Он как раз недавно разучил в суши-баре, как правильно зажимать в пальцах эти неудобные орудия. Должно и здесь получиться…
Кстати, на сей раз по отношению к Алине никакого пренебрежения уже не демонстрировалось. То есть местные женщины тусовались где-то на заднем плане – совершенно молча. Но девочке без звука вручили палочки и предложили приступать к трапезе.
Вот после неё – ужас, как невкусно, когда вместо соли мясо посыпают пеплом от костра! – и начался первый урок местного языкознания.
Вообще, если привыкнуть, язык неандертальцев был несложен.
Во-первых, звукоподражание.
Трава – «шишшр». Будто шелестит при ходьбе. А «идти по траве» – «шшифф». Вроде как шелестишь. Причём именно – по траве. Идти, скажем, по лесу обозначалось иначе – «уширфф».
Деревья – «ширгр». Шуршат, перевёл для себя Саша. Точнее, деревья были – «арширгр»: приставка «ар» означала множественное число. Которое начиналось после цифры двадцать: всё, что превышало количество пальцев на руках и ногах, было – «много».
Кстати, отдельно, в единственном числе слово «дерево» не употреблялось: неандертальцы, как оказалось, были ребятами конкретными, и каждое дерево у них несло отдельное название. К примеру, сосна обозначалась словом «борк», и слово «ширгр» для неё не подходило. И «много сосен» назывались «арборк», но никогда – «арширгр». Зато «деревья» и «лес» обозначались одним словом.
Река была «фис», но озеро, находившееся недалеко от становища неандертальцев, называлось «вода, которая стоит» – «вар-тиит». То есть вода была отдельным понятием, а река, получается, – другим. А «вар» заодно значило и «пить». И таким образом «озеро» можно было перевести вообще как «пьющееся, которое стоит».
Во-вторых, в этом языке была простая грамматика. Указывалось направление: вперёд или назад, вправо-влево. Это же касалось и времён. То есть, «пойдём охотиться» – конструировалось примерно как «(множественное число) идти – вперёд – (множественное число) зверь»: «ар-тон-ра-ар-гыбр». А «вернулись с охоты» соответственно: «ар-тон-ба-ар-гыбр». «Идти-зад-зверь». А если с добычей, то: «ар-тон-ба-дарр». Почти «дар». Забавная похожесть с русским смыслом. Означает – «тяжело». А «тяжело» – слово, которое означает вообще всё хорошее.
Кстати, какое-то нездоровое у них тут пристрастие к звуку «р», подумала Алина. Правда, слово «птица» обозначалась чем-то похожим на «чьювить» с прищёлком на конце. Но это как раз было совершенно понятно – то самое звукоподражание, бывшее основой неандертальского языка.
А принадлежность обозначалась изменением звука. То есть притяжательность, по-грамматически если сказать. Она фиксировалась изменением коренной гласной на «у», если в корне был звук «о» или «а», и на «ы», если там был другой гласный звук. Например, «камень» был «рог», но «каменный» – «руг». А «каменные» – «ар-руг».
Тут, кстати, заодно и выяснилось, как называют себя местные. Оказывается, «каменные люди» они назывались: «арруг». А молчаливого парня, поначалу с подозрением смотревшего на нежданных гостей, звали, следовательно, «Камень». А вождь был носил имя попросту «Сильный»: Кыр через «кир» – «сила».
В общем, заучи сотню слов, и спи спокойно, что называется.
И, наконец, третьим важным элементом общения была жестикуляция. Без жестов некоторые фразы были бы даже не то что непонятны – но приобретали неверный смысл. Скажем, жестами обозначалось «больше – меньше». Ими, естественно, указывались направления. Ими указывалось количество. Ими указывалась принадлежность.
Словом, это была дополнительная система в языке. Но как ни странно, она только облегчала общение – стоило лишь понять систему жестикуляции и выучить смысл тех или иных знаков руками. А потому Алина с удивлением осознала, что уже к концу первого дня общения более или менее начала понимать, что говорят эти люди вокруг. Конечно, с большими огрехами. Ведь и слов многих дети ещё не знали и разучивали на ходу. И жестикуляцией как следует не овладели. Но мир этих людей перестал быть, что называется, беззвучным. Хоть на половину, пусть даже на треть, но неандертальцев стало можно понимать.
И открывать для себя их особый, ни на что не похожий мир…
И ещё одно ощущение присутствовало, когда с ними общаешься. Будто не только слова и жесты доносят до тебя информацию от них. Но ещё чувствуешь и некие эмоции. Настрой. Отношение.
Вот как в начале, во время первой встречи в пещере – буквально видно было, как исходила от неандертальцев волна страха и неприязни. Хотя ведь ни слов соответствующих тогда не говорилось, ни жестов почти не было. Разве что копья у самого носа плясали…
Но затем пришло другое ощущение. После рассудительных, примирительных слов Сашки пошло от здешних… можно это назвать излучением? – излучение недоумения и интереса. А потом жалости, когда поняли, как худо приходится Антошке. И снова интереса, но уже с симпатией, когда Гуся показал свой спектакль, изображая битву с динозавром.
В общем, что-то такое исходило от этих местных людей. Телепаты они, что ли? Или просто сочетание тона голоса, жестов и мимики внушало понимание чувств, которые владели неандертальцами? Кстати, насчёт мимики. Это тоже зря Алина решила, что тут ею не пользуются. Вполне себе – будь здоров. Иное дело, что не всегда внятные выражения у здешних лиц. Всё же не человечьи. Да и что мужиков касается – они же воины, им, видно, полагается морды камешками держать. Что ж поделать – «каменные» люди…
* * *
А вообще-то, как скоро наладилось хоть какое-то взаимопонимание, выяснилось, что никакие это люди не каменные. Наоборот, очень тёплыми и человечными оказались эти арруги-неандертальцы. Хотя даже трудно было выделить что-то особенное, в чём это выражалось.
Во всём.
Вот, скажем, сидят они, впятером с вождём и двумя охотниками, на пороге пещеры и просто смотрят вдаль. На сине-зелёные горы, уплывающие вдаль навеки застывшими волнами.
Просто сидят. Молчат. Знакомых слов для общения всё ещё не хватает, а простыми не выскажешь того, что сейчас чувствуешь. И в то же время такая вокруг тёплая атмосфера стоит, словно… Вот как в магазине, когда с улицы морозной входишь, а тебя между дверями теплом обдувает…
Нет, не так. Это Алина, конечно, себе внушила. Про тепло и про магазин. Никакого особенного духа тут нет. Но вот сидишь так рядом с этими первобытными людьми, молчишь, и чувствуешь, что тебе хорошо…
От доброты их, что ли?
Как только арруги поняли, что имеют дело не с какими-то монстрами, не с уламрами, а просто с детьми, неведомой силой оторванными от своего дома, своих родителей, своего мира… Оторванных и заброшенных к страшным зверям… А уж Гуся-то, освоившись с местными понятиями, постарался донести и о размерах, и об ужасности «ужасных ящеров»… В общем, чужие дети были приняты арругами в своё общество. Стали для них своими.
Так им и сказали. «Рюди, наш дом – ваш дом». Или что-то в этом роде – тут Аля немного додумала за них. Книжное. Но смысл был ясен. И копьями с Сашкой обменялись, чтобы показать, что тот не просто свой, а ещё и свой мужчина в этом племени.
С Алиной, дали понять, тоже будет что-то вроде удочерения, но тут было непонятно, как, что и когда.
С ними не то чтобы стали предупредительными… Пожалуй, тут такого отношения и не знали. Но относились по-особенному. Например, несмотря, на принятые здесь обычаи, усаживали маленьких гостей в круг охотников вокруг костра. Хотя один был по всем их понятиям ещё мал для присвоения звания охотника. А другая – вообще девочка. И их место, по идее – во внешнем круге. Где сидели женщины и дети, дожидаясь, когда кто-то из мужчин протянет им кусок. Ну, или кость с уже объеденными лучшими кусками.
Так что это было неслыханно вообще для местных обычаев – что девчонке позволили сесть среди воинов. Надо отдать должное Гусе: как он повёл себя в первый вечер, во время первого угощения, так и настоял на своём. Пояснил, что челюсть ту, которая всё ещё вгоняла в оторопь всё детское и женское население арругова стойбища и вызывала почтительный шёпот среди охотников, – челюсть эту они вместе с Алиной добывали. И динозавров вместе убивали. А когда показал, как они сделали пращи и подбили летающую тварь, и что именно Алина подала идею, охотники подвинулись у костра без всякого недовольного бурчания.
К тому же вождь Кыр так распорядился.
Словом, их не только приняли, но приняли как своих и признали заслуги. Невзирая на прежние обычаи.
Между тем, – что не сразу, но отметила Алина – садились тут люди не абы как, а по довольно строгой принадлежности. Мужчины – по определённой иерархии. Женщины – за ними.
На лучшем месте – вождь Кыр. По обе стороны от него – воины видом постарше. Типа, лучшие и опытные. Заместители – хотя, конечно, и такого понятия здесь не знали. Затем так по возрасту и шли – так что напротив Кыра сидел самый молодой воин. Это был Рог.
Вот рядом с ним и усадили Сашу и Алину. Понятно, что не ближе – они теперь самые молодые. А по обычаю здешнему – сидеть ей за Гусей и принимать от него кусочки. В соответствии с принятой иерархией. Ибо за каждым охотником сидела прежде всего его женщина. Или несколько, в зависимости от ранга и авторитета. Женщин тут больше, чем мужчин, а потому семьи, как можно было запросто приметить, на многожёнстве поставлены. Соответственно, и логика была железной: ежели охотник авторитетен, то получает достаточно мяса, чтобы иметь возможность поделиться с двумя-тремя жёнами и соответствующим количеством детей. А если ты свой авторитет большим количеством добычи не укрепил, то и еды у тебя на семью не хватит. Зато как только хватит – тут тебе и подругу выдадут.
Вот только по любви это будет или так, как старшие прикажут, – этого Алина за один первый день не очень внятного общения выяснить, конечно, не сумела.
В общем, несколько молодых охотников сидело без «свиты» за спиной. В том числе и самый симпатичный из них, Рог. А вот Гуся, при ином раскладе, имел бы за собой свою «женщину». Вот гад, а? И тут устроился на короткой лапе с «авторитетами»!
Алина вдруг испытала чувство странной злости по отношению к своему другу. Надо же – она должна, по идее, быть «его» женщиной! Гуси! Который и знает-то – в футбол гонять и стёкла бить! А сам тогда с её скринсейвером самодельным разобраться не мог!
И в то же время к этой злости примешивалось чувство, которому девочка не могла подобрать определения. В смысле, она его, определение, и не искала, но вот точно это было что-то, не очень понятное. Невольное восхищение, что ли. Как он быстро освоился тут, Сашка! На равных стоит с охотниками, которые, по всему видать, не одного мамонта завалили! Вон, рёбра громадные основой для их вигвамов служат! А этот… Не задрожал, даже не попятился, когда четверо бородатых громадин копья на них выставили! И в то же время в бутылку не полез, задираться не стал, вовремя подсуетился с рассказом о своих подвигах. Челюстью ящеровой в народ тыкать начал…
И вот он уже – здешний воин, получает вкусные куски лично от вождя, ведёт себя, как… Как воин.
Но не забывает и о ней, Алине. Защищает её, можно сказать. И от этого к злости примешивалось то самое странное, непонятное чувство: а ведь случись чуть иначе – она бы… пожалуй…
Она бы, пожалуй, действительно рада была бы оказаться за его спиною…
* * *
Вот где-то под вечер этого длинного дня, когда, пусть и через пень-колоду, но началось хоть какое-то взаимопонимание, дети поняли, куда и к кому они попали. Конечно, кое-что додумали, не все слова понимая. Более того – не все понятия со своими совмещая. Всё же не только языки, но само мышление у них с неандертальцами было различно. Волей-неволей многое приходилось невольно приводить к своей системе понятий. Но в целом получалось следующее.
Арруги, конечно, никакими неандертальцами себя не ощущали. Для себя они были людьми. Но что любопытно – не людьми в человеческом понимании, как чего-то отдельного от природы и животного мира и даже противостоящего им. Нет, арруги, по их версии, как раз представляли собою часть общего мира, где всем жилось хорошо. Так и ответили на бестактный вопрос Гуси, брякнувшего: мы, дескать, вас называем неандертальцами, а сами вы кем себя лично считаете? Любознательный Гуся! Это же стихийное бедствие!
Хорошо, что собеседники не поняли вопроса до конца. Поди объясни потом, откуда «рюди» знают про неандертальцев и отчего вдруг их называют так, а не иначе. Так что ответ ему был простой, но исполненный достоинства: лично мы происходим от камней – мы арруги. Есть другие такие же, как мы, но происходят от пещерного медведя – ардурбыр. Не путать с самими пещерными медведями – ардурбирами, – которые происходят, конечно, тоже от пещерного медведя – дурбир. Есть волосатые носороги – арныкмик, которые происходят от волосатых носорогов. Есть птицы арчьювить, которые происходят от птиц – непроизносимое название, только в начале знакомое «ар». А есть ещё такие же, как мы, которые живут за совсем дальними горами на закат Солнца и тоже происходят от арчьювить.
Раньше были ещё люди, происходящие от волков – арныры. Они жили через три долины отсюда. Но их совсем истребили появившиеся в их местах уламры. И теперь они живут там, где когда-то охотились арныры.
Словом, арруги в собственном представлении ничем не отличались от животных, птиц, камней, деревьев и так далее. Такие же равные частицы мира, населённого животными, птицами, камнями, деревьями… Насекомыми, рыбами, облаками, звёздами, Солнцем, Луной. А также… самим миром! Который, оказывается, тоже был живым. Он дышал, нагревался и холодал, он ел и пил, он двигался и охотился. Наконец, он рожал. Он рожал тёплое светило по утрам и холодное – по вечерам. Он рожал траву и деревья, благодаря которым жили те, кто рождался сам.
Кстати, по причине именно таких верований эти люди уважали женщин. Не каждую конкретную, которая слаба и зависит от охотника, от мужчины, а женщин вообще. Как маленьких аналогов окружающего мира. Потому сакральные, ведические-колдовские функции у арругов всегда исполняли они, женщины. Выбиралась – или каким-то образом сама выдвигалась, тут Алина не поняла точно, – одна из самых авторитетных. В возрасте, конечно. И незамужняя. В смысле – вдовая. Потому что незамужних тут в принципе не бывало – кто кормить-то будет?
Эта женщина становилась как бы духовным лидером общины, как вождь – лидером, так сказать, организационным. Это именно её священный костёр горел в пещере. И у него она и её круг приближённых женщин вкушали пищу. Которая готовилась из доли добычи, которую непременно выделяли мужчины.
Она же организовывала сбор трав и ягод, вообще всего того полезного, что растёт в лесу и что женщины и добывали. Как мужчины добывали мясо. Она принимала роды и ухаживала за больными и ранеными. Она же общалась с духами и призывала их на помощь страждущим. А также на защиту племени.
Именно такая ведунья-колдунья взялась за излечение Антона.
Об этом было рассказано вскользь. Даже не рассказано, а упомянуто, что женщина по имени Гонув – главная за контакты с духами, которые и представляют как сам мир, так и все его многообразные частицы. Остальное Алина сложила уже сама – частью уже позднее, когда пришлось потеснее общаться с Гонув и другими женщинами.
На вопрос, есть ли другие, такие же, как они, арруги с достоинством ответили, что совсем таких же нет. Но время от времени они встречались с другими существами своего облика. Например, с людьми ардурбыр – из рода «пещерного медведя», как следовало из названия. Те жили дальше к холоду. Или ближе – как понимать. То есть к северу, как решили дети.
Те люди были чужие, у них был даже другой язык. Поэтому, собственно, в племени арругов никто не удивился, что их гости не понимают человеческого языка. Раз они из рода «рюди», то так и должно было оказаться.
И приняли рюдей в свой круг потому, что это нормально. В этом мире только одни существа охотятся на людей – уламры. Не для еды, просто так. Для удовольствия. Потому, в частности, арругам пришлось откочевать сюда, в эту местность. Ведь раньше они жили ближе к арнырам и дружили с ними. Даже вместе охотились. Иногда. Между ними лежала долина, так что споров вокруг места для охоты не было. А в той долине зверь считался ничьим, так что ничто не мешало воинам добывать его вместе. Тем более что все знали друг друга, поскольку племена устраивали ежегодные встречи. Во время этих встреч они ставили свои чумы в одном месте, веселились и охотились.
Арруги очень любили такие встречи, долго готовились к ним. Женщины вязали красивые циновки из кожи добытых животных. Придумывали украшения к одежде. Мужчины готовили себе ожерелья из зубов убитых лично животных. Каждый день их не носят – неудобно, да и на охоте мешают. Но вот на общей встрече очень уместно продемонстрировать свою доблесть тремя-четырьмя красиво переплетёнными нанизками…
Воины во время таких встреч демонстрируют силу, охотничью удачу – в общем, доказывают своё право на первую или следующую жену. Женщины же приглядываются друг к другу и к будущим невесткам, разговаривают о своём. А ведуньи отбирают тех, кому предстоит уйти с другим племенем.
Правда, потом всё равно нужно ритуал пройти – мужчина должен доказать, что имеет право на эту женщину. Но Гонув не стала рассказывать подробности того, как это происходит.
В результате у арругов много женщин раньше принадлежали народу арныров. Собственно, одна из задач таких ежегодных встреч и состоит в том, чтобы обменяться подросшими девочками. Потому что если жениться только на девушках своего племени, то дети получаются плохими. Не все, но часто. Поэтому духи запрещают жениться на своих.
А когда пришли уламры, они прежде всего и начали охотиться на человеческих женщин. С мужчинами старались не связываться – воины-люди сильнее каждого отдельного воина-уламра. А женщин выкрадывали и убивали. И съедали.
– Съедали? – поразилась Алина, от ужаса прикрыв рот ладонью.
Да, подтвердил Кыр. Они знали, что у людей дети появляются гораздо реже, чем у уламров. Те ведь вообще не останавливаются в этом процессе. Их было немного, когда они появились. Но очень быстро их стало много. А поскольку дичи в долинах арныров на всех хватать перестало, то уламры начали убивать людей и воровать их женщин. И вскоре арныров не стало. Лишь одна семья из двух воинов с их жёнами добралась до арругов. Но два лета назад они оба погибли, встретившись с пещерным медведем. А женщины остались. Вон, вон и вон. Их охотники-арруги за себя взяли. Как иначе? Не в лес же их выгонять. У арругов так не делается. Раз осталась женщина без охотника – кто-нибудь должен её замуж взять. Или она к хозяйству ведуньи прибивается, коли нет такого воина, что сможет лишний рот прокормить. А то и с детьми.
Вот так и пропали арныры. Потому не любят арруги уламров. Всех любят, а их – нет. Уламры слишком злые. И зверя губят много и понапрасну. Например, не выхватят из стада одну лошадь. Пусть две. А загоняют всё стадо на обрыв, пугая огнём, и вынуждают животных прыгать вниз и ломать ноги. Потом пройдут, отберут пару-тройку пожирнее – а остальных оставляют подыхать в мучениях. Нехорошо так. Духам лошадей ведь тоже больно…
Так что теперь арруги дружат с ардурбырами. И тоже раз в год собираются вместе. И очень любят такие встречи.
Споров и конфликтов между их племенами не возникает. Поводов не было. Охотничьи угодья, приходящиеся на одно племя – такое вот, как арруги, – гигантские. Их хватает на немногочисленное неандертальское население с избытком – зверя много, зверь плодится бурно.
А вот что население было небольшим, Алина поняла сразу, как только услышала про эти ежегодные неандертальские «фестивали». Если у них идёт примерно равный обмен невестами, то, значит, они и по численности равны. А если встречаются только раз в год, а в остальное время даже охотники между собой не соприкасаются – значит, живут друг от друга далеко. Значит, пространства на такую вот, в общем, небольшую группу людей приходится много. О том же и рассказ про арныров говорил – земли не только двум племенам хватало, но ещё и «бесхозные» долины между ними оставались. Да к тому же, как следовало из слова Кыра, арруги ещё и кочевали. То есть обходили эти пространства кругом, переходя на новое место, когда на прежнем начинало чувствоваться, что зверь начинает пугаться человека и менее охотно отдаёт ему своё мясо.
А зверя надо уважать. Это уже из другого повествования Кыра следовало. Ведь сами арруги были, по их представлениям, неотъемлемой частью этого мира. Как любые его населяющие существа. Олени, лисы, рыбы, птицы, медведи и так далее.
Как поняла Алина, у этих людей не было представления о своей разумности, и себя они считали такими же, как и все прочие. Вот только у медведя, скажем, когти и сила, а у арругов – копья и хитрость. Но и у медведя есть своя хитрость! А особенно – у лисы. Её же и не убьёшь почти никогда! А вот, скажем, у большого зверя с большим носом и большими зубами – пришлось догадываться, что речь идёт о мамонте – сила немереная и ярость лютая, когда подранишь. Поэтому с ним никто из зверей не связывается, даже волосатые, у которых рог на носу. Но арруги, бывает, берутся его добыть. Это когда, скажем, воину надо показать, что он достоин быть вождём.
Вот, например, Кыр пару лет назад убил мамонта.
Как добывают этих доисторических слонов, Алина не поняла. Но если верить Сашке, который был убеждён, что понял, то это происходило вовсе не так, как рассказывалось в книжках о доисторической жизни. Ни ям-ловушек, ни бульников, которыми мамонта забрасывают охотники. Да и чем тут можно вырыть ямы – рубилами каменными? И чем поднять булыжники – такой массы, чтобы можно было прибить зверя размером со слона? И как быть со стадом – ведь мамонты поодиночке не ходят, а стадо всегда своих защищает при нападении?
Потому, по словам мальчика, он понял так: к мамонту попросту подбираются сзади, и режут ему сухожилия на ногах острым, как бритва, камнем.
Камень, кстати, продемонстрировали. Действительно, острый. И длинный. И немного загнутый. Как не очень круглый серп.
А мамонт, толковал Гуся, захлёбываясь от восторга перед таким открытием, просто идёт себе дальше, только не понимает, отчего ноги плохо слушаются. А потом падает. И стадо ничего не понимает и следует себе дальше. Не вступается. И отставшего зверя арруги добивают уже копьями.
Но мужество для такой охоты всё равно требуется огромное, нельзя не признать…
Со своей стороны, как часть этого большого животного сообщества, арруги не испытывали злобы к тем, кому предстояло стать их добычей. Так устроен мир, что всем надо есть. И есть – друг друга. Поэтому они изначально относились к животным, как к себе. А потому и перед охотой, и после того, как убьют зверя, просили прощения у духов. И вообще, и у духов зверя, в частности.
Разумеется, всё это Алин, скорее, опять-таки больше выстроила в своём мозгу, нежели поняла из рассказов самих арругов. Во-первых, по причине бедности своего словарного запаса. А во-вторых и главных – потому, что сами понятия у арругов были другими. Духи, например, для них – не некие бесплотные сущности, которые живут где-то или в ком-то. И даже не другой мир. Духи – это как бы сама суть мира. Ну вот как для нас – атомы или молекулы. Из них состоит всё. Но это не мешает духам быть разными. И отвечать за некую собственную функцию.
Поэтому, скажем, люди пытаются теми или иными способами повлиять на исполнение этих функций.
Вот, скажем, как поняла Алина с неким холодком в глубине души, эта местная первобытная колдунья объясняет причины болезней, как это делал бы современный медик. Вот когда у них в школе выступают врачи из их детской поликлиники, они рассказывают примерно то же самое. Про микробы и бактерии. Про то, что от них нужно защищаться и мыть руки перед едой. Замени микробов на духов – один в один, что рассказывает неандерталка про лечение Антона! Мазь помогает отгонять плохих духов от раны, чтобы те не начали поедать плоть, вызывая её гниение. Она же помогает работать хорошим духам, которые заживляют рану, наращивая плоть. Питьё, которое вливают в рот мальчику, заставляет его спать и в то же время даёт силу его собственным духам. Чтобы те боролись с побеждали плохих духов, приносящих заразу. Обалдеть! А ведь всякие клетки действительно борются в организме – одни за, другие против!
Как часто Алина потом вспоминала эти неторопливые, немного даже мучительные из-за трудностей понимания беседы в тот первый их полный день в этом мире! Как сидели они на склоне горы у входа в пещеру, отмахиваясь от комаров – они с Сашкой, потому что арругов эти гады, кажется не трогали! Как смотрели на эти горы, на это небо, это солнце, ползущее по небу… А как под вечер один из воинов достал дудочку и стал наигрывать мелодии! Те были под стать самой дудочке – такие же грубые, – но как поразительно соответствовали этому миру, и этому вечеру, и этим людям!
Выздоровел бы только Антошка, и тут даже можно было бы задержаться на лишний денёк, чтобы побыть ещё с этими внешне немного страшноватыми, но такими добрыми неандертальцами!
Но девочка тогда не знала ещё, что задержаться здесь придётся дольше, чем она думала. И этот уютный день так запомнится потому, что вслед за ним начались совсем не уютные события…
* * *
Наутро Гуся напросился на охоту. То есть что значит «напросился»? Увидел, как несколько мужчин куда-то собираются, осматривая свои копья и дротики, решительно встал и показал, что идёт с ними. Вождь Кыр посмотрел на него с сомнением, что-то сказал Рогу, который топтался тут же рядом. Оба похрюкали. Это, видимо, обозначало у них смех. Обидчивый в подобных ситуациях Гуся насупился и выставил вперёд нижнюю челюсть. Но больше ничего сказано не было. Вождь мотнул головой, и охотники направились к выходу из пещеры.
Алинка хотела было пойти с ними, но вспомнила об Антоне, который по-прежнему недвижимо лежал на ложе из шкур в глубине пещеры. С утра уже та самая вчерашняя ворожея по имени Гонув осмотрела его. Алина ждала со страхом, что она скажет. Девочка знала, что в старину много людей погибало не столько от тяжести ран, сколько от общей антисанитарии и отсутствия антибиотиков. Ибо самая пустячная царапина могла привести к заражению крови.
С другой стороны, если они тут знают, как обращаться с маленькими духами-микробами…
Но Гонув не сказала ничего, а раны Антохины выглядели уже не столько жутко, как вначале. Их снова смазали, а в рот мальчику снова влили лечебное питьё, и на том его оставили в покое.
Женщина лишь дала понять, что скоро раненый проснётся. Может быть, когда солнце уплывёт за горы. То есть вечером. И Алина решила ждать этого момента. Тем более, что надо будет Антошку накормить – он-то, в отличие от них, не ел ещё со времён динозавров. Сто миллионов лет голодал, невольно улыбнулась про себя девочка…
Когда Сашка с мужчинами ушёл, Алина присела рядом с мальчиком.
Взяла его руку в свои. Показалось, что та уже не такая горячая, как давеча. Да и дышит Антошка ровнее, не так уже часто, как раньше. Похоже, помогает зелье, что готовят тут.
Интересно, подумалось девочке, а здесь их уже называют ведьмами? Ведь ведьма поначалу вовсе не «злое» слово было. От «ведать». «Знать», то есть. Те, кто знал травы, знал, как приготовить из них лекарство, знал, как вообще вылечить человека, становились среди своих соплеменников ведьмами. Ведающими.
Вот только интересно, когда так развернулось к ним отношение?
Алина вздохнула. Она не знала. Помнила лишь, что уже в русских сказках ведьмы по лесам прятались, по избушкам на курьих ножках.
Здесь же та женщина, что помогла Антошке, явно пользовалась авторитетом. И тут употребляют какое-то отдельное слово для обозначения статуса Гонув. Но означает ли оно «ведьма», Алина с её нынешним знанием здешнего языка понять не могла.
Сейчас Гонув – так и хотелось сказать по-сказочному: «мать-Гонув» – что-то втолковывала другим женщинам, руководя их работой над шкурами. Что именно делали женщины, Алина не очень понимала. То ли одежду шили – но иголок видно не было. То ли гладили большими камнями. То ли очищали от чего-то.
Сложный процесс. Надо будет разобраться, пока там Гуся гуляет.
Во всяком случае, видела Алина одно: непохожи были эти пещерные люди на тех, что изображали на картинках и в кино в их время. Там первобытные были завёрнуты в лохматые шкуры, ноги-руки голые, грязные все, некрасивые.
Здесь же было всё иначе. Во-первых, одежда. Вовсе не набедренные повязки из шкур. А довольно-таки неплохо выделанная кожа. Меховые вещи тоже присутствовали, но и они не представляли собою грязные шкуры. Нет, всё было если не сшито, то как-то перевязано по швам. Точно! На индейские одежды похожи, что в кино показывают. Эти, куртки и штаны с бахромою. Только там всё сшито костюмерами, конечно. А здесь функционально: обработанные «выкройки» как бы стягивались шнурами, а концы узлов и болтались свободно, образуя ту самую бахрому. Не будь эти люди так похожи на неандертальцев из учебника, можно было бы подумать, что ребят к каким-нибудь апачам занесло. И к их вождю Виннету.