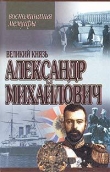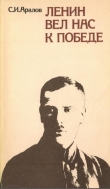Текст книги "Две жизни"
Автор книги: Александр Самойло
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Дальнейшему успеху помешала разобщенность восстания, неуверенность и колебания части солдат, поддавшихся уговорам офицеров. Однако солдатские выступления приобретали уже такой размах, что власти не решались применять против них оружие. Солдаты всего гренадерского корпуса, а особенно 1-й гренадерской дивизии в дни стачек ушли из-под влияния офицеров, открыто выражая свое сочувствие рабочим.
Уже после подавления декабрьского восстания в Москве в Киевском гарнизоне имели место две попытки к восстанию. Предпринятые эсерами без достаточной подготовки, они не имели успеха, и Сухомлинов хвастливо сообщил царю об успешной их ликвидации.
Но русская революция не была разбита, а только временно подавлена. Великие уроки 1905 года помогли народу одержать победу в октябре 1917 года.
Важным результатом революционных событий 1905 года было и то, что они привлекали на свою сторону широкие слои в армии.
Вернусь к своей службе в Киеве.
Видную роль в общественной жизни Киева и в самом окружном штабе играл начальник его Маврин. В противоположность светски вылощенному Сухомлинову Маврин отличался удивительно неуклюжей внешностью и угловатостью всех манер, что-то вроде гоголевского Собакевича. Мы его называли между собой «дикой Маврой». Но в отличие от Собакевича это был человек незаурядной душевной чуткости и редких человеческих качеств. По своему служебному призванию он был более хозяйственник и администратор, чем военачальник. Я в качестве начальника отчетного отделения, ведавшего службой офицеров Генерального штаба, часто докладывал Маврину о жизни офицеров и их нуждах. Он внимательно выслушивал и часто тут же отдавал распоряжения oб оказании нужной помощи.
Он и его жена Вера Васильевна ежемесячно устраивали в помещении штаба большие вечера для всех офицеров Генерального штаба Киевского гарнизона.
Играли в карты: молодежь – в рамс, генералы – в преферанс; изредка танцевали под музыку военного оркестра. Вечера заканчивались ужином a la fourchette[21]21
То есть сидя, стоя, где кто хотел.
[Закрыть] без вина, но настолько обильным, что оставшиеся блюда офицеры штаба доедали на следующий день в виде утреннего завтрака.
Эти вечера, значительно способствовавшие объединению офицеров, часто посещал и Сухомлинов и изредка киевский губернатор генерал Саввич, почитавший своей главной обязанностью сплачивать вокруг своей особы гражданское общество.
На рождество Маврины собственноручно устраивали в штабе большую елку для офицерских детей, привлекая к этому делу и всех нас.
Другой столь же радушной хозяйкой была жена генерал-квартирмейстера Баланина Екатерина Ивановна. Она очень любила своего сына – гимназиста Гогу, нанимала для него выдающихся репетиторов, сама готовила вместе с ним уроки, проверяя его занятия по всем предметам, не исключая и латыни. Собирая нас, молодежь, у себя главным образом для той же игры в рамс, Баланина составляла группу из нас с женой и своих двух сестер, взрослых барышень, очень некрасивых, но наделенных зато редким чувством юмора; играя с ними в карты, мы изощрялись в остроумии друг перед другом. Хохот стоял такой, что выходили из других комнат посмотреть, что могло нас так веселить. Когда в Киев приезжал из Люблина хороший знакомый Баланина генерал Брусилов, он, будучи уже командиром корпуса, всегда подсаживался к нашему карточному столику и принимал деятельное участие в нашем веселье. Здесь я близко с ним познакомился. Брусилов часто заходил в штаб, нередко беседовал со мной о военных делах.
Я искренне горевал за Е. И. Баланину, когда в 1914 году узнал о судьбе Гоги. Окончив гимназию, он был принят в специальные классы Пажеского корпуса, отлично кончил курс камер-пажем, сделался блестящим семеновским офицером и в первом же бою с немцами был убит.
В штабе Киевского военного округа начинал свою карьеру известный генерал Рузский. Он был принят Сухомлиновым, которому многим обязан. Я знал Рузского мало. Но помню, что молодым офицером он отличался хорошими организаторскими способностями и военными знаниями. Он был прост в обращении, но его считали большим карьеристом. В империалистическую войну он пользовался особым расположением царя, причем его прочили на должность Верховного главнокомандующего. В августе 1914 года он уже командовал в Галиции армией на Юго-Западном фронте. «Отличился» взятием Львова (оставленного австрийцами) вопреки прямому и неоднократно подтвержденному приказанию Иванова и Алексеева наступать не на Львов, а во фланг и тыл главным силам австрийцев, двигавшимся на фронт Люблин – Холм.
Однажды, приехав в Киевское военное училище, я встретил неизвестного мне офицера с очень большими усами. Он отрекомендовался только что прибывшим для прохождения стажа капитаном С. С. Каменевым и просил о назначении ко мне в отчетное отделение. Офицер мне не понравился. Я отказался содействовать его просьбе, тем более что знал о прибытии в скором времени хорошо рекомендуемого штабс-капитана Литовского полка Духонина.[22]22
Будущий (с сентября 1917 года) начальник штаба Верховного главнокомандующего Керенского. В ноябре объявил себя Верховным главнокомандующим и выполнял все требования иностранных представительств. 3 декабря был арестован в Могилеве за отказ подчиняться Советскому правительству. Убит солдатами.
[Закрыть] Разумеется, я никак не предчувствовал, что оба кандидата ко мне в отделение – будущие главнокомандующие, один всеми вооруженными силами, а другой даже верховный. Духонин вскоре стал работать у нас в штабе.
С Каменевым же мне привелось встретиться лишь после революции в Симбирске на посту командующего армиями Восточного фронта, действовавшими против Колчака. До моего назначения в Главное управление Генерального штаба я общался с Духониным много, но ничего примечательного в его личности не уловил. Запомнился только такой курьез: встретив какого-то варшавского архиерея, Духонин «оскорбил» его, не отдав установленной воинской чести. Архиерей донес об этом царю и Духонин получил высочайшее неодобрение.
Особенно большое значение для моей жизни имела встреча в Киеве с Владимиром Роопом, которого я не видел с юности.
Спускаясь по лестнице киевской гостиницы «Интернациональ», я вдруг услыхал громкий французский говор и уловил знакомый тембр голоса. Обернувшись, я сразу узнал в молодом и красивом гусарском полковнике своего товарища детства. Он разговаривал с почтенной дамой, но тотчас узнал меня и представил своей спутнице. Она оказалась графиней Браницкой, владелицей имения в Белой Церкви, где стоял гусарский полк Роопа.
Проводив графиню до экипажа, мы вернулись в ресторан гостиницы, где и просидели очень долго. Оказалось, что Рооп, окончив, как и я, Академию Генерального штаба, служил в штабе войск гвардии и Петербургского военного округа и был назначен военным агентом в Вену. Теперь же, по дошедшей очереди, он только что получил гусарский полк в Белой Церкви. Узнав, что я занимаюсь в штабе округа изучением австро-венгерской армии и веду разведку, Рооп ударил себя по лбу и воскликнул: «Вот это здорово! Хочешь, я передам тебе всех своих знакомых в Вене, которые могут быть очень тебе полезными по доставке нужных сведений?»
Мы тут же условились, что я немедленно приеду в Белую Церковь, где и получу все нужные мне инструкции, доложу обо всем Маврину и Сухомлинову. «И дело sera lancee»,[23]23
Пойдет.
[Закрыть] – сказал Рооп, не будучи в состоянии сразу освободиться от французского языка после разговора с Браницкой.
Таким на первый взгляд случайным и ничтожным было это наше начинание. Однако оно повело к важным последствиям военно-политического характера. Непосредственным же его результатом явился ряд моих командировок из Киева, позже из Петербурга в Австро-Венгрию и другие европейские страны.
Надо сказать, что дело разведки и особенно контрразведки в дореволюционной армии было поставлено из рук вон плохо, и о сохранности военной, политической и всякой иной тайны, о настоящей бдительности не приходилось и говорить. Сверху донизу, от царской семьи и правительственных сфер до самых низов, – всюду имелась полная возможность шпионам разных рангов и видов собирать любые сведения по всем областям государственной жизни царской России. Кто может хоть на минуту усомниться, что царственная супруга Николая, бывшая в постоянной переписке со своим родным братом, герцогом Гессенским, не сообщала ему для передачи Вильгельму государственные секреты нашей страны? Я уже говорил о том, что, светски словоохотливый, расположенный к немцам, Сухомлинов гостеприимно предоставлял свою квартиру прусскому барону Теттау. Вряд ли он крепко держал при этом язык за зубами. Да и сам Теттау вряд ли удерживался от злоупотребления гостеприимством для пользы своего Vaterlanda. У любого немецкого или австрийского шпиона не было необходимости взламывать сейфы с разного рода секретами, достаточно было приятного знакомства с высокопоставленным сановником или пристального наблюдения за происходящим вокруг, чтобы извлекать все нужные сведения. В любом военно-книжном магазине за несколько копеек можно было купить справочники о полном составе императорской армии (знаменитая ее «дислокация») и биографические данные о военачальниках, то есть сведения, весьма нужные для генералов гетцендорфов, людендорфов и гофманов. Можно только удивляться, как мало сумели немецкие и австрийские генералы использовать все эти условия для своих военных успехов!
В наши пограничные округа – Киевский, Варшавский и Виленский – на финансирование разведки отпускались ничтожные суммы – 30–35 тысяч рублей в год! Не знаю, какими суммами располагало разведывательное отделение Главного управления Генерального штаба, но в мою бытность в последнем из него не поступало ни мне, ни Скалону, сидевшим над обработкой сведений по австро-венгерской и германской армиям, почти никаких данных для такой обработки. Мы их имели либо из соответствующих округов, либо от наших военных агентов.[24]24
Полковник Занкевич – в Вене, Базаров – в Берлине, Потоцкий – в Брюсселе (Копенгагене).
[Закрыть]
А ведь надо было не только хорошо оплачивать негласных агентов, рисковавших головой за доставляемые ими сведения, но и подготовить сеть этих агентов на случай войны и соответственно обучить их.
При этих условиях нам в штабах округов приходилось прибегать к помощи пограничных жандармских офицеров, в свою очередь вербовавших мелких агентов из местного населения и плативших им попустительством за разные проделки на границе. Ясно, как ничтожна была ценность получаемых таким путем сведений. Занимаясь столь неблагодарным делом разведки в штабе Киевского военного округа, я держал связь с полковником Батюшиным, ведавшим разведкой в штабе Варшавского округа. Там дело обстояло ничуть не лучше, чем у нас.
Понятно, что при таких обстоятельствах нельзя было не воспользоваться предложением Роопа, хотя сам же он предупреждал, что контрразведка у австрийцев поставлена хорошо и что устанавливать связь с его «знакомыми» – дело опасное. Предстояло ехать в Вену и там договариваться как о порядке будущих сношений, так и о содержании «товара», требуемого и предлагаемого, а также и об оплате его.
Однако выбора не было.
Я доложил все дело Маврину, он – Сухомлинову. Последний хорошо знал отца Владимира Роопа, да и его самого, и пожелал выслушать меня лично. Сухомлинов проявил большой интерес к нашему предложению, но предупредил меня, что весь риск я должен взять на себя. Затем я съездил в Белую Церковь и получил от Роопа самые подробные и обстоятельные указания и советы, как вести себя с первого же шага после переезда границы. Рооп сомневался, чтоб основной его знакомый (некто «Р»), занимавший ответственную должность в австрийском генеральном штабе, согласится повидаться со мной лично, но был уверен, что он поручит это дело надежному лицу.
Предусмотрительность Роопа, а также его удивительное знакомство со всей венской жизнью изумили меня: я никак не ожидал найти именно во Владимире Роопе такого опытного человека в подобных делах.
Этим закончилась первая половина моей службы в штабе Киевского военного округа, внешне спокойная, соединенная с безвыездным пребыванием на месте.
В 1904 году я был произведен в первый штаб-офицерский чин. Тогда же появился у нас первый ребенок – дочь Нина.
Вторая половина моей службы в Киеве в отличие от первой была очень подвижной, очень нервной, но тем не менее чрезвычайно приятной. Она оставила у меня живые, нередко сильные впечатления и воспоминания.
Для второго периода характерны ежегодные поездки за границу, почти во все главные западноевропейские страны. Целью этих поездок были как непрерывно развивавшиеся сношения с венскими «знакомыми» Роопа (из осторожности избегавшими часто встречаться на территории Австро-Венгрии), так и ознакомление с вероятными театрами военных действий, с устройством, оснащением, боевой подготовкой армий наших будущих союзников и, главное, наших вероятных противников.
Большое место в моей службе занимали и частые встречи с приезжавшими в Киевский округ офицерами дружественных России стран. Их приходилось встречать и сопровождать, с официальной целью показывать то, что им хотелось видеть, а с неофициальной – отвлекать от того, что нам не хотелось показывать. Приятной стороной этих обязанностей было то, что наши «дружественные» услуги сопровождались присылкой от соответствующих правительств иностранных орденов.
Должен признаться, что организовать сношения с венскими «знакомыми» мне помог занятный случай, о котором стоит коротко рассказать.
Вскоре после встречи с Роопом, просматривая шульгинский «Киевлянин», я встретил объявление: «Молодая немка, окончившая венскую консерваторию, дает уроки музыки, немецкого и итальянского языков».
Понятно, что эта публикация заинтересовала меня и с точки зрения моих служебных обязанностей. Зайдя по объявлению под предлогом получить практику в языках, я встретил совсем молоденькую немочку с очень миленьким личиком, большими серыми глазами и с такой растрепанной куафюрой, которую могли носить, по моим понятиям, только папуаски. «Папуаска» объяснила мне, что недавно приехала в Киев, чтобы устроиться в нем и перевести сюда свою мать из Кимполунга (Буковина), что не знает ни слова по-русски и не имеет в Киеве никаких знакомых. Мы сговорились об условиях, и я начал практиковаться в языках, причем из предосторожности навел о новой знакомой справки не только по Киеву, но даже по Кимполунгу через жандармское пограничное отделение в Новоселице. Из уважения к своей учительнице я устроил ей два раза свободный проезд через границу и дешевый проезд по железной дороге. За это я попросил только опустить мои письма в Вену на кимполунгской почте. Условия для моего почтальона были очень выгодными, и он выполнял поручения хорошо и ловко, что мне подтверждали из Вены. Занятия по языкам шли своим чередом, но моя учительница не очень понимала, зачем они мне понадобились: она сама могла бы скорее брать у меня уроки по немецкому языку, так очевиден был мой перевес в знании немецкой грамматики.
Переезды «папуаски» через границу были очень часты, с поручениями в обе стороны. Сначала я очень мучился угрызениями совести за то, что подвергал ее большой опасности, но успокоился, когда убедился в ее ловкости и осторожности и когда она мне объяснила, что отлично понимает в чем дело и сознает всю опасность, которой подвергалась, но делает это сознательно, из любви… к Киеву.
В последний раз я виделся с «папуаской» во время империалистической войны, когда ездил в Бухарест по поручению Верховного главнокомандующего. Я уже знал, что перед войной она уехала из Киева обратно в свой Кимполунг. Этим свиданием и закончилась моя случайная встреча с «папуаской».
Заграничные командировки носили двоякий характер: одни вызывались официальными приглашениями соседних правительств (главным образом во Францию) на условиях взаимности, другие были негласными, с военно-политическими заданиями, даже по чужим паспортам. В случае обнаружения подлога негласные командировки грозили, конечно, большими неприятностями не только для меня лично, но и для наших министерств – военного и иностранных дел. Успех здесь зависел от моей осторожности, предусмотрительности, ловкости. Обычно вымышленным предлогом для таких поездок было ознакомление с историческими памятниками, достопримечательностями городов и т. п.
Заграничные командировки носили двоякий характер: одни вызывались официальными приглашениями соседних правительств (главным образом во Францию) на условиях взаимности, другие были негласными, с военно-политическими заданиями, даже по чужим паспортам. В случае обнаружения подлога негласные командировки грозили, конечно, большими неприятностями не только для меня лично, но и для наших министерств – военного и иностранных дел. Успех здесь зависел от моей осторожности, предусмотрительности, ловкости. Обычно вымышленным предлогом для таких поездок было ознакомление с историческими памятниками, достопримечательностями городов и т. п. стоящих маневрах или необходимость проверки тех данных, которые по нашим заданиям поступали от венских «знакомых». Эти задания касались не только самой Австро-Венгрии, но и Италии, Франции и даже Англии как стран, в которых австро-венгерский генеральный штаб видел врагов или союзников, или стран, склонных сохранять нейтралитет в случае войны.
Говорить подробно об этих моих поездках, касающихся вопросов преимущественно военно-технического, сугубо специального характера, мне представляется нецелесообразным, к тому же полученные тогда сведения, главным образом по Австро-Венгрии и Германии, вошли в официальные издания Главного управления Генерального штаба, несомненно сохраняющиеся и ныне в библиотеке имени В. И. Ленина.[25]25
Такими моими трудами по Австро-Венгрии были:
а) Военно-статистическое описание Западно-Галицийского района (изд. в 1912 году);
б) Военно-статистическое описание Восточно-Галицийского Района (изд. в 1913 году);
в) Вооруженные силы Австро-Венгрии (изд. в 1912 году).
[Закрыть]
С другой стороны, я считаю полезным ознакомить читателя с общими впечатлениями, вынесенными мной из посещения различных европейских стран.
Предлогом для моего посещения Германии была поездка в качестве туриста по Рейну. Конечно, меня интересовали и места, связанные с событиями франко-прусской войны 1870–1871 годов, начиная с Эмса и горы Бисмарка, где Вильгельм принял решение объявить Франции войну. Побывал я и в Гейдельберге (где некоторое время жил мой отец) и во Франкфурте в доме Гете. К Берлину я никакой симпатии не питал и в нем останавливался лишь проездом.
В Вене, как и вообще в Австро-Венгрии, где все было мне уже хорошо знакомо, ничто не пленяло моего сердца, и я старался, выполнив, что нужно, поскорее оттуда выбраться.
Особенно напряженной была моя первая поездка в Вену для встречи с местными «знакомыми» Роопа. Я чувствовал, что нахожусь в раскрытой пасти льва и достаточно моей малейшей неловкости, чтобы эта пасть сомкнулась. Мне не давало покоя воспоминание о судьбе нашего артиллерийского капитана Костевича, заподозренного (не знаю, насколько основательно) немцами в излишней любознательности в отношении взрывателей к снарядам. Его арестовали в Берлине и должны были предать военному суду. Сколько трудов и хлопот стоило министерству иностранных дел вызволить Костевича! А я ведь рисковал быть обвиненным в значительно большем, да еще flagrante delicto.[26]26
С поличным на месте преступления.
[Закрыть] С признательностью вспомнил я во время первого посещения Вены дальновидные, проницательные наставления Роопа. Они очень пригодились мне после свидания с моими новыми знакомыми, когда я старался, не привлекая к себе чьего-либо внимания, пробраться через кофейные на Mariahilferstrasse[27]27
Улица в Вене.
[Закрыть] в кофейные на Kartnerstrasse[28]28
Улица в Вене.
[Закрыть], а с нее на Westbahnhof.[29]29
Венский вокзал.
[Закрыть] С каким облегчением покинул я тогда пределы Австро-Венгрии, чтобы первый раз в жизни направиться в столицу мира – в дружественный Париж! Конечно, ни о каких кутежах я не помышлял: они не в моем характере. Но посмотреть на этот город, его жизнь, его нравы представлялось мне очень заманчивым. В особенности сладостным было в Париже чувство полной безопасности, сознание, что тебя никто не преследует, не выслеживает. Заняв номер в отеле на улице Риволи и наспех приведя в порядок себя и свой тирольский костюм, я направился в первую очередь на Большие бульвары. Было около пяти часов дня, самый разгар дневной сутолоки на бульварах. Все четырехкилометровое протяжение их, от Капуцинских бульваров через Итальянские и до Монмартра, я буквально пробежал, насколько это допускала людская толпа. У Бастилии я сел на империал омнибуса и доехал до аристократической церкви Маделен, жадно хватая по пути все зрительные впечатления.
Затем, привлеченный ярко освещенным зданием Bal Tabarin,[30]30
Названное в честь известного артиста Tabarin.
[Закрыть] я купил дорогой входной билет и, поднявшись по роскошной лестнице наверх, был встречен громким смехом многочисленных лакеев. Оказалось, что в моем тирольском костюме (только что купленном в Вене) нельзя показываться в зале, куда входили лишь в изящнейших фраках, белоснежных жилетах, перчатках и лакированных ботинках.
Так осекшись, я уже с большей осторожностью входил в «Moulin Rouge»[31]31
Увеселительное заведение «Красная мельница».
[Закрыть] с его вертящимися освещенными электричеством крыльями. Но тут порядки были другие: ходи свободно по всем залам, плати только по франку extra за доступ в каждый зал. Это было недорого и для меня, и я решил обойти их по очереди. В первом зале с вывеской Salon-Nu на несколько приподнятой над полом площадке находилась совершенно обнаженная француженка брюнетка, спокойно занимавшаяся всем, чем занимается женщина в домашней обстановке, нисколько не обращая внимания на толпившуюся вокруг площадки публику. Впрочем, к этому располагали вывешенные надписи: «Просят пальцами не трогать под страхом штрафа». Вероятно, поэтому публика хотя и смеялась, шутила и острила, но вела себя сдержанно. Неужели, думал я, французы так погрязли в меркантилизме, что боязнь штрафа заставляет их сдерживать свой характер? Кругом на столиках были разложены карточки и даже альбомы с изображением au naturel[32]32
Обнаженных.
[Закрыть] разных парижских дев.
Не находя ничего занятного в объективном созерцании анатомического строения женского тела, я купил все же один из альбомов и пошел в следующие залы с надписями «Enfer» («Ад») и «Paradis» («Рай»).
Тут обстановка была несколько иная.
«Enfer» был набит публикой вплотную (как и следовало ожидать по его назначению), причем атмосфера была жаркая и в прямом и в переносном смысле. Между публикой и местными хозяевами в костюмах, соответствующих атмосфере, но с рожками и хвостиками, царило живое общение. Никаких предостерегающих надписей о штрафе не было, и этим публика пользовалась вовсю.
Одинаковую картину нашел я и в «Paradis», но в отличие от «Enfer» хозяева были с крылышками, а одеты в фиговые листочки, так как и температура была более умеренная, да и публики поменьше, хотя привратник с большим ключом пускал всех без особого разбора, лишь бы платили свой франк. Говоря правдиво, я не очень издерживался в этих залах, так как в голове назойливо вертелись слова Шиллера: «Ehret die Frauen-sie flechten und weben Himmlische Rosen ins irdische Leben».[33]33
«Уважайте женщин, которые украшают нашу земную жизнь, вплетая в нее небесные розы».
[Закрыть] Как расходились эти слова с нравами Парижа, где женщина вынуждалась торговать своим телом, чтобы не умереть с голоду!
Поднявшись наверх, откуда неслись веселые звуки музыки, я попал в огромный зал, посреди которого много женских пар танцевали кадриль, разнообразившуюся такими фигурами, которых в обиходе наших обыкновенных кадрилей мне не приходилось видеть. Кругом стояли и сидели зрители, обмениваясь веселыми шутками. Мне говорили, что эти женские пары специально для таких танцев посылались от знаменитых модных магазинов и фирм с целью рекламирования образцов женского нательного белья. Судя по фигурам кадрили, это было верно.
Из «Moulin Rouge» я вышел на свежий воздух с чувством большого облегчения и с полным разочарованием в отношении французского представления об изящном. Мое настроение еще более понизилось на следующий день, когда я бегло ознакомился с приманками Клиши и Монмартра – буржуазных кварталов Парижа. Эти парижские впечатления пробудили во мне смутные воспоминания о Лемерсье и его вольном обращении со своими соотечественницами, вывезенными из этого города в далекую Москву. Все виденное представилось мне полным оскорбительного неуважения к женщинам. Я перестал интересоваться жизнью Больших бульваров и перенес свое внимание на ознакомление с городом, его собором Парижской богоматери, Лувром, Версальским дворцом, Пантеоном, его окрестностями, многочисленными музеями и библиотеками.
Вслед за посещением аристократических кварталов я отправился в противоположную часть города – в Сент-Антуанское предместье, населенное рабочим людом. Первый обыватель, к которому я обратился у Венсенского вокзала с вопросом, как далеко до этого предместья, оказался рабочим. Мы пошли вместе. Дорогой он рассказал мне историю возникновения предместья, а когда мы подошли к небольшому ресторанчику, я пригласил своего собеседника закусить и выпить стакан кофе. «Вот это хорошо, – охотно согласился он, – а то я уже чувствовал потребность Tuer le ver et chasser le brouillard».[34]34
Заморить червячка.
[Закрыть] Он с большой охотой выпил предложенный мной стаканчик водки, пожалев, что я лишаю себя удовольствия составить ему компанию. Мы просидели за столиком около часа, причем много потешались над объявлением, вывешенным на стене в рамке и содержавшим правила «хорошего тона». Одно из этих правил гласило: «Не обременяй желудок едой».
Мой собеседник не преминул заметить, что жителям Сент-Антуанского предместья выполнять это правило, к сожалению, приходится поневоле.
Заговорив на тему о питании, он посоветовал мне обязательно ознакомиться с Halles centrales (огромный крытый рынок Парижа, прозванный Золя ventre de Paris[35]35
Чрево Парижа.
[Закрыть]), чтобы посмотреть, сколько Париж потребляет хороших продуктов, на которые обитателям Сент-Антуанского предместья приходится любоваться лишь издали.
При прощании он с несомненной искренностью выразил мне симпатии, которые, как он сказал, французский народ постоянно питает к русским, добавив, что он также не против немецкого народа, а ненавидит только немецкое государство и во всяком случае симпатизирует немцам больше, чем англичанам.
Когда я потом побывал в Halles centrales, он поразил меня своими грандиозными размерами. Это двенадцать огромных зданий, по 250 лавок каждое, с колоссальным количеством съестных припасов всякого рода. Под ними на глубине четырех метров – громадные погреба, наполняемые за ночь продуктами, подвозимыми на тысячах повозок. Полиция вела неослабный и строжайший надзор за доброкачественностью всех товаров. Основными покупателями являлись хозяйки среднего сословия. Ведение домашнего хозяйства составляло главную заботу французской женщины этой категории. Простая француженка обычно не только отличная хозяйка, но и деятельная, инициативная помощница мужу во всех его делах и заботливая мать своих детей.
Нельзя не отметить, что трудящимся женщинам во Франции приходилось влачить жалкую жизнь, так как их труд (кроме искусниц, работающих в фешенебельных дамских ателье и модных магазинах) оплачивался крайне низко, зачастую всего 30–40 су в день, при работе с рассвета до темноты. Обычная же государственная женская служба была ограничена железнодорожными кассами, почтой и госпиталями.
Вообще, говоря о Париже, нельзя смешивать развращенного Парижа буржуазии с Парижем 1848 года, священным городом первой великой гражданской войны между пролетариатом и буржуазией, с городом рабочих Сент-Антуанского предместья, с городом великой Коммуны, предвестницы нового, социалистического общественного строя.
На парижских улицах офицеры встречались реже, чем на берлинских и венских, и они отнюдь не имели того надменного вида, который так характерен для немецких, а особенно прусских офицеров. Я объясняю это и удаленностью казарм от оживленных кварталов города и скромным содержанием, которое получала основная офицерская масса. Из 190–200 франков в месяц за вычетом необходимых расходов едва оставалось десяток – другой франков на удовлетворение, может быть, и легкомысленных, но все же вполне понятных для молодых лет соблазнов столичной жизни.
* * *
Ко времени моих поездок в Англию и Италию там уже появилась авиация, а с ней усилился и интерес к этим странам, к их промышленности и достижениям в области воздухоплавания.
Мое посещение Англии в августе 1908 года было сравнительно коротким – всего около двух недель. Я очень опасался переезда через Ламанш, от Кале до Дувра, ввиду своей крайней подверженности морской болезни. Однако страхи оказались малоосновательными, тем более что я прибегнул к ряду предупредительных мер, и в том числе к не менее опасному для меня стакану вина за обедом на пароходе. Я взял билет первого класса в каюту, расположенную за дымовой трубой, – место, как мне говорили, менее всего подверженное качке. Из Дувра я по железной дороге направился в Лондон. Там, избегая дороговизны первоклассных отелей (а от второразрядных предостерегал меня еще Мак-Клиланд), я нашел комнату в одном из boarding houses на Oxford street.[36]36
Меблированные комнаты со столом на Оксфорд-стрит.
[Закрыть] Хозяйка этого небольшого, но удобного приюта, бывавшая, как оказалось, в России, приняла меня очень приветливо, но смогла предложить свободную комнату лишь на четвертом этаже.
На вопрос хозяйки, какие цели привели меня в Англию, я сообщил, что, будучи по образованию историком, пишу исследование о Марии Стюарт и должен сверить разноречивые исторические и литературные сведения о ней, что меня интересует также история «Magnae char-tae libertatum»,[37]37
«Великой хартии вольностей».
[Закрыть] сделавшей, по словам Шиллера, английских королей гражданами, а граждан – князьями; и история «священного дуба», укрывшего от политических врагов короля Иакова II Стюарта; и история шотландской деревушки Грет-на-Грине, куда до половины XIX века съезжались все влюбленные, стремившиеся пожениться без особых церемоний, не имея даже нужных документов, причем венчал их простой кузнец.
Столь разнообразная моя любознательность возымела на хозяйку свое действие, и она в свою очередь сообщила, что я найду у нее в доме gentle folk,[38]38
Изысканное общество.
[Закрыть] общение с которым будет для меня полезно и приятно. Познакомиться с этим обществом мне пришлось в тот же день перед обедом. Мне был представлен негоциант (merchant) из Гримсби,[39]39
Город на восточном побережье Англии, известный рыболовными промыслами.
[Закрыть] приехавший в Лондон по делу продажи своего рыбного товара; провинциальный священник (priester) с дочкой, готовившейся к экзамену при Оксфордском университете на звание учительницы; молодая чета, ожидавшая окончания ремонта своего семейного гнезда, и офицер из Альдершотского гарнизона, проводивший в Лондоне свой отпуск. Кроме них, я увидел за столом еще двух подростков – мальчика и девочку, сидевших скромно и тихо. Это были дети самой хозяйки, воспитанные в английском духе, то есть в режиме большой самостоятельности и глубокого уважения к старшим. Места за столом были установлены в порядке занимаемого нами общественного положения, причем почетные места по обе стороны хозяйки заняли негоциант и священник; рядом со священником и его дочкой было указано сидеть мне; офицера посадили между невестой и женихом (bride and bridegroom); с краю чинно сидели дети. За обедом соблюдался порядок, принятый, как уверяла хозяйка, в лучших домах Лондона. Все блюда приносились и ставились на стол, а распределение кушаний между обедающими лежало на обязанности самой хозяйки.