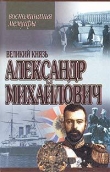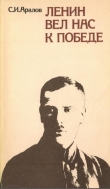Текст книги "Две жизни"
Автор книги: Александр Самойло
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Против Николая Николаевича был настроен Сухомлинов, а также министр иностранных дел Сазонов, тщетно стремившийся влиять на великого князя. Царь видел в нем своего соперника и боялся его влияния, что особенно понятно, если учесть, что Николай II находился во власти своего царского двора, этой арены всяких измен, интриг, министерской чехарды, тайных убийств, разврата; в окружении шайки всяких проходимцев и аферистов, вроде «Гришки-провидца», Андронникова, Вырубовой, Воейкова и пр.
Представители военных миссий при Ставке жили внешне спокойно и держались корректно. С ними у нас было мало общения. Какое влияние они оказывали на высшее начальство, мы не знали. Настроение их было оптимистическое: они не сомневались в окончательной победе своих стран. В особенности их настроение улучшилось с переходом Ставки в Могилев и со сменой Верховного главнокомандующего. Это объяснялось, конечно, отнюдь не достоинствами царя, а улучшением положения армии благодаря увеличению боевого снаряжения, притоку подкреплений и возросшей возможности собственного влияния на ход событий.
Одной из обязанностей офицеров Генерального штаба в Ставке была зашифровка и расшифровка секретных телеграмм. Поэтому мы были в курсе не только военных событий, но и всех прочих, а иногда даже личных царских и великокняжеских дел. Кстати, по времени службы нам со Скалоном подходила очередь на получение полков. Скалон был старше меня по службе, как бывший гвардеец, но он от полка отказывался принципиально, считая себя не подготовленным к ответственности за судьбу тысяч человеческих жизней. Я медлил, выжидая освобождения должности в своем родном Екатеринославском полку. Впрочем, я готов был принять и Ширванский полк. О мотивах этой своей готовности я охотно умолчал бы теперь, если бы не взятый мной принцип: выкладывать все начистоту. Дело в том, что Ширванский полк был единственным в армии, которому полагалось носить сапоги с красными голенищами! Казалось бы, выйдя из гимназических годов, я мог быть и менее легкомысленным. Как и чем это объяснить? Воспитанием? Средой? Странностью человеческого устройства? Судить не берусь.
Данилов был доволен нашими отговорками, так как не в его интересах было лишаться помощников, осведомленных уже во всех германских и австрийских вопросах. Теряли лишь сами мы, так как с принятием полка связывалось производство в генералы.
Под непосредственным началом Верховного главнокомандующего, как я уже говорил, были Юго-Западный Фронт (генерал Иванов, начальник штаба Алексеев) и Северо-Западный (генерал Жилинский, вскоре смененный генералом Рузским, начальник штаба Орановский). К началу военных действий, на 12-14-й день мобилизации, оба фронта развернулись на линии: Средний Неман – Бобр – Нарев – Средняя Висла – Люблин – Холм – Владимир-Волынский – Дубно – Каменец-Подольский. Главные силы австрийцев стояли на фронте Краков – Львов – Черновицы, прикрываясь с третьего – пятого дня мобилизации массой конницы с пехотными поддержками. В конце июля, когда армии Юго-Западного фронта были еще в периоде развертывания, австрийцы перешли в наступление, вторглись в Завислянский район и в южные районы Люблинской и Холмской губерний, а кавалерия их – во Владимир-Волынский. Планом австрийцев предусматривались сильный заслон к востоку от Львова и на границе Юго-Восточной Галиции и Буковины и нанесение главного удара на фронт Люблин – Холм, то есть в тыл всего передового театра и Северо-Западного фронта.
Противодействовать этому плану в первую голову пришлось 3-й армии (генерал Рузский, начальник штаба В. Драгомиров, генерал-квартирмейстер М. Бонч-Бруевич) на фронте Люблин – Холм и 8-й армии (генерал Брусилов), наступавшей на сообщения главных сил австрийцев. 7 августа обе армии вступили в австрийские пределы, а 10 августа перешли в наступление и наши соседние армии: 4-я (генерал Эверт) и 5-я (генерал Плеве).
Так начались кровопролитные бои первой Галицийской битвы. В конце августа мы перешли через Сан и Днестр, овладев Стрыем и Черновицами.
Такими успехами русская армия была обязана высоким качествам русских солдат, их военной доблести, сильным офицерским кадрам, благоприятной, мало укрепленной местности, хорошему еще снабжению армии, а также и опытности Иванова и Алексеева – участников русско-японской войны.
Наши успехи могли быть еще большими, а может быть, и решающими для войны, если бы достижению их не помешало поведение генерала Рузского. Вместо того чтобы нанести сокрушительный удар 600-тысячной австрийской армии, он погнался за дешевой победой у Львова. Оставив город, австрийская армия ушла от смертельной опасности и сохранила свои силы для последующей борьбы в Галиции. Ставка же в лице Николая Николаевича, Янушкевича и Данилова в собственных интересах, а также в личных интересах Иванова и Алексеева раздула эту «победу». Было объявлено, что город был якобы захвачен в результате «семидневных упорных боев», что он был «сильно укреплен» противником и т. п.
Между тем командир корпуса Щербачев указывал в своем донесении, что он вошел в город, уже оставленный австрийцами.
В декабре 1915 года согласно вторично поданной просьбе об отставке Рузский был уволен с милостивым рескриптом царя.
История с Львовом отчетливо характеризует «нравы» верхов дореволюционной армии.
В переменных по успехам боях Юго-Западного фронта прошла вся осень. В первой половине декабря велись успешные для нас бои на карпатских перевалах, причем мы владели уже всей Буковиной.
Менее удачные, как известно, бои происходили на Северо-Западном фронте, но и они показали высокую боевую доблесть самой армии. Неудачи обусловливались ошибками высшего управления армией и недочетами в подготовке театра военных действий.
К моим штабным обязанностям по Австро-Венгрии Данилов прибавил и все вопросы по Румынии. На меня возлагалось составление военно-политических докладов по сношению с Румынией и военная оценка местности, главным образом Северной Буковины, бывшей предметом торга между министерствами иностранных дел. Нашей целью было вовлечение Румынии в войну на стороне Антанты. Позже, весной 1916 года, Румыния требовала уже Буковину до Прута вместе с Черновицами.
В связи с моими новыми обязанностями Верховный главнокомандующий приказал командировать меня в Бухарест – отвезти от него золотой портсигар министру иностранных дел Румынии Братиану. Я должен был ехать До Черновиц по железной дороге, а дальше в автомобиле на Яссы, причем по пути взглянуть заодно на австрийские позиции в лесистых Карпатах у Дорны Ватры.
Во время этой командировки я не преминул заехать к моей знакомой Зельме в Кимполунг, куда, как я уже знал, она перед самой войной вернулась из Киева.
В Кимполунге дверь отворила мне сама Зельма, порывисто бросилась ко мне и обняла. Она познакомила меня со своей очень пожилой и очень похожей на нее матерью, Которая, как я понял, ничего не знала обо мне. За чаем, наспех выпитом ввиду того, что я сильно торопился Зельма, волнуясь, объяснила, что она, уехав из Киева к матери, вышла здесь по ее настоянию замуж. Муж ее любит, но она свое сердце оставила в Киеве…
Прощаясь, она предложила сыграть мой любимый «Дунайский вальс», но после первых аккордов не выдержала и со слезами выбежала. «Не могу, – проговорила она, – без нот…»
Через несколько минут она вышла к автомобилю, глотая слезы. Я горячо поцеловал ее руку и пожалел, уезжая, что нарушил ее и свой покой. «When sorrow is asleep, wake it not!»[65]65
«Если печаль спит, не буди ее!»
[Закрыть] – поздно вспомнил я мудрый совет. Много лет спустя жена как-то вытащила меня в кино посмотреть фильм «Большой вальс». Я был поражен, с какой живостью я, глядя на экран, вспомнил все свое знакомство с Зельмой. Я много раз ходил смотреть этот фильм и каждый раз думал: «Хорошо, что киносеансы даются в темноте…»
По приезде в Бухарест я отправился к нашему военному агенту – полковнику Семенову. Он нашел нужным, минуя нашего посланника Поклевского-Колелл (большого германофила), сообщить о цели моего приезда к Братиану, и тот изъявил желание принять меня у себя в министерстве на следующий день. Вечером Семенов нанял экипаж и повез меня на Киселевское шоссе – излюбленное место катаний бухарестской аристократии. Я был удивлен, с каким бесстыдством фешенебельное общество столицы и в особенности генералитет вместе со своими метрессами открыто предаются пустым развлечениям, считая это особого рода шиком во время войны. «Зря, – подумал я, – великий князь жертвует своим золотым портсигаром: никакого проку от армии, возглавляемой такими полководцами, ждать нельзя».
Однако на другой день я пошел выполнять свое поручение. Братиану принял меня очень ласково, представил приехавшему в министерство наследному принцу, а последний пригласил меня, на третий день моего пребывания в Бухаресте, к завтраку в свой вагон, в котором он должен был приехать. После этого завтрака он передал мне румынский орден величиной почти в три вершка. И это несмотря на совершенный мною перед завтраком огромный, небывалый, вероятно, в анналах дипломатических сношений faux pas.[66]66
Неловкость.
[Закрыть] Дело в том, что после визита Братиану у меня в глазу лопнул какой-то сосудик, и глаз страшно покраснел. Придворный врач впустил в глаз капли и закрыл его черной повязкой. Прибыв после этого к наследному принцу и проходя за ним из его салона в вагон-столовую, я не заметил из-за повязки, как принц, все время перед этим державший любимую собачонку на руках, спустил ее на пол. Затворяя за собой дверь, я прищемил бедному псу хвост, и это заставило его громко завизжать. Благовоспитанный принц не показал и вида какого-либо неудовольствия. Он, однако, вспомнил об этом много позже, когда приезжал на Западный фронт, где я был назначен его сопровождать.
На обратном пути в Сарнах я застал царский поезд. Зайдя к своему товарищу по Киевскому штабу, полковнику Стеллецкому, заведующему передвижением войск Львовского района, я рассказал ему про свою миссию в Бухаресте. «Интересно, – сказал он, поглядев на полученный мной орден, – какой величины награду они дали бы тебе, если бы ты не придавил собаку!» Он объявил, что должен доложить о моем приезде своему начальнику военных сообщений генералу Ронжину. Последний, выслушав мой рассказ о выполнении поручения Верховного главнокомандующего, объявил, что о моем приезде доложит Сухомлинову, сопровождавшему царский поезд. Сухомлинов, с обычной приветливостью выслушав мой доклад, объявил, что доложит обо мне царю, приказав через час явиться к царскому поезду. Встретив меня, он объявил: «Царь повелел пригласить вас к своему завтраку. Побудьте здесь – я зайду за вами через четверть часа». Я поспешно стал соображать, что и как буду докладывать царю о приеме меня в Бухаресте.
Войдя в вагон-столовую, полный каких-то свитских генералов, я убедился, что сильно переоценил любознательность царя. Разговаривая с одним из генерал-адъютантов, царь как-то боком протянул мне свои пальцы, которых я коснулся со всей доступной мне почтительностью, и больше уже своим вниманием меня не удостаивал. Сначала я почувствовал было обиду на такое игнорирование Царем попытки главнокомандующего прельстить Румынию своим подарком, но затем успокоился: не много ли было бы для Румынии чести рассчитывать на большее внимание. Впрочем, взирая с почтительностью на голову монарха, я тут же усомнился, чтобы в ней могли появиться эти сложные соображения.
Какой-то придворный чин подвел меня к назначенному мне за столом месту, и затем, по данному царем общему приглашению, я сел между двумя генералами не то членами царской фамилии, не то простыми, но важными смертными.
Боясь нарушить придворный этикет, я не сказал им ни слова за все время завтрака во внимание к их высокому положению. Так же поступили и они, вероятно, вследствие моего низкого положения. Особенно меня смущало разноцветное вино, которым лакеи периодически наполняли многочисленные стаканы моего прибора. Я не знал, был ли я обязан пить, притом просто или предварительно пожелав здоровья кому-либо из присутствующих, начиная с «августейшего» хозяина. К тому же я боялся, что, выпив, могу сделаться излишне разговорчивым. Желая скрыть смущение, я разглядывал свои тарелки, стараясь понять, золотые они или только позолоченные. Наконец, часа через полтора завтрак кончился, и царь вышел. Сухомлинов последовал за ним, подав мне знак, что я свободен. Я приветливо ему поклонился, но про себя подумал: «И на какого черта ты мне устроил эту пытку!»
Вернувшись в Барановичи, я долго еще находился под впечатлением своей поездки в Румынию. О результатах ее Янушкевич для доклада великому князю расспрашивал меня на французском языке. Вследствие такого изящного стиля нашей беседы я не счел себя вправе осквернять этот стиль рассказом о собачьем хвосте.
Янушкевич со своей стороны поделился со мной имевшимися у него сведениями о том, что к румынскому королю и Братиану ездили также посланцы и от Вильгельма, но, кажется, с миссией угрожающего характера. Братиану более расположен к нам в надежде получить Трансильванию. Не скрыл от меня Янушкевич после моего рассказа о царском завтраке, что положение Сухомлинова непрочно, особенно в думских кругах и что вместо него, вероятно, будет Поливанов.
Словоохотливость Янушкевича меня несколько удивила, и я решил, что тут имела влияние французская речь.
Военные действия после первых успехов 1914 года стали постепенно принимать характер, менее благоприятный для нас, и привели весной 1915 года к поражению Юго-Западного фронта и потере Галиции. Причинами этого было непонимание своих задач генералами Ивановым и Рузским и крупные ошибки самой Ставки, не сумевшей по-настоящему руководить фронтами и хотя бы ликвидировать разногласия между ними.
Этим и воспользовались немцы, организовав посылку австрийцам подкреплений. Полагаю, что и Братиану, ощупывая в своем кармане привезенный мной золотой портсигар Николая Николаевича, с недоумением и нерешительностью наблюдал, как Иванов рвался из рук Ставки на юг, а Рузский стремился на север. Когда же нашим главнокомандующим как будто удавалось «договориться», сама Ставка оставалась без определенного решения, склоняясь то на сторону Иванова, то на сторону Рузского. Время терялось в выжиданиях, несмотря на то что положение нашей армии улучшилось в смысле пополнения запасами и людскими укомплектованиями.
Перед глазами Николая Николаевича поочередно появлялись, как заманчивые цели, то Вена, то Берлин, и он колебался в выборе, иллюстрируя своим положением басню о животном, которое умирает с голоду, имея две вязки сена по бокам.
Наконец, Иванову и Алексееву надоело это выжидание, и они решили на свой страх двигаться за Карпаты в Венгрию, потянув за собой упиравшегося великого князя, не желавшего оторваться от Рузского. Но тут вдруг оказалось, что для осуществления своих планов у них мало сил.
В то время как великий князь стал вязнуть вместе с Ивановым в карпатских снегах, немцы предприняли активные действия и в Восточной Пруссии и на Юго-Западном фронте.
В феврале 1915 года и Юго-Западный и Северо-Западный фронты оказались перед катастрофой. Николай Николаевич растерялся. Иванов продолжал упорствовать в Карпатах, пока к апрелю, когда Алексеев был уже назначен главнокомандующим Северо-Западным фронтом вместо Рузского, не подвел под разгром Юго-Западный фронт.
Проблеском в этой мрачной зимней эпопее было занятие весной русскими крепости Перемышль и то, что Ставка впервые дала твердые задачи обоим фронтам: наступление в Карпатах, оборона на остальном протяжении.
Но оказалось, что с весной изменилась позиция Алексеева: он начал проводить мысль, что наступление в Карпатах – операция второстепенная и вредная, и стал противодействовать ей, отказывался выделять для нее силы с Северо-Западного фронта.
Наступление в апреле немецкой армии Макензена закончилось разгромом Юго-Западного фронта. Иванов пытался объяснить это усталостью войск, климатом, плохим подвозом по железным дорогам, слабостью своих сил и затишьем на других фронтах.
Катастрофа на фронтах имела непосредственным результатом перемещение Ставки Верховного главнокомандующего из Барановичей в Могилев, а затем и замену Николая Николаевича самим Николаем II на посту Верховного главнокомандующего.
Не только в кругу офицеров Ставки, но и повсюду эти перемены сопровождались самыми разнообразными слухами и пересудами. Одни говорили, что со стороны царя это акт высшего самопожертвования, самоотречения, благородства чувств; другие видели в этом слепое упрямство, неожиданно и необъяснимо утвердившееся в голове человека, боявшегося соперника; третьи считали, что царь сделал этот шаг по настоянию своей «царственной» супруги, и т. п.
Решить, кто тут прав, я не мог, да и не имел необходимых данных. Что касается Николая Николаевича, то, наблюдая его деятельность в Петербурге в должности главнокомандующего войсками гвардии, близко ознакомившись с ним как Верховным главнокомандующим, я составил о нем определенное суждение, которое и считаю близким к действительности.
В предвоенный период Николай Николаевич был строгим и требовательным строевиком-кавалеристом на посту инспектора кавалерии, но без широких взглядов на роль и задачи ее в условиях современной войны. Его требовательность, часто выражавшаяся в несдержанных выходках против высоких начальников, создавала ему личных врагов. Политические убеждения его, конечно, были реакционными, но он умел делать уступки требованиям времени и обстановки. Примером может служить его участие в подготовке манифеста 17 октября, отношение к Государственной думе, критическое отношение к Сазонову и его политике.
К сугубо дурным сторонам Николая Николаевича как Верховного главнокомандующего я лично отношу слабость воли и мелочность характера, проявлявшиеся в отсутствии твердого управления фронтами, в тщеславных расчетах при освещении «заслуг» Рузского под Львовом, в перенесении личной неприязни к Сухомлинову на деятельность его как военного министра. Однако превосходство Николая Николаевича над более слабовольным и менее дальновидным царем отчетливо понимали все мы. Поэтому смена его царем была неожиданной для всех нас.
Утверждали, что Николай Николаевич и Алексеев, не говоря уже про Родзянко, долго отговаривали царя от принятия должности Верховного главнокомандующего в таких тяжелых условиях.
Как бы то ни было, 3 сентября 1915 года был объявлен манифест о смене Николая Николаевича и о роспуске думы. Увольнение получило характер неожиданности. Оно было связано с общим развалом в самодержавной России, и причинами его были в большей степени неудачи политические, чем военные. Сторонники авторитета Николая Николаевича продолжали упорно доказывать, что не катастрофы в Польше и Галиции, а нравственный перевес его над царем и над всем царским домом был настоящей причиной состоявшихся перемен.
21 сентября 1915 года Николай II вступил в должность Верховного главнокомандующего в Могилеве-на-Днепре. Начальником штаба Верховного главнокомандующего был назначен Алексеев. Получилось так, что я в первые же дни навлек на себя его неудовольствие, и он хотя и ласково, по прежнему знакомству, но серьезно выбранил меня за недостаток почтительности к «высшим сферам». Вина моя состояла в том, что я рассказал Марсенго, представителю итальянской военной миссии при Ставке и своему старому киевскому приятелю, а он разболтал остальным своим коллегам (что дошло и до Алексеева) следующий случай. В Красном Селе еще перед войной Николай Николаевич пожаловался царю что офицеры кавалергардского полка охотятся на зайцев в его, великого князя, заповеднике. Царь приказал кому-то найти виновных, а тот, разобрав дело, подал доклад в шутку озаглавив его «Дело о кавалергардах его величества и о зайцах его высочества». За распространение столь нечестивого рассказа, да еще среди иностранцев, я и получил нагоняй.
Это был последний разговор с Алексеевым за мое двадцатилетнее с ним знакомство.
Когда я вышел из кабинета Алексеева, мне показалось что он сделал мне выговор нехотя, как бы насилуя себя. Внутренний облик этого человека вырисовывается передо мной довольно отчетливо еще со дней моего пребывания в Академии Генерального штаба, где он был профессором. Это был простой и прямой человек, у которого слова не расходились с делом. Он обладал глубоким теоретическим и, главное, практическим знакомством с военным делом. Выпущенный офицером из того же Московского юнкерского училища в 1876 году в простой армейский полк, он провел в строю русско-турецкую войну, а позже русско-японскую уже генерал-квартирмейстером 3-й Маньчжурской армии. Как я уже говорил выше, он в 1909 году был назначен начальником штаба к нам в Киевский военный округ. Империалистическая война застала его командиром корпуса. Пост главнокомандующего Северо-Западным фронтом он занимал с марта 1915 года, а с августа стал начальником штаба Ставки.
Алексеев обладал большой работоспособностью, был несловоохотлив и скромен. К отрицательным сторонам его надо отнести малое знакомство с внутренней жизнью страны, в особенности с политической борьбой, слепую приверженность идее самодержавия. В частности, он не позволял себе выступать против вредного упрямства царя в делах выбора и назначения военных деятелей.
На посту начальника штаба при Верховном главнокомандующем Алексеев являл собой диаметральную противоположность Янушкевичу. Он обладал несравненно большими знаниями и лучшими деловыми качествами. Я считаю ошибкой великого князя, что он в свое время предпочел Алексееву из-за незнания им иностранных языков лентяя и невежду Янушкевича, пусть и владевшего языками.
Более склонный к административной работе, чем боевой, Янушкевич был человеком жизнерадостного эгоистического характера. Незаменимый собеседник (по-французски) в петербургских салонах, в дамском обществе, он подкупал приветливостью, веселым нравом, открытым и откровенным признанием своей «стратегической невинности» (как его насмешливо звали в штабе). Прощаясь с работниками штаба перед отъездом на Кавказ, Янушкевич чистосердечно и справедливо признался в своей вине за наши военные неудачи первого года войны. На удалении его с поста начальника штаба настаивала Государственная дума, что и было выполнено еще до смены самого Николая Николаевича, который выпросил у царя назначение Янушкевича на Кавказ, не подозревая, что хлопотал опять для самого себя.
Важной виной Янушкевича было и то, что он, потворствуя Николаю Николаевичу, не держал Сухомлинова в курсе военных событий, чем лишал последнего возможности своевременно принимать меры по обеспечению армии. Впрочем, по рассказу Скалона, этот ненормальный порядок продолжался и в Могилеве при Алексееве, когда в Петербург для опубликования давались сведения, заведомо искаженные.
На должность генерал-квартирмейстера Алексеев вместо ушедшего Данилова назначил случайно подвернувшегося ему генерала Пустовойтенко, не имевшего никаких военных талантов. Очевидно, Алексеев считал, что главная работа в штабе все равно ляжет на его плечи.
Этой сменой лиц были вызваны и многие другие перемены. Николай Николаевич получил назначение наместником и главнокомандующим на Кавказский театр военных действий, куда был назначен, как сказано уже, и генерал Янушкевич.
За мое короткое пребывание в Могилеве при царе я не Раз был свидетелем разговоров об активном участии в смене Николая Николаевича англо-французских представительств, исходивших почти исключительно из военных соображений, без учета революционных событий в России, активизированных полной экономической разрухой. Должен сказать, что внутренним политическим событиям в стране и возможности влияния их на военные события наши близорукие высшие штабы не уделяли никакого внимания. Я не помню, чтобы даже офицеры Генерального штаба говорили о революционных событиях; вопросами внутренней политики интересовались только одиночки.
Мог ли при этих условиях личный состав штаба и генералитет понимать тесную зависимость боевых действий от хода революционных событий в стране? Я позволю себе в этом сильно сомневаться. Хотя зависимость эта и ощущалась, поскольку, например, забастовки на Путиловском и других заводах мешали получать на фронте оружие и боеприпасы или поскольку доходившие с улицы крики «долой царя!» грозили целости самодержавного строя.
Находясь в царской Ставке, я получил предварительный запрос штаба Западного фронта, не соглашусь ли я принять должность помощника генерал-квартирмейстера штаба с целью наладить в нем разведывательную службу. Я хорошо понимал всю трудность, если не сказать безнадежность, этой столь запоздавшей затеи. Однако я дал свое согласие, которое диктовалось обстановкой, складывавшейся в Ставке.
Царь в моих глазах был ничтожеством, неспособным на более или менее толковое руководство армией; в соединении с его упрямством, неумелым подбором советчиков, вредным влиянием жены и разных проходимцев верховное командование неминуемо должно было стать источником еще более тяжелых несчастий для страны.
Нового начальника штаба Алексеева я высоко ценил как стратега, но что сулили его военные знания при слепой преданности царю, при непонимании внутренних событий в стране? К тому же подбор им в качестве своих ближайших сотрудников таких посредственных генералов, как Пустовойтенко, Носков и другие, не мог привести ни к чему хорошему.
Работать в таком окружении мне представлялось совершенно невозможным, поэтому я и дал свое согласие на перевод в штаб Западного фронта.
Западный фронт, в штаб которого я был переведен из Ставки, был образован почти одновременно со сменой Верховного главнокомандующего. Во главе фронта стоял главнокомандующий Эверт (начальник штаба – Квецин-ский и генерал-квартирмейстер – мой товарищ по Генеральному штабу П. П. Лебедев).
Тогда же был образован и Северный фронт во главе с генералом Куропаткиным и произошли некоторые перемены в верхах армии. С осени 1915 года военным министром был назначен Поливанов, вскоре, впрочем, смененный за непорядки на Путиловском заводе Шуваевым. Последний, старый мой киевский знакомый, был в течение шести лет начальником Киевского военного училища, затем начальником дивизии и командиром 2-го Кавказского корпуса. Он был хорошим администратором и безукоризненно честным человеком, что имело большую важность для борьбы с развитым воровством в тылу.
Одновременно с этим Сухомлинов по своей просьбе был уволен в отставку, а вслед за этим согласно постановлению Государственного совета начато следствие по обвинению его и начальника главного артиллерийского управления Кузьмина-Караваева в несвоевременном и недостаточном пополнении запасов войскового снабжения.
Был ли в этом преступлении перед родиной повинен только один Сухомлинов, хотя и в сообществе Кузьмина-Караваева? Невольно задавал я себе этот вопрос и, вдумываясь в положение страны, неизменно приходил к выводу, что весь государственный организм, со всеми его министрами и деятелями всех рангов, должен был принять на себя равную ответственность за несчастья и страдания народа и его армии.
Из трех держав Антанты, вызванных Германией на бой в 1914 году, Россия хотя и была подготовлена лучше, чем когда-либо в прежние войны, все же являлась худшей по подготовке в политическом, финансовом, экономическом и военном отношениях.
В 1916 году тяжелая обстановка в стране, усиленная транспортным кризисом и произвольным выпуском бумажных денег, вызвала острый недостаток самых насущных для населения продуктов: соли, сахара, мяса, зерна, муки, топлива. Становилось совсем ясным, что Царское правительство было не способно отстоять Россию.
В стране происходило необузданное разбазаривание власть имущими всякого добра, расточительство, казнокрадство, мотовство. Насколько развелись эти пороки и на фронте, свидетельствует факт изданного еще в 1915 году повеления Верховного главнокомандующего предавать казни через повешение осужденных за мародерство.
Недовольство солдат сильно увеличилось под влиянием жизни в крайне загрязненных окопах, без всякой веры в победу. Чтение революционных листовок и газет призывавших к окончанию войны, естественно, в окопах почти не преследовалось – высшее начальство держалось от этого подальше.
Тяжелая общая обстановка, в которой началось широко непопулярное руководство армией царем, еще усугубилась новыми, в общем неудачными, наступательными операциями. Свидетелем некоторых из них мне пришлось быть, когда я находился в штабе Западного фронта.
Безобразно организованным наступлением, завершившим год, было, например, начатое в декабре 1915 года наступление 7-й армии. Днем с целью подготовки атаки велась бомбардировка неприятельских позиций; ночью наша артиллерия молчала, давая противнику беспрепятственно исправлять произведенные разрушения; наутро армия наступала и, конечно, неудачно. Все это делалось при недостатке снарядов, при чрезмерном удалении артиллерийских позиций и плохом наблюдении за огнем. Захваченные позиции не удерживались, и войска, захватившие их, не получали поддержки. Задачи давались неопределенные; начальники находились от войск далеко; связи с тылом и с соседями не было; донесения, как правило, были недостоверными. И это нарушение элементарных основ ведения боя имело место в армии, командующим которой состоял бывший начальник Академии Генерального штаба Щербачев, а начальником штаба армии – ее профессор Головин!
Вскоре на ряде фронтов армия стала терпеть поражения. Была отдана противнику Польша и часть Прибалтики. К расстройству армии и разрухе в тылу присоединились глубоко взволновавшие солдат и народ слухи о предательстве царицы и военного министра Сухомлинова. Плохо одетая и обутая армия голодала, дисциплина в ней пала, войска стали отказываться от наступления, началось дезертирство и братание с немцами. Промышленность расстроилась от недостатка сырья, а транспорт от отсутствия толлива. Продовольственный кризис обострился, озлобление народа против государственного строя и царского правительства охватило все слои населения.