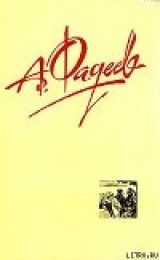
Текст книги "Разлив"
Автор книги: Александр Фадеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Дед Нерета строгал на верстаке у амбара доски на ульи. Было дымно и душно. Вспотевшие костлявые лопатки нудно терлись о холщовую рубаху. Ноги тонули в море медово-серебряных стружек.
Иван вернулся из поездки по волости.
– Как хлеба? – спросил Нерета.
– Плохо…
– Да уж хорошими быть не с чего… – дипломатично промычал дед.
Иван распряг лошадь и увел в сарай.
– Иди-ка сюда, – позвал его дед.
Он был недоволен сыном. Конечно, приятно иметь роднёю председателя волостного земства, но ведь хозяйство тоже – не кедровая шишка. Вылузгал орехи и бросил.
– Все ездишь? – спросил он Ивана не без ехидства.
– Езжу… – угрюмо ответил тот.
– Служба твоя, что лануш, – сказал Нерета наставительно, – отцвел и нету. А земля дело прочное. Проездишь, детка, землю-то, а?
– Вот уж отцвету – тогда за землю…
– А не поздно ли будет?
Они долго молчали. Нерета бросил строгать и подошел к сыну.
– Ванюха! – сказал он, неожиданно меняя тон. В седых глазах забегала всегдашняя усмешка, и веселые искры побежали в строгие сыновние глаза. – Брось, а? Оженим по первой статье – найдем бабу, косить будем, а?..
– То есть как же "брось"? – удивился сын.
– А так… К хренам, скажи, мне ваше удовольствие! Я, мол, и сам человек – надоело мне с вами маяться.
– Бросить нельзя, – возразил Иван Кириллыч, улыбаясь. – Хитер ты больно… Раз начато – надо кончать. Скажем, посеял ты гречку, а убирать не станешь…
– Гречку я для себя сею, – перебил дед.
– Это я так, к примеру, – продолжал Неретин, – а только предо мной задача…
Он хотел объяснить, какая перед ним задача, но не стал, решив, что не пришло еще этому время.
– Зада-ча! – передразнил старик. – Вон люди говорят, поделить все хочешь, правда? Нет?
– Врут. Не в дележе дело. Скажем, у тебя хлеба много, но ты своими руками его нажил – никто и не возьмет. А раз Копай нетрудовым потом нажился – отдай!.. Поработай сам, а тогда свой хлеб и кушай!..
– Не шибко и ты в политике силен, – съязвил дед. – Баловство все это! Как был шалай-балай, так и остался. Какой ты мне сын?.. Бузуй ты, детка, а не мужик! Вот уж свернут тебе шею…
Неретину стало жаль отца, но он боялся "распускать слюни" и ничего не ответил. Дед обиделся и взялся за рубанок. Это была первая размолвка в это лето. Потом они спорили часто и даже ругались.
2
В этот вечер Иван Кириллыч пошел к фельдшерице Минаевой. Она болела воспалением почек. В больницу ехать было далеко – пятьдесят верст по таежному тракту. Приходилось ждать, пока пройдут первые приступы болезни.
Поправившийся учитель Барков со всей семьей пил чай на школьном крыльце.
– К шлюхе своей пошел, – сказала жена учителя, повышая голос, чтобы Неретин мог ее слышать. – Нашел приятельницу, большевичку.
– Как Анна Григорьевна? – спросил Неретин у аптечной служительницы.
– Все болеют…
Он зашел на квартиру. Минаева по-прежнему лежала в постели – желтая, с припухшим лицом, разметав нечесаные волосы по подушке. Завидев Неретина, она так и просияла на него своими большими темно-карими глазами.
– Здравствуй, – сказал он просто, наклоняясь и целуя ее в лоб.
Лоб был горячий и влажный.
– В волость, слыхала, ездил?
– Был…
– Ну и как?
– Ничего, – ответил он неохотно. – Настроение лучше здешнего. Особливо внизу. Там и хлеба лучше. А с тобой как?
– Не хуже, не лучше… Арбуза мне хочется…
Она хотела шутливо улыбнуться, но улыбка вышла по-детски жалкой.
– Арбузов еще нет, да тебе и нельзя.
– Я знаю, я шучу…
– Слушай, – сказал Неретин, наклоняясь. – Я, знаешь, зачем пришел?
– Зачем?.. – спросила она растерянно.
Он тихо засмеялся и взял ее за руку. Рука с нежной ямочкой на сгибе была пухлая и желтая, как лицо. Но все же она была мила ему, эта рука.
– Ни зачем… Поняла?.. Ни зачем – просто пришел. Пришел потому, что болит о тебе душа, и потому, что приходить приходится редко, и нет времени на любовь, и мало помощников в деле, и потому, что хочется и можется жить и работать, и сила есть, а ты больна…
Он быстро-быстро целовал ее руку, а каштановые волосы метались на его голове, и ласковые глаза с синью пучились прямым спокойным светом.
Она молча и нервно гладила его волосы, не зная, что сказать, не решаясь почему-то назвать его уменьшительными именами.
– Будет, что ли? – спросил он шутливо, отпуская руку.
Она притянула его близко-близко и, касаясь горячими губами уха, сказала совсем неожиданно:
– Какой ты хороший и… странный…
– Странный? – удивился Неретин.
– Да. Я живу здесь семь лет, а таких еще не видала.
"Чудит", – подумал Неретин, сразу принимая добродушно-насмешливый тон.
– А где я жил, там, надо полагать, здешние странными кажутся. Понятно?..
– Нет, все-таки… не то.
– И тебе, стало быть, без «таких» скучно тут было?
– Скучно…
– Чего ж ты не уехала?
Она хотела сослаться на какие-то тяжелые условия, но что-то взмыло к горлу изнутри, и, удивляясь себе, что может вымолвить это так спокойно, она сказала:
– У меня ведь ребенок был…
Сказала и запнулась.
– Ну, так что ж? – допытывался он. – У меня двое были. То есть не сам я рожал, надо думать, а были мои… – И так как она молчала, он добавил:
– Но если понадобится, я куда угодно поеду. Очень просто.
Она заволновалась и попыталась приподняться на подушке.
– Лежи, лежи… – удержал он ее за плечо.
Она нервно передернула руками, соображая что-то, и наконец сказала:
– Тут целые дела… Когда-нибудь расскажу, не могу сейчас… Ошиблась я как-то, ну и… – Голос ее оборвался, и неожиданно для себя и для него она заплакала.
– Вот это уж зря, – сказал Неретин укоризненно, – на-ка полотенце.
Чувствуя прилив необычайной нежности, он стал сам обтирать ей слезы, впервые замечая, что руки у него грубые и жесткие, а пальцы немного кривые. Но от его уверенных и ласковых движений она успокоилась и даже улыбнулась.
– Видишь, какая я кислая, не то, что ты…
– Ничего, будешь со мной, пройдет. Я ведь простой. А рассказывать вообще не стоит – ерунда.
3
Неретин сидел еще долго. Служительница зажгла лампу и принесла ему чаю. Он выпил стаканов семь, удивляясь, куда они умещаются, и шутил по этому поводу. Минаева слушала его, и ей страстно хотелось выздороветь.
Только когда в церкви пробило двенадцать, он ушел. Ночь стояла сухая и вместе с тем странно тягучая и липкая не по-летнему. На западе огневел злато-сизый пояс горящего леса, а за ним плавилось заревом небо, как вогнутый лист раскаленного железа.
В лохматой голове Ивана – в этом луженом и крепком солдатском котелке – уже варились и кипели простые, обыденные мысли о работе.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
В промежуток между гречишным севом и сенокосом Жмыхов ходил на охоту. Но этим летом жара давала себя чувствовать даже в Садучарской тайге, и он знал, что мяса теперь никто не купит: в погребе портилась даже солонина, а ледники имелись только у не нуждавшихся в мясе кошкаровских староверов.
Тогда он решил плыть в Сандагоу, чтобы летнее время не пропало даром. Надо было забрать у Нереты двадцать пудов муки, оставшиеся с прошлой зимы за беличьи шкурки, купленные дедом на шубу в приданое дочери. Кроме того, следовало получить у волостного объездчика свое лесничье жалованье и захватить в правлении газеты, которых он не читал уже около двух месяцев.
Он подправил лодку и спустил ее к реке. Плоскодонка была большая, но не тяжелая, почти не пропускала воды. Дома он подстриг бороду, одел патронташи, сумку и большую алюминиевую флягу в суконном чехле, наполненную медовухой. Марья оправила сзади ему рубаху: Жмыхов был костист и высок, и рубаха некрасиво морщилась на спине.
– Ну что ж, пора… – сказал жене. – Где Каня?
– В лодке ждет.
Она в последний раз осмотрела его с ног до головы.
– Хорош! – сказала насмешливо.
– Знамо, хорош, – улыбнулся Жмыхов, заглядывая ей в монгольские глаза. Черные, немного суженные, с большими ресницами и отчетливыми бровями – то были смелые глаза ее предков со средней Аргуни, откуда он вывез ее восемнадцать лет назад.
Они пошли на берег вместе.
Дочь Жмыхова уже сидела на корме и, лениво болтая веслом в воде, смотрела, как бежали вниз маленькие крутящиеся воронки.
– Скоро ты? – крикнула нетерпеливо отцу.
– Поспеешь, козуля…
Жмыхов передал ей топор и винчестер.
– Прощай, старуха! – сказал жене подбадривающим тоном.
Марья не обиделась на обращение «старуха», хотя на загорелом лице ее не было старческих морщин, а черных волос не потревожила седина.
– Езжай, – ответила она просто.
Он столкнул нос лодки с берега и с неожиданной легкостью перенес на него двести двадцать фунтов своих костей и жил, когда лодка была уже подхвачена быстрым течением. Бурый пес бросился вплавь вслед за лодкой, но Марья отозвала его назад, и он долго недовольно ворчал, поблескивая вымокшей шерстью.
2
От хутора до Самарки верст тридцать пять. Надеясь на быстроту течения, Жмыхов редко брался за весла. Каня сидела у руля, а он дремал, лежа на носу, под журавлиную песню Ноты, и солнце высекало золотистые искры из его русых волос с рыжеватым отливом. Волос у Жмыхова – мягкий. Недаром сандагоуцы зовут лесника «Королем», а гольды «Золотой головой».
У Кани руки крепкие, а глаз острый. Нота тоже хитрая река – мечется то вправо, то влево. Лижет скалистые обрывы, водовороты делает. Белопенные водовороты злобно рычат. Кедр тянет с берега корявые мшистые лапы. За кедром непролазная темь да карчи.
В других местах веселее – березняк белеет серебряной корой. Вьется небо вверху меж ветвей иссеченной лентой, и зверь молчит под кустом, от жары разомлев, и пихта стоит прямо и тихо, как сон. Курится тайга медовыми смолистыми запахами…
– Комар прилетел, – сказал Жмыхов под вечер, – давно комара не было.
– Стало быть, дождь будет, – пояснила Каня.
– Ясное дело, будет. К тому и говорю.
Он выпрямился во весь рост и посмотрел вдаль. Нота вырвалась из кедрового плена и бежала по широкой безлесной долине. С боков долины – сопки. Ближе – черные, дальше – синие, а совсем далеко – голубые. На сопках – опять тайга.
Большая река Нота, а Улахэ еще больше. Нота идет в Улахэ на полтораста верст ниже Сандагоу, и в этом месте – Самарка. Есть еще ключ Садучар. Он пришел из голубых Сихотэ-Алиньских отрогов и вынес в самое сердце хлебных полей хвойный пихтовый клин. Растрепал Нотовы берега, взбаламутил спокойную воду, натащил тяжелых таежных карчей. Садучар – холодный и суровый красавец.
– Будем воевать, – сказал Жмыхов, заслышав его пенокипящий гул.
Он переменился с дочерью местами, снял снаряжение и засучил рукава. Были у него волосатые и жилистые руки.
Палило огнем вечернее солнце, дымилось небо тонкой пеленой, и воздух, полный невидимого речного пара, стоял неподвижен и густ. Волос Жмыхова горел на солнце золотой чешуей, а у дочери волос черный не мог спрятаться под кожаной шапкой. Кофта у нее совсем расстегнулась, и груди виднелись – румяные загорелые яблоки.
Темный пихтовый клин в пожелтевшей долине бежал на лодку. Садучар ревел тайфуном, пенился белыми сихотэ-алиньскими облаками. Лодка дрожала и металась на волнах, как испуганный конь, и резала кипучую пену. Каня опустилась задом на пятки и влипла коленями в днище. Был у нее монгольский пронизывающий глаз. Жмыхов впивался в реку веслом и кричал:
– Загребай нос!
Каня крепче врастала коленями в лодку, а руки ее действовали верно и точно, как железные рычаги машины. И когда, под самым обрывом, кренясь и поскрипывая бортами, судно пролетело наконец Садучарово устье, она откинулась на спину и засмеялась громко и весело.
– Ловкачи мы! – крикнула отцу сквозь смех из-за белых зубов и потянулась, свежая и гибкая, как улахинский кишмиш. – Нас голыми руками не возьмешь, – добавила горделиво.
– Ясное дело, – согласился Жмыхов привычной фразой.
Вспотевшее лицо его бронзовело под золотистой шапкой волос, и широкая грудь, курчавясь мхом в прорези воротника, вздувалась, как кузнечный мех.
3
Нота разрезала Самарку на две части. Человек на берегу мочил дубовые бочки в речном затоне.
– Эй, здорово! – крикнул ему Жмыхов.
Человек приподнялся и, прикрыв глаза от солнца мокрой рукой, долго рассматривал сидящих в лодке.
– Кажись, Король? – сказал он наконец. – Ну-ну, доброго здоровья тебе, – и тотчас же добавил: – И дочке твоей.
– Стрюк дома?..
– Со съезда приехал – все дома. Слышишь, в кузне гукает.
– С какого съезда? – удивился Жмыхов.
Но бондарь уже нагнулся и не слышал его.
Бабы стирали на плотах белье. Загорелые мальчишки барахтались в воде. В знойном мареве плавали позолоченные купола деревенской церкви. Жмыхов обогнул причал и пристал прямо у стрюковской кузницы.
– Кузнец!.. – позвала Каня Стрюка. После победы над Садучаром она чувствовала во всем теле избыток молодой и задорной силы.
Стрюк вышел из кузницы. Был он низкого роста, но коренастый, с чрезмерно длинными руками и мощными ладонями.
– Те-те-те… – защелкал он языком, стараясь изобразить на лице удивление. – Приехал Король и козу свою привел?.. Ладно. Куды, в Сундугу собрались?
Русские улахинцы звали волостное село не Сандагоу, а Сундуга.
– Есть такое дело, – в тон ему ответила Каня.
– Ну, тогда сбирай манатки, ночью дождь будет.
– Ясное дело, – подтвердил Жмыхов.
– Не ясное, а хмарное, – пошутил Стрюк, втаскивая лодку на берег. – Айда-те!..
4
Дома Стрюк рассказал Жмыхову все новости. А новостей было много. Прежде всего, у Стрюка оказалось несколько майских газет, в которых только и толковали о выборах во Всероссийское учредительное собрание. Сами выборы предполагались осенью. И так как газеты у Стрюка были самые разнообразные, то Жмыхов имел возможность познакомиться с тем, как смотрят на это дело разные люди.
Правда, разобраться в тонкостях он не мог: различных оттенков было множество. Так, например, на одних газетах сразу под заголовком большими черными буквами красовались лозунги: "Война до победного конца! Вся власть Временному правительству!" А на других: "Война до конца за мир без захватов и контрибуций!", но зато – "Да здравствует демократическая республика!" На третьих стояло: "Долой кровавую бойню! Вся власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!" Впрочем, много встречалось и иных. Когда месяца два тому назад Жмыхов читал мартовские газеты, такой неразберихой как будто бы и не пахло. Но уже и тогда начинали поругивать неизвестных большевиков.
– А ты как смотришь на это дело? – спросил Жмыхов у Стрюка.
– А как смотрю! – сказал кузнец. – У меня два сына на фронте. Хозяйство, знаешь, невелико, а прыгаю, как белка на сосне… Войну кончать пора – вот как смотрю!.. Нам с ней одно горе.
Стрюк говорил строго, а глаза под колючими ершами вместо бровей мигали весело.
– Учредительное собрание… – рассуждал Жмыхов. – Откудова этакое выскочило?.. Живем, как азияты – ясное дело…
– Н-да… В волость съездишь, узнаешь. Там, поди, известно.
Хитрый мужик Стрюк. Улыбку спрятал в бороду, а борода у него что трава на кочке.
– На съезд волостной я ездил… Вот где дела – так да-а…
Он рассказал Жмыхову о последних событиях в волости.
– Копая жирного знаешь? Этому за всех попало. Заседали в воскресенье, а в селе станковые со Свиягинской лесопилки гуляли. Рабочий народ, известно… До девок больше. Отмутили лавочника по первое число, как же. Взятошник…
– Их вражда старая, – пояснил Жмыхов. – Копай на лесопилку муку поставлял. Мало что подмоченную, а говорят, ржаную промеж пшеничных кулей подсовывал. Жулик известный.
– А ты слушай, – продолжал Стрюк. – Большевик, говорят, Неретенок-то?..
Он лукаво прищурился и выжидательно посмотрел на Жмыхова. "Хитрый мужик, все знает", – подумал Жмыхов, а вслух сказал:
– Дела…
5
Кузнецовы бабы вернулись с поля. Темнело. Мальчишки на улице с трудом доигрывали в городки. В растворенные окна хаты вместе с необычайной духотой вечера врывались их звонкие голоса и удары палок по рюхам.
К Стрюку пришел самарский священник, отец Тимофей.
– Здоровеньки булы! – рявкнул он тяжелым медвежьим басом, снимая в сенях дырявую соломенную шляпу. – Завтра дождь будет – солнце садилось в тучу.
Кузнецова мать, рассыпчатая старуха, подошла к нему под благословение.
– Брось, стара, излышний машкерад, ну его к бису! – сказал он насмешливо. И добавил по-русски: – Тебе, может, забава, а мне-то уж надоело. Дура…
– Ах ты, безбожник! – обиделась старуха. – А еще поп! Вон с тем чертом два сапога пара, – указала она на сына.
– Не любят нас с тобой старухи, – сказал отец Тимофей Стрюку. – А по всему, должны бы старухи попа уважать. В других местах так водится. Впрочем, каков приход, таков и поп… Я к тебе, лесная твоя душа, – обратился отец Тимофей к Жмыхову.
Он сел рядом на лавку и, вытащив из рваного подрясника кисет, стал вертеть грубыми и желтыми, как ореховое лыко, пальцами толстую цигарку.
– Ты что? Уже?.. – спросил Стрюк, подмигивая.
– Ни синь пороха… Я в поле был. – Он заклеил цигарку и задымил. – Гречка моя не всходила, а пшеница на низу лучше других. Огурцы пропали, попадья плачет. Дура…
Были у попа игривые черные брови, полтавские глаза и нос большой и мясистый, цвета пареной луковицы. Он косился на Каню и часто сморкался в изнанку подрясника.
– Так вот, к тебе, – снова обратился он к Жмыхову. – Возьми меня в Сундугу. Едешь, говорят?
– Вещей много?
– Вещей?! Чу-дак!..
Отец Тимофей расхохотался и долго кашлял, поперхнувшись дымом. Кашель его был откровенен и весел, как смех. Пахло от попа землей, самогонкой и Библией, и был он так же жизнелюбив, пьян и мудр.
– Вещей… Чудак!.. Что я, невеста с приданым, што ли? Мне за жалованьем съездить.
– А платят?
– Платят. Дурни…
– Эт-та поумнеют, – сказал Стрюк резонно.
– А мне хоть бы хны, – усмехнулся поп. – Подрясник сбросил, волосы подстриг, а пашня у меня своя. Гуляй – не хочу.
Стрюк взял со стола первую попавшуюся газету и сунул ее священнику.
– Ну их к бису, – отмахнулся отец Тимофей, – я их и раньше не читал… Так возьмешь? Нет? – насел он на Жмыхова.
– Ясное дело, возьму. Приходи завтра со светом.
– Ладно… Дочка-то у тебя, а? Выросла…
– Выросла, да не для тебя, – съязвила Каня.
– Я и не говорю, что для меня. Дура…
Он расправил плечи, потянулся и зевнул.
– Людская глупость навевает скуку, – сказал безобидно. – Пойду…
И когда сенная дверь захлопнулась за ним, кузнец сказал:
– Чудак поп, а на работе лучше мужика.
6
С полночи зацедил дождь, упорный и однообразный. Несмотря на уговоры Стрюка, Жмыхов выехал на рассвете мокрого и скользкого утра. Отец Тимофей прибежал еще затемно со сверточком под мышкой.
– Где остановишься в Сундуге-то? – спросил Жмыхов. – У отца Ивана, што ли?
– Ну, нет… – забасил отец Тимофей. – Я, знаешь, со всеми сангоускими попами в "дружбе".
Он захохотал откровенно и весело, как всегда, разбрызгивая бородой дождевые капли.
– Не любят они меня, гусятники святые.
Подыматься по Улахэ было труднее. Течение постоянно сбивало лодку. Требовалось полное разделение труда. Каня сидела у рулевого весла, а Жмыхов с попом менялись. Работали то шестами, то веслами, но в некоторых местах приходилось брать и то и другое. Река обмелела, и лодка садилась на перекатах. Они слезали в воду и тащили ее на канате.
Разница между речной и дождевой водой терялась, и казалось, что воздух улетучился, а люди движутся с головой в воде и дышат ею.
Отец Тимофей скинул подрясник и неприлично ругался.
– Чего рыбу глушишь? – смеялась Каня. – Это тебе не в церкви, чертово кадило!
Отец Тимофей шлепал ее по спине тяжелой ладонью.
– Буйные у тебя телеса, девка. Кому в жены достанешься?..
– Медведю!
– То-то порадуешь старика.
Но к вечеру желание шутить пропало. Лица синели, коченели руки, с трудом сгибались и разгибались пальцы.
7
Третью ночь они провели в фанзе старшего племянника Тун-ло. Сам старик отдыхал там же и посоветовал Жмыхову не ехать дальше.
– Ты видишь, Улахэ вздулась. Живи здесь. Тун-ло все знает. Река клохчет, как наседка. Вверху затор. Если хочешь знать где, Тун-ло скажет: в Боголюбовской перемычке. Тун-ло все знает. Так было много лет назад, когда друг еще не родился. Половина долины поплывет, но фанза Тун-ло останется, потому что она на холме.
Старый гольд хорошо говорил по-русски, и слова его звучали уверенно. Но Жмыхов знал, что промедление грозит лишними неделями, и жалел время.
– Успеем, – ответил он гольду. – Помнишь, как мы плавали с тобой? Тогда мы ни черта не боялись. Амур страшнее Улахи, и Улаха меньше Аргуни.
– Да, Аргунь… – сказал Тун-ло задумчиво. – Оттуда ты привез бабушку, и она осрамила этой весной охотника Тун-ло. Но Тун-ло уже стар…
Утром гольд слез с теплого кана, насыпал в мешок чумизы и принялся за чистку ружья.
– Куда ты? – спросила Каня.
– Теплая циновка портит охотничьи кости, – сказал старик. – Тун-ло поедет с другом. У него есть в волости дела.
И он действительно поплыл вместе с Жмыховым, загадочный и спокойный, как каменный божок у фанзы племянника.
Река почти сравнялась с берегами и рвалась из невидимых оков стремительней и бурливей, чем когда бы то ни было. В последний день пути им пришлось особенно тяжело. Сказывалась близость верховьев, а лодка пропиталась водой и стала громоздкой. Сбиваемая спереди речным течением и подгоняемая сзади широкими веслами, она дрожала на мутных волнах тяжелой лихорадочной дрожью, продвигаясь не более одной версты в час.
Таким образом, в последний день они сильно запоздали. Мускулы их слабели с каждым напряжением, невыносимо ныли ключицы, и тела – обессиленные человеческие тела – жадно просили отдыха. Но у таежного человека воля крепка и сурова. Она преодолевает и физическую слабость, и ярость скованной в верховьях реки, и ядовитый скользкий мрак дождливой ночи. Она проводит человека через голубые заоблачные хребты, заставляет его бодрствовать многие сутки, выслеживая зверя, и толкает его в бой так же легко, как в теплую женину постель.
И глаз у таежного человека остер, и пуля из его ружья верна, и взгляд его горд и спокоен, потому что воля его густа, как кровь, а кровь ярка и червонна, как тетюхинская руда.
– Наляжь! – кричал Жмыхов властно. – Р-раз… р-раз… Право руля, девка!.. Р-раз…
Впереди, у невидимого речного колена, в холодной дождливой мгле приветливо мигали желтые огни Сандагоу.








