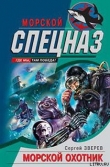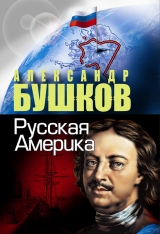
Текст книги "Русская Америка: слава и позор"
Автор книги: Александр Бушков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Поначалу с бомбардировки и начали: все имевшиеся в наличии суда во главе с «Невой» подошли к берегу и открыли ожесточенный огонь из всех имевшихся в наличии пушек. Особенного толку от этого не получилось: разрывных бомб не было, а ядра, пущенные из пушек небольшого калибра, частокола из толстых бревен не пробивали, к тому же индейцы накопали внутри много подземных убежищ, где и отсиживались.
Начался штурм. Моряки с «Невы» под командой лейтенанта Арбузова с одним орудием шли с одной стороны, Баранов и лейтенант Повалишин при четырех пушках – с другой. Колоши огрызались из ружей и фальконетов. Русские подобрались к воротам и стали лупить по ним ядрами в упор. Но воинство Баранова не вынесло ожесточенной пальбы из крепости и начало отступать. Ничего удивительного: кроме горсточки военных моряков, это были в подавляющем большинстве охотники на морского зверя, непривычные к таким баталиям. Котлеан, распахнув ворота, кинулся в контратаку, но отступление русских прикрыли пушки с «Невы».
Ситуация замерла на той точке, которая в шахматах именуется цейтнот. Несколько дней русские пушки лупили по крепости, а индейские – по осаждающим. Особого урона от этого ни одна из сторон не понесла. Оставалось выяснить, у кого нервы крепче…
Слабее они оказались у Котлеана, сообразившего наконец, что не индейское это дело – крепости защищать. Индейцы видели, что Баранов настроен решительно и всерьез опасались, что в случае взятия их твердыни он все окрестные деревья живописно украсит размалеванными колошами. Котлеан однажды уже стоял под петелькой, не так давно, и повторять сей печальный опыт ему определенно не хотелось…
В конце концов под покровом ночной тьмы индейцы тихонечко выбрались из крепости и драпанули в горы. Ни люди Баранова, ни военные моряки не имели опыта осады крепостей и потому не окружили укрепление сплошным кольцом.
Уже позже станет известно, что среди нескольких сотен сидевших в крепости индейцев были три американских матроса…
Войдя в крепость, русские и алеуты увидели жуткое зрелище, опять-таки решительно расходившееся с благостными образами краснокожих из романов Купера. Колоши опасались, что при ночном отступлении собаки выдадут их лаем, а грудные младенцы – плачем. И потому, перед тем как выбраться из крепости, тихонечко передушили своих собственных собак и своих собственных младенцев.
Своих собственных. Таковы уж были установления первобытной жизни, по которым тлинкиты жили: если возникала производственная необходимость, можно преспокойно придушить и собственного ребенка. Бабы новых нарожают.
Помянутые сотрудники академика Болховитинова в своем трехтомнике попробовали как-то смягчить эту неприглядную историю. Вот что пишет один из них: «В крепости были обнаружены лишь две старухи и несколько убитых детей, вероятно, рабов». Самое грязное шулерство кроется в том, что в примечании к этой фразе автор отсылает читателя к «сочинению Ю. Ли-сянского» – при этом не цитируя самого капитан-лейтенанта, а лишь упоминая его книгу. Придурок, ага. Как будто никто, кроме него, не в состоянии отыскать оригинал…
Так вот, сам Лисянский описывает увиденное совершенно иначе: «Самое варварское зрелище, которое могло даже и самое ожесточайшее сердце привести в содрогание. Полагая, что по голосу младенцев и собак мы можем отыскать их в лесу, сит-хинцы предали их всех смерти».
Как видим, речь, несомненно, идет о собственных детях колошей, а не о каких-то малолетних «рабах». А впрочем, разве убийство маленького раба «приличнее», чем убийство собственного ребенка? Мышление нашей исторической интеллигенции – штука заковыристая, умом его не понять и аршином общим не измерить…
Кстати, часть пленных, захваченных в набеге на Новоархан-гельск и промысловые партии, колоши принесли в жертву во время очередной молитвы своему Маниту. Такая уж у них была милая привычка вдобавок к прочим – регулярно устраивать человеческие жертвоприношения…
Как ни удивительно, те две индейские старухи, которых русские обнаружили в опустевшей крепости, были живы. Люди Баранова собрали там больше сотни собственных ядер, а в качестве трофея захватили две индейские пушки, купленные колошами у янкесов.
Через некоторое время, выждав, пока Баранов остынет, явился Котлеан просить мира. Баранов (при штурме раненный в руку) его не повесил, хотя имел к тому полную возможность – простил, заключил мир и даже подарил на память жезл с орлиными перьями и гербом Российской империи.
Не прошло и года, как Баранов заново отстроил Новоархан-гельск – возвел крепость с двадцатью пушками, склады, казармы, сушильни для мехов, а в завершение построил и себе дом с садиком (правда, предусмотрительно окруженным частоколом). Той же осенью индейцы захватили и сожгли укрепление Якутат и уничтожили крупную партию промысловиков под начальством Демьяненкова. На этом и закончилась самая крупная русско-индейская война тех лет. Ее жертвами стали примерно 45 русских и 230 алеутов, а ущерб от уничтоженного имущества превышал полмиллиона рублей.
Эта война ныне совершенно забыта. Случись это с американцами, они давным-давно написали бы не одну сотню исторических трудов и приключенческих романов, сняли не одну сотню фильмов. Материал и в самом деле богатейший, согласитесь. Перестрелки и погони, потеря крепости и ее возвращение после шестидневного сражения, русские в индийском плену, прямо-таки кинематографическое спасение рудознатца Баженова с помощью индейской скво, взрыв каноэ с грузом пороха, удачные и неудачные попытки Баранова вызволить пленников от индейцев «из глубинки», дерзкий побег от тлинкитов Дмитрия Ларионова, сына начальника якутатской крепости и алеутки (он провел в плену десять лет, прежде чем смог вырваться). Да мало ли великолепной фактуры? Увы, наши Дюма и Вальтер Скотты смотрели дружно куда угодно, кроме Русской Америки…
Современники Баранова оценивали его заслуги высоко. Именно за возвращение Ситхи Баранов по ходатайству графа Румянцева в 1806 г. получил от императора орден Св. Анны 2-й степени.
А в это время на Гавайских островах в тамошних кабаках пьянствовал Барбер и орал во всеуслышание, что он непременно как-нибудь нагрянет на Кадьяк, спалит артиллерийским огнем все русские укрепления и выгонит Баранова из Америки.
Барбер ухитрился опять отличиться: провернул еще одно рэкетирское мероприятие. Некий американский шкипер «одолжил» у Баранова двадцать пять алеутов, но назад, как обещал, так и не привез – бросил где-то в Калифорнии. Там их встретил Барбер, привез Баранову и вновь «благородно» потребовал за спасение десять тысяч. Баранов отдал – подавись, мол…
К тому времени к Баранову прислал своих людей с предложениями о торговле гавайский король Камеамеа Первый. А остров Ситха был официальным образом назван островом Баранова.
Мы ненадолго расстанемся и с Барановым, и с прохвостом Бар-бером. Речь пойдет о подлинной истории камергера Резанова, его путешествиях, свершениях, весьма непростых жизненных перипетиях, романтической любви, нелепой смерти – и о многом, многом другом, что произошло с ним и с другими…
Глава четвертая ВИВАТ КАЛИФОРНИЯ!
1. Историческое, но склочное плавание…
Сразу спешу подчеркнуть: лично я ничего не имею против рок-оперы «"Юнона" и „Авось“», вовсе даже наоборот, я слушал ее на протяжении лет двадцати, на пластинках, на кассетах, на лазерных дисках. Правда, потом, к сожалению, увидел по телевизору сам спектакль. Зря, честное слово. Ну что же, буду слушать дальше…
Вот только есть громадная разница меж собственными эстетическими впечатлениями и исторической правдой. Коли уж я собрался предъявить читателю сугубо документальную книгу, хочешь не хочешь, придется безжалостно расправиться с серьезными ошибками и совершенно ложными утверждениями, которыми творение Вознесенского прямо-таки полнится. Неизвестно, что тому виной – то ли выхлестнувшая за все мыслимые пределы поэтическая фантазия, то ли плохое знание истории, характерное для интеллигентов-шестидесятников с их мифологическим мышлением…
Итак, версия Андрея Вознесенского: граф Резанов, ища, чем себя занять после кончины любимой супруги, занялся составлением планов российской колонизации Калифорнии. Построив за собственный счет на петербургских верфях корабли «Юнона» и «Авось», он отправился в Америку под Андреевским флагом, обручился там с дочерью испанского коменданта Кончитой де Аргуэльо, но погиб на обратном пути, и безутешная невеста сорок лет не подозревала о его смерти.
Исторической правды здесь – сущие крохи: имена Резанова и Кончиты, названия кораблей, факт обручения и смерти Резанова по пути в Петербург. И только. Все остальное – все – чистейшей воды вымыслы, продержавшиеся в массовом сознании удивительно долго.
Графом, как я уже писал, Резанов не был – как не носил и какого бы то ни было иного титула. Всего лишь дворянин российский, и не более того. Как мы уже знаем, планами колонизации Калифорнии он занялся не с бухты-барахты, а оттого, что восемь лет до того самым активным образом был задействован в работе Российско-Американской компании (и ее предшественниц).
А вот командором, как его часто именуют, Резанов и в самом деле был по праву: командором ордена Св. Иоанна Иерусалимского, в обиходе иногда именуемого попросту «Мальтийский крест». В царствование Павла I этот орден был ненадолго включен в число российских (после смерти Павла им больше в России не награждали, но имевшим его позволяли носить). В отличие от России, где ордена разделялись на несколько степеней, Западная Европа приняла другую систему: командорский крест того или иного ордена, офицерский, кавалерский и т. д. Соответственно, в зависимости от полученной степени, именовались и награжденные: командор ордена, офицер ордена, кавалер ордена…
Начнем с того, что в Русскую Америку Резанов отправился не на «Юноне» (еще не купленной русскими) и не на «Авось» (еще не построенной русскими), а на корабле «Надежда». Более того, поначалу Резанов (несмотря на все его проекты) вовсе не собирался в Калифорнию…
Но давайте по порядку.
В 1803 г. была наконец-то организована первая русская кругосветная экспедиция, с которой имя Резанова неразрывно связано. Это – первая состоявшаяся русская «кругосветка». Но не первый проект, далеко не первый…
Еще при разработке планов Второй Камчатской экспедиции Беринга в 1732 г. глава Адмиралтейств-коллегий Н. Ф. Головин и еще восемь подчиненных ему адмиралов предложили не отправлять Беринга и его людей через всю Сибирь пешим путем и не строить корабли в Охотске, а снарядить экспедицию в Кронштадте и отправить корабли на Камчатку через Атлантический океан и мыс Горн. Адмиралы рассуждали вполне толково: получалась большая экономия времени. Посуху от Питера до Охот-ска пришлось бы добираться не менее двух лет (как с Берингом и произошло), а подобное плавание заняло бы от 10 до 12 месяцев, причем удалось бы избежать адских трудов по транспортировке грузов.
Головин загорелся этим предприятием и готов был лично его возглавить, но его проект отвергли по неизвестным причинам.
В 1764 г., когда для изучения Алеутских островов отправляли тем же сухопутным маршрутом экспедицию Креницына и Левашова, вновь возникла идея плыть морем, по «маршруту Головина». Затея сорвалась из-за вспыхнувшей русско-турецкой войны.
1781 г. Вице-президент Адмиралтейств-коллегий И. Г. Чернышев выстроил на казенных верфях судно и собирался отправить его тем же морским путем к берегам Русской Америки, нагрузив товарами. Снова сорвалось по неизвестным нам причинам.
1785 г. Самая серьезная попытка совершить кругосветное путешествие. Шелихов и капитан Сарычев составили проект об отправке кораблей в Русскую Америку по «маршруту Головина» из Архангельска или Балтийского моря. Приготовления начались масштабные: к участию в разработке проекта привлекли академика Палласа и адмирала Голенищева-Кутузова, Петербургская Академия наук стала в своей обсерватории обучать астрономическим наблюдениям пятерых офицеров и нескольких штурманов. Для экспедиции выделили четыре военных корабля – чтобы продемонстрировать иностранным державам силу России в Америке и шугануть отиравшихся в тамошних водах ловцов удачи, тогдашних предшественников Барбера. Задач перед флотилией стояло множество, самых разных: показать морскую мощь России, провести научные наблюдения, собрать сведения о Японии, обойти вокруг островов Сахалин (тогда превосходно знали, что Сахалин – не полуостров, а остров, это потом как-то подзабыли, и Невельскому при Николае I пришлось «открыть» это вторично).
К осени 1787 г. все было готово. Полностью снаряженная эскадра под командованием капитана первого ранга Муловского (двадцати девяти лет от роду!) стояла в гавани, оставалось только сняться с якоря, поднять паруса…
И надо же было такому случиться – чтобы именно в те дни вспыхнула очередная война с турками, плавно перетекшая для русских военных моряков в очередную войну со шведами… Естественно, экспедицию отложили, а корабли послали на войну. Муловский погиб в одном из сражений со шведами на Балтике.
Как писали потом его биографы, Муловский, будучи командиром корабля «Мстислав», часто рассказывал своим офицерам о неудавшемся кругосветном путешествии. Одним из слушателей был молодой мичман Иван Федорович Крузенштерн…
Судьба у него примечательная. Когда против шведов срочно мобилизовали весь Балтийский флот и выяснилось, что офицеров катастрофически не хватает, было решено: досрочно выпустить из Морского кадетского корпуса офицерами всех гардемаринов, которые хотя бы раз выходили в море. Крузенштерн к тому времени успел сходить в учебное плавание – и отправился на войну, где показал себя неплохо. Потом он стажировался в английском флоте, побывал в Вест-Индии, а поскольку до того много читал, занимался самообразованием (география, торговля, экономика), заинтересовался Российско-Американской компанией и задумался всерьез: нельзя ли использовать богатый опыт Европы в освоении заморских территорий?
И через несколько лет, уже дослужившись до капитан-лейтенанта, подал военно-морскому министру Кушелеву обширный проект об организации регулярного морского сообщения меж Петербургом и Русской Америкой. Он предлагал послать из Кронштадта на Аляску два больших корабля, нагрузив их инструментом и снаряжением, позволившим бы организовать на Аляске собственное судостроение. Создать не маленькие боты (какими обходился Баранов за неимением лучшего), а настоящие океанские корабли, чтобы без всяких иностранных посредников-перекупщиков самим возить меха в китайский Кантон, а нужные для Русской Америки товары закупать опять-таки самим в Китае и Индии.
Как частенько случалось с толковыми проектами не только в России, но и в других странах, предложения Крузенштерна одобрения у высокого начальства не встретили и легли в архив. Один из адмиралов, правда со скрипом, но идею поддержал – однако считал, что для этого плавания лучше нанять английских матросов, поскольку русские-де со столь сложным делом ни за что не справятся. Особо следует подчеркнуть к сведению господ национал-патриотов, что это был не один из многочисленных иностранцев на русской службе, а чистокровнейший русак адмирал Ханыков…
Одним словом, проект Крузенштерна был переправлен в архив. Сам Крузенштерн, огорченный неудачей (и застоем в тогдашних военно-морских делах), собирался уже выйти в отставку и заняться сельским хозяйством – а может, не капусту сажать, а преподавать географию в Ревельской школе, которую сам окончил. Он женился, обосновался на берегу и сочинял прошение об отставке…
Но ситуация, как это порой случается, переломилась резко. В 1801 г. на место Кушелева пришел адмирал Мордвинов, друг Павла I, крупный государственный деятель, человек незаурядный. Он быстро разобрался во всех выгодах, которые сулил проект, доложил о нем новому императору Александру I, получил высочайшее одобрение. Ну а поскольку он был еще крупным акционером Российско-Американской компании, то задействовал в первую очередь ее ресурсы. Дело рвануло с места в карьер!
Смешно, конечно, но Крузенштерн, которому предложили возглавить задуманную им же экспедицию, сначала… отказался. Жена как раз ждала ребенка, с мыслью об отставке уже как-то свыкся… Мордвинов, человек старой закалки, стукнув кулаком по столу, не долго думая, рыкнул:
– А польза Отечеству, молодой человек?! Отечеству-то кто служить будет? Или вы только прожекты рисовать умеете, а в жизнь их претворять – слабо?
Примерно так он и выразился, заявив: если Крузенштерн не возьмется, экспедиция не состоится вовсе. Крузенштерн согласился. Помощником к себе он взял Юрия Федоровича Лисян-ского, с которым подружился еще в кадетском корпусе. Лисян-ский точно так же был выпущен из корпуса досрочно, воевал со шведами, стажировался в Англии, плавал в Вест-Индию, будучи в отпуске, путешествовал по Соединенным Штатам и даже был принят президентом Вашингтоном. (Впрочем, в те времена американские президенты жили гораздо патриархальнее, чем теперь, и попасть к ним было гораздо проще даже обычному туристу. Сравните с сегодняшним днем: путешествующий ради собственного развлечения капитан-лейтенант приходит в Белый дом и заявляет, что хочет поговорить с хозяином Овального кабинета – просто так, ради расширения кругозора и новизны впечатлений…)
Помимо этого, Лисянский (кстати, произведенный в офицеры на несколько месяцев раньше Крузенштерна) бывал в Южной Африке, на острове Святой Елены (где англичане уже тогда были полными хозяевами, но никто, разумеется, не подозревал, что остров станет тюрьмой для Бонапарта – да и сам Бонапарт был еще не императором, а генералом). В Индии англичане пытались привлечь Лисянского к войне против «коренных», но Лисянский участвовать в этом несправедливом деле отказался.
Лисянский, человек, лишенный глупого честолюбия, охотно согласился быть помощником Крузенштерна (хотя по тогдашним правилам, будучи произведенным в офицеры раньше, имел «превосходство»). Экспедиция с самого начала считалась не военной, а «коммерческой» – и все расходы по ее снаряжению взяла на себя Российско-Американская компания. По ее поручению Лисянский отправился за границу покупать корабли. Сначала поехал в Гамбург, но, не найдя там подходящих, приобрел в Англии 16-пушечный «Леандр» и 14-пушечную «Темзу», которые в России переименовали в «Надежду» и «Неву». Груз Компании состоял из железа, якорей, парусины, канатов, пушек, пороха, свинца, ружей, пистолетов, сабель, медной посуды, муки, вина, водки, табака, чая, кофе, сахара. Все это (общей стоимостью более 600 тысяч рублей) предназначалось для Русской Америки.
Никакими научными исследованиями экспедиция не должна была заниматься изначально. В инструкции, полученной Крузенштерном, о них упоминалось так: «…если время и обстоятельства позволят». Однако еще до отплытия Академия наук избрала Крузенштерна своим членом-корреспондентом – так сказать, впрок…
Позвольте, возопит иной читатель в недоумении, а где же Резанов? Успокойтесь, командор и камергер императорского двора Резанов сейчас появится во всем блеске…
И в звании посланника его императорского величества. Да, вот именно – инспекция русских владений на Аляске стояла для Резанова на втором месте, а сначала ему предстояло установить дипломатические отношения с Японией и заключить торговый договор.
Резанов со свитой обосновался на «Надежде». Туда же грузили подарки для японского императора: вазы и сервизы императорского фарфорового завода, зеркала, ковры, меха, парчу и атлас, сукно и бархат, бронзовые механические часы из Эрмитажа, оружие, драгоценная посуда, «кулибинские фонари»…
Список длиннейший. Но гораздо интереснее познакомиться с тем, что Резанов вез на Кадьяк для жителей Русской Америки. Целую библиотеку: книги по химии, физике, минералогии, математике, механике, архитектуре, географии, медицине, логике, ботанике и коммерции, сочинения о путешествиях Далласа, Лепехина, Гмелина, Рычкова, Зуева, Вальяна, Лессепса (все наперечет – тогдашние «звезды»), 27 томов «Всемирных путешествий», «Описание Камчатки» Крашенинникова, «История Сибири» Миллера и Фишера. Десятки томов беллетристики, комплекты разнообразных журналов того времени, книги по ветеринарии и кулинарии. А кроме того, чертежи и макеты кораблей, портреты и эстампы, картины, пособия по металлургии и горному делу и даже электрическую машину.
Впечатляет, не правда ли? Никакого сомнения: Резанов смотрел далеко вперед и не собирался сводить Русскую Америку к одной большой промысловой бригаде. По его замыслам, она должна была стать полноценной страной – с фабриками, рудниками, библиотеками и лабораториями. (К слову, к 1805 г. на Кадьяке детей от браков между русскими и алеутками уже учили и французскому, и математике.)
Экспедиция отплыла. И очень скоро разгорелся долгий, яростный, непримиримый конфликт меж Крузенштерном и Резановым, о котором стыдно и грустно говорить подробно, но и умалчивать нельзя…
Это сегодня и Крузенштерн, и Резанов, и многие другие участники того плавания носят заслуженные титулы «исторических личностей», кому-то из них поставлены памятники, имена других носят улицы и далекие острова. Но в том-то и суть, что они были еще и живыми людьми, пока что не видевшими ни в себе, ни в других «исторических персон». И, как всякий живой человек, они обладали недостатками, отрицательными чертами характера, наконец, просто упрямством и откровенной дурью…
Положение сложилось щекотливейшее. Резанов официально числился начальником экспедиции. Будучи полномочным посланником и «дважды генералом» (и как действительный статский советник, и как камергер), он был старше чином Крузенштерна. При нем были императорские инструкции, где черным по белому значилось: камергер Резанов – начальник^. Мало того, специально подчеркивалось, что и суда, и офицеры находятся «в службе Российско-Американской компании», где, как мы помним, Резанов занимал немаленький пост. Так что он был трижды начальником над Крузенштерном.
Однако Крузенштерн ссылался на «морские традиции», согласно которым именно капитан на судне – первый после Бога. Дело осложнялось еще и тем, что вдобавок ко всему «Надежду» и «Неву» при отправлении ввиду сложности международной обстановки объявили военными кораблями, на которых действует военно-морской устав (и шли корабли как раз под военно-морским Андреевским флагом). Так что некоторые недоразумения имели место – и Резанов с Крузенштерном толковали неясности всякий в свою пользу…
Не забывайте еще и о такой детали эпохи, как кастовая спесь. Со времен Петра I военные как-то приобвыкли считать себя пупом земли и верховной властью над любыми штатскими – и изживалась эта традиция крайне медленно.
В общем, как сказал дон Румата: «Он хороший человек, но все-таки барон…»
Крузенштерн был спесив и высокомерен, и его офицеры – ему под стать. С людьми Резанова и служащими Компании они практически не общались, презрительно именуя «купчишками». Дружеское общение со «штафирками» поддерживал один-единственный офицер, лейтенант Головачев. Остальные задирали нос, держались холодно и отчужденно. Легко представить, какая атмосфера сложилась на борту…
Начались вовсе уж безобразные сцены. В один далеко не прекрасный день разыгралась настоящая базарная ссора. Крузенштерн, собрав офицеров с «Надежды» и «Невы», с видом совершеннейшего младенца стал вопрошать: Резанов, а ты, собственно, кто такой и почему под ногами путаешься? Звучало это чуточку приличнее, но суть претензий была именно такой.
Резанов предъявил все имевшиеся у него полномочия, однако господа офицеры (за исключением Головачева) начали орать:
– Ступайте, ступайте с вашими указами, нет у нас начальника, кроме Крузенштерна!
Это уже не моя вульгарная интерпретация разговора, а дословное свидетельство наблюдавшего эту сцену сотрудника Компании Шимелина. Лейтенант Ратманов (его имя носит сейчас остров на Дальнем Востоке), ругая по-матерну, кричал: «Его, скота, заколотить в каюту». Под «скотом», как легко догадаться, имелся в виду Резанов – начальник экспедиции, полномочный посланник императора, камергер и командор. Тяжелая история, но все происходило именно так, из песни слова не выкинешь…
Советские историки пятидесятых годов прошлого века по каким-то своим соображениям решительно заняли сторону Крузенштерна – хоть и дворянин, но историческая персона, руководитель первого кругосветного путешествия россиян, а следовательно, «прогрессивный», с их точки зрения, деятель. Резанов же тогдашним историкам представлялся исключительно «царедворцем», «эксплуататором» и «реакционером». Его даже обвиняли… в участии в убийстве императора Павла I, хотя в то время Резанов в гвардии уже не служил, возле Михайловского замка в ночь трагедии его и близко не было…
Отношения накалились настолько, что Резанов около месяца безвылазно просидел в своей каюте, заболел от всех переживаний, но корабельного врача к нему не допустили…
Нынешние историки справедливость наконец-то восстановили и признали, что не прав был именно Крузенштерн. Впрочем, это было установлено тогда же, осенью 1804 г., после прибытия «Надежды» в Петропавловск-Камчатский. Резанов написал жалобу генерал-губернатору Кошелеву, тот моментально прибыл для расследования в сопровождении 60 солдат – и Крузенштерну резко поплохело. Оправдывался он совершенно по-детски: дескать, высочайшие инструкции касательно того, что полновластным начальником является как раз Резанов, он, Крузенштерн, получил еще в Петербурге, но, захлопотавшись, как-то не нашел времени их прочитать…
Для Крузенштерна и его офицеров дело, согласно законам того времени, могло закончиться скверно. В конце концов он признал свою вину и смиренно просил как-нибудь загладить дело. Резанов, человек великодушный, забрал свою жалобу и согласился забыть обо всем, если Крузенштерн и его офицеры извинятся должным образом.
Извинились, конечно. Обставлено все было крайне торжественно: Крузенштерн и его подчиненные явились к Резанову всем составом, в парадной форме, извинялись громко и прочувствованно. По русскому обычаю в честь благополучного исхода склочного дела и общего примирения устроили грандиозный банкет с пушечной пальбой после каждого тоста.
Идиллия? Не скажите… Когда Резанов покидал «Надежду» навсегда, попрощаться с ним пришел только упомянутый лейтенант Головачев – за что сослуживцы во время обратного рейса так его травили, что бедняга застрелился на острове Святой Елены…
Неприятно все это, конечно, но я не хочу ничего приукрашивать – мы должны знать людей того непростого времени именно такими, какими они были в реальности, а не в хрестоматийном глянце… Между прочим, Резанов, несмотря на все неприятности, доставленные ему Крузенштерном, в своем отчете все же высоко оценил профессионализм капитан-лейтенанта – а ведь человек другого склада на его месте непременно попытался бы свести счеты, тем более обладая такими связями и положением при дворе, как Резанов…
Дальнейшее, впрочем, происходило уже без какого бы то ни было участия Резанова – «Надежда» и «Нева» возвращались в Петербург без него. Здесь проявилось еще одно грустное обстоятельство, которое можно назвать «синдром начальника»: первым кругосветное путешествие завершил как раз Лисянский, придя в Петербург раньше Крузенштерна. Однако все лавры и положение первого достались Крузенштерну, поскольку начальником был именно он. Что ж, не впервые в истории России и человечества. Лисянский остался в тени – его книги о путешествии вышли гораздо позже книг Крузенштерна. А в последние годы Лисянский (вот удивился бы, наверное!) стал еще и жертвой лихих «историков» национал-патриотического направления. Сии господа (фамилии из брезгливости опустим) создали очередную побасенку о «происках инородцев», согласно которой все достижения «исконно русского человека» Лисянского коварно приписали «члену немецкой мафии» Крузенштерну.
Чушь, разумеется. Во-первых, Крузенштерн, пусть и придя в Петербург вторым, сделал немало – один его «Атлас Южных морей» заслуживает самого лестного отзыва, не говоря уже о других печатных трудах. Во-вторых, национал-патриотов, как обычно, подводит скверное знание отечественной истории. К «немцам» Крузенштерн имеет мало отношения – поскольку его предком был швед из Эстляндии Филипп Крузенштерна (именно так тогда писалась его фамилия, типично шведская, из того же ряда, что «Оксеншерна» и многие другие), потомки которого, мелкие дворяне, уже совершенно обрусели и приняли православие. Наконец, сам Лисянский, человек скромный, ни за что не одобрил бы подобные пляски на костях своего командира, с которым дружил долго и искренне…
Да, а как же японское посольство Резанова?
К сожалению, оно окончилось полным провалом – в котором вины самого Резанова нет ни малейшей. Японские правители-сегуны, вершившие все дела от имени императора, который был не более чем декоративной фигурой, уже лет двести как держали курс на полную изоляцию страны от всего остального мира. Всем японцам категорически запрещалось покидать страну (за нарушение – смертная казнь), а иностранцы в Японию категорически не допускались. Национальную самобытность блюли таким образом…
Единственными европейцами, с которыми Япония соглашалась иметь какие-то отношения, были голландцы. Правда, на территорию страны их не допускали – создали самую настоящую резервацию. В бухте возле города Нагасаки был небольшой островок Десимаматсу, метров двести в длину и восемьдесят в ширину – скорее песчаная отмель, соединенная с сушей небольшим каменным мостом.
Там голландцев и поселили, словно в тюрьме строгого режима. На суше, возле моста, поставили караулку, где круглосуточно дежурили солдаты. Весь остров старательно огородили высоким частоколом, чтобы обитатели не могли видеть ничего, что происходило в городе. В частоколе устроили «водяные ворота» – причал для голландских кораблей. В воде вокруг острова торчало 13 высоких столбов с досками, на которых огромными иероглифами написали приказы губернатора местным жителям: под страхом самого сурового наказания к обиталищу «длинноносых чертей» не приближаться. Ну а вдобавок японцы выдумали для своих торговых партнеров массу унизительных ритуалов – можно представить, каково приходилось купцам, если сам голландский посол старательно плясал перед императором вприсядоч-ку, без парика, в расстегнутом-расхристанном виде, пел песни, показательно баюкал японских младенчиков, которых специально для этого приносили.
Голландцы все это стоически терпели двести лет – очень уж жирную выгоду извлекали из своего монопольного положения, надо полагать, ради коммерческих интересов и вовсе без штанов плясали бы перед японскими сановниками…