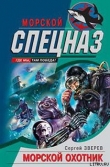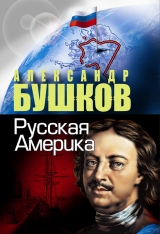
Текст книги "Русская Америка: слава и позор"
Автор книги: Александр Бушков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Но вышеописанные категории, по крайней мере, имели все шансы стать вольными людьми после отработки своего срока и достижения совершеннолетия…
Были гораздо более бесправные (собственно, бесправные вовсе) «новоамериканцы», так называемые «кабальные слуги». Это – совершившие преступления в Англии мужчины и женщины, которым смертная казнь или длительное тюремное заключение заменялось ссылкой в колонии. Читатель ошибется, если решит, что речь идет о каких-то матерых разбойниках и душегубцах: в доброй старой Англии на виселицу можно было угодить за простую мелкую кражу, если стоимость украденного превышала определенную сумму (например, воротник для простой служанки, сделанный из самого дешевого кружева, как раз и стоил столько, чтобы обеспечить укравшему петлю…). По тем же подсчетам, число «кабальных» вплоть до 1775 г. составило 50 тысяч человек.
И участь «кабальных» была не в пример тяжелее… Срок «кабалы» был немаленьким: от семи до четырнадцати лет, а порой и пожизнен. «Кабальные» трудились на плантациях зерна и табака, на лесоповале, в мастерских по изготовлению канатов для флота – не получая ни гроша в уплату, исключительно за харчи и ночлег. Продолжительность рабочего дня и условия труда единолично определял хозяин предприятия. Побег с этой каторги карался поркой и удвоением, а то и утроением срока. «Кабальных» лупили почем зря, клеймили каленым железом, водили на работу в кандалах, натирали раны солью. Жаловаться они не имели права.
Вот рядовой памятник эпохи: объявление в «Пенсильвания гэзетт» от 8 сентября 1773 г. Уже пару месяцев как грянула революция, но порядки по инерции оставались прежними…
«Бежал от нижеподписавшегося, проживающего в Аппер-Пеннс-Нек, округ Сейлем, 27 августа сего года слуга-шотландец, по имени Джеймс Дик, около 30 лет от роду, ростом около пяти футов восьми дюймов, волосы рыжеватые, цвет лица свежий, смотрит исподлобья, говорит хриплым голосом; во время побега на нем был железный ошейник (так как это уже восьмой его побег) и темная куртка из медвежьей шкуры. Кто поймает упомянутого слугу и обеспечит, чтобы его господин смог вернуть его себе, получит награду в три доллара, которую заплатит Томас Кэрри младший».
И, наконец, самая позорная страница в истории колоний – похищенные в Англии и переправленные за море дети. Это была не импровизация, а поставленный на широкую ногу, хорошо отлаженный, практически легальный бизнес: один из «профессионалов» хвастал, что за 12 лет он похитил для колоний шесть тысяч детей. Глупо думать, что он был один такой… Легко догадаться, что эти несчастные детишки были опять-таки совершенно бесправны.
Теперь понятно, какой горючий материал накопился в колониях, и почему грянула американская революция? Десятки тысяч людей, попавших в этот жуткий механизм в том или ином качестве, считали Англию уже не отечеством, а злой мачехой – и, когда была оглашена Декларация независимости, они и составили революционную армию генерала Вашингтона.
Да и революция, легко догадаться, произошла не с бухты-барахты. На протяжении столетия до ее прихода колонии трясло. «Кабальные», зачастую объединившись с беглыми неграми, поднимали бунты, требуя улучшения своего положения, а то и полного освобождения. Некий Исаак Фрейд из той же Виргинии еще в 1661 г. лелеял планы устроить заварушку на всю страну. Суд установил, что он добивался, «чтобы они сколотили отряд человек в сорок и добыли пушки, а он будет первым и поведет их за собой, выкрикивая по дороге: „К нам, кто за вольность и свободу от рабства!“, и утверждал, что к ним явится достаточно людей, и они пройдут всю страну и перебьют всех, кто окажет какое-либо противодействие, и что они либо добьются свободы, либо умрут за нее».
Повешенные Френд и его «атаманы» были белыми… В 1740 г. группа негров-рабов пыталась отравить источник, снабжавший Нью-Йорк питьевой водой. А в следующем году заговорщики-белые, объединившись с неграми, пытались выжечь Нью-Йорк дотла и, прежде чем их взяли, успели устроить изрядное число пожаров. В 1766 г. белый, Уильям Прендергаст, поднял восстание фермеров долины реки Гудзон. Восстание жесточайшим образом подавили регулярные британские войска (на местную милицию надежды не было), Прендергаста суд приговорил к «повешению и четвертованию» – но что характерно, во всей Америке не смогли найти ни одного человека, взявшегося бы за исполнение приговора. Кое-кто, может, и согласился бы, но боялся звучавших повсюду угроз: мол, найдись палач, на свете не заживется. Кончилось все тем, что перепуганный губернатор убедил английского короля помиловать крестьянского вожака…
Честное слово, по сравнению с английским опытом Русская Америка выглядела если не райским уголком, то уж безусловно благостным местечком…
Вскоре после создания Российско-Американской компании случилась большая беда. В августе 1799 г. из Охотска отплыл в Русскую Америку самый крупный корабль, каким располагал Баранов, – «Феникс». Командовал им Джеймс Шилдз (один из немногих англичан, примиряющий меня с существованием означенной нации на белом свете). На борту были товары и снаряжение на сумму более чем в полмиллиона рублей, а также 103 пассажира и члены команды, в том числе глава православной церкви в Америке епископ Кадьякский Иоасаф.
«Феникс» вышел в море – и исчез навсегда. Только в мае следующего года на Тихоокеанское побережье Охотского залива и американские острова стало выбрасывать части обшивки «Феникса» и остатки груза. То ли шторм всему причиной, то ли желтая лихорадка, эпидемия которой вспыхнула на борту… Эхо этой утраты ощущалось в Америке еще несколько лет: Баранов лишился надежного судна, опытного капитана, сотни русских поселенцев, товаров для обмена на меха…
В 1800 г., правда, случилось и более приятное событие: император Павел наградил Баранова шейной золотой медалью на Владимирской ленте, с надписью: «Каргопольскому купцу Баранову в воздаяние усердия его к заведению утверждению и раз-ширению в Америке российской торговли».
Баранов отнесся к высокой награде в общем равнодушно – не ради того старался. Он в свое время писал о себе: «Я бесчиновный и простой гражданин отечества».
У Баранова в то время было много нешуточных забот. Индейцы на Медной реке едва не убили морехода и рудознатца Константина Галактионова, продвинувшегося на 400 верст в глубь материка. Что интересно, причины были вполне экономические: вожди племени атна сами с грехом пополам наладили добычу и выплавку меди, продавали ее русским и не горели желанием потерять свою «монополию». Чтобы не мелочиться, они решили вдобавок еще и уничтожить Константиновский редут, ближайшее русское укрепление.
Раненому Галактионову удалось бежать, а командующий редутом Иван Кусков с заправилами «медеплавильного концерна Патна» сумел договориться. Вторая экспедиция подлечившегося Галактионова прошла без эксцессов, но месторождений он и в этот раз не нашел.
А Баранов в это время сцепился со сколотившейся против него «оппозицией», которую составили монахи, переводчик Прянишников и подпоручик Талин, офицер на службе Компании. С Талиным Баранов и раньше конфликтовал: этот обормот не выполнил порученное ему задание по обследованию проливов архипелага Александра, к Баранову для отчета ехать отказывался и, мало того, орал (не иначе как насосавшись водки): если-де управитель сам ко мне соберется, я его к мачте привяжу и «истязать зачну»… Причина известна: этот никчемный субъект пыжился от дворянского гонора, не желая подчиняться «купчишке»…
Но на сей раз все было гораздо серьезнее. Речь шла не просто о неповиновении. «Оппозиция», представленная главным образом монахами, всерьез собралась провести этакие революционные преобразования, установив «всеобщие свободы». У нее была даже программа: вернуть местному населению «свободу жить по-старому». «Чтоб никто уж не ездил в партию, промышлял на себя и продавал промыслы вольно по охотским ценам».
Как и в случае с «пятьюстами днями» Явлинского, программа эта на словах выглядела завлекательно, но ее реализация на практике (что признают и современные историки) привела бы к полному краху Русской Америки. Баранов, безусловно, был прав, когда говорил, что «всеобщая свобода… состояла только в грабежах, разбоях и всегдашнем кровожадном варварстве». Что «неминуемо последуют гибельные и кровавые происшествия, народ российский весь погибнуть должен, и все занятия уничтожатся, и Компания вся ниспровергнуться должна, а с нею и все Отечества выгоды, чего ни в пятнадцать лет поправить и привести в теперешний вид и положение будет невозможно».
Так, несомненно, и случилось бы, победи план тогдашних «перестройщиков». Компания в своем развитии перешла некий рубеж, к которому уже нельзя было вернуться, – как мы сегодня не в состоянии вернуться к Российской империи.
Страсти накалялись. Настолько, что Баранов взял под стражу некоторых кадьякских тойонов и вывел на улицы Павловской гавани ночные дозоры. Монахи поносили его прилюдно и громогласно, обзывая «изменником, бунтовщиком и разбойником», суля кнут и каторгу. Баранов, насколько можно судить из сохранившихся на него кляуз, тоже за словом в карман не лез.
Особенно усердствовал временный глава духовной миссии на Кадьяке Герман, по характеристике Баранова, «самый едкий пустынножитель, писака и говорун». Судя по тому, что о нем известно, это был своеобразный прародитель нынешних «либерально-демократических интеллигентов, умеющих лишь трепать языком и сочинять утопические прожекты, не имеющие никакой связи с реальностью. Ему, скажем, стукнуло в голову, что Баранов обязан немедленно собрать на Кадьяке все две тысячи работающих на Компанию туземцев, чтобы принесли присягу новому императору Павлу. Баранов резонно возражал: их не одну неделю придется собирать с отдаленных промыслов, при том, что стоит зима, и плавание по морю опасно. Кроме того, в Павловской гавани не хватит продуктов кормить этакую ораву хотя бы несколько дней – так что лучше будет подождать весны, когда все и так соберутся.
Но Германа несло. Он объявил Баранова «изменником государю – а себя, явно не страдая избытком скромности, опять-таки публично сравнивал с Лас-Касасом, знаменитым испанским монахом-гуманистом XVI века, боровшимся за права индейцев Новой Испании (правда, сегодня, когда прибавилось информации, фигура эта получила неоднозначную трактовку).
Герман драл глотку, призывая туземцев «вернуться к прежней вольности». А заодно – вали все до кучи! – обвинял Баранова еще и в том, что часть духовных лиц из состава миссии стала пренебрегать своими обязанностями пастырей, попивать водочку и развлекаться так, как лицам их звания не вполне уместно. При чем тут Баранов, совершенно непонятно – он в глотку никому не лил, сами пили…
Баранов всерьез пригрозил горлопанам, что если не уймутся, он огородит их обиталище надежным частоколом и будет выпускать только в церковь на молитву – а то и вовсе соберет «главных затейщиков» в кучу, загонит на корабль и вышлет с Кадьяка куда подальше.
Зная его крутой нрав, «оппозиция» присмирела и как-то понемногу утихомирилась. Баранов сгоряча попросился в отставку, но его, понятное дело, не отпустили. А тут подоспела с очередным судном и помянутая золотая медаль, после чего «оппозиция» увяла совершенно и никакой перестройки, а также всех и всяческих свобод более не добивалась. Талин, решив не искушать судьбу, потихоньку смылся в Охотск с попутным кораблем. А Герман – человек в общем неплохой – успокоился и расстался с мечтами о «всеобщей воле» (еще о нем – чуть позже).
Все вроде бы наладилось.
Но весной 1802 г. к Баранову пришли алеуты и рассказали о плохом, по их мнению, предзнаменовании: в Кенайском заливе на Аляске охотники поймали не простых лисиц, а совершенно белых. Среди местных давным-давно жила примета, что это – к несчастью.
Летом Иван Кусков видел возле Ледяного пролива падение крупного метеорита – на сей раз русские это посчитали предвестием несчастья.
Как ты ни относись к приметам и суевериям, но вскоре пролилась большая кровь!
Вскоре начались уже не мелкие стычки, а самая настоящая русско-индейская война 1802–1805 гг. Безусловно, по сравнению с теми войнами, что вела в те же и последующие годы Россия с европейскими неприятелями, ее сравнивать нельзя – но по меркам Русской Америки это была именно большая, настоящая, серьезная война, самая крупная за всю историю наших американских владений…
Зажигали, как легко догадаться, воинственные тлинкиты-ко-лоши. Впоследствии они (уже имевшие представление о некоем подобии пиара) сваливали вину на русских и подчиненных им аборигенов – дескать, до того достали своими насилиями и прочими злоупотреблениями, что не выдержали гордые сердца благородных краснокожих, и они со слезами на глазах вырыли топоры войны…
Действительно, «пришельцы» были не без греха. Алеуты порой грабили индейские захоронения и расхищали запасы вяленой рыбы – а однажды по каким-то оставшимся неизвестными поводам убили семью одного из тлинкитских вождей. Но по большому счету это были те самые мелкие трения и взаимные кражи-грабежи – стычки, которые здесь творились на всем протяжении неписаной индейско-эскимосской истории задолго до прихода русских…
Колоши обижались еще, что русские посадили в кандалы некоего знатного и авторитетного индейца – но в том-то и суть, что угодил этот местный «авторитет» в колодки за то, что отнял у алеутов две каланьих шкуры и сети для ловли тюленей… Прикажете его за это пирожными кормить и медаль на шею повесить? Англичане в подобных случаях вообще шлепали виновного на месте – а заодно кучу его ни в чем не повинных родственников и односельчан…
Главная причина, о чем колоши помалкивали, была та, о которой я уж упоминал: русские разрушили сложившуюся тлин-китскую микроимперию, огребавшую дань со всех слабых соседей. И колошам ужасно хотелось вернуть эти вольготные времена…
В глубокой тайне составилась целая коалиция против русских, к которой, кроме главных колошских родов, примкнули индейцы из племен хайда-кайгани и цимшина (которые обитали довольно далеко и никакого «произвола русских» на себе не испытывали). В селении Хуцнуву зимой состоялся съезд индейских вождей, где они тщательно спланировали одновременное нападение на крепость Михайловскую (ее еще именовали Новоархангельском) на острове Ситха, на русские поселения, поисковые партии и промысловые флотилии.
Многозначительная подробность: индейцы отнюдь не сами по себе набрались стратегического мышления. В помянутом селении зимовало американское судно «Глоуб», капитан которого Кэннингхэм давно уже продавал колошам ружья, порох и боеприпасы и прямо подстрекал разрушить Новоархангельск: тогда, мол, притеснители русские отсюда волей-неволей уберутся, и останутся только американские капитаны, которые колошам как родные братья: и пушнину покупают по божеской цене, и огненной водой поят от пуза, и ружей привезут сколько угодно… Так что план массированного удара по русским был разработан с участием Кэннингхэма и его людей, поставивших индейцам не только ружья, но и несколько пушечек-фальконетов. Как выражаются герои голливудских фильмов, ничего личного – просто-напросто «бостонцы» хотели избавиться от русских конкурентов, с очаровательной простотой выбирая те средства, что были под рукой. В конце концов, сами они рук не пачкали, а краснокожие… что с них взять, с дикарей?
Однако, как поется в русской солдатской песенке: гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить…
Разработанный американским капитаном план одновременного захвата Новоархангельска и крепости Якутат, а также слаженных нападений на все промысловые партии претворялся в жизнь уже не им, а воинственными индейскими вождями. Горячие колош-ские парни плевать хотели на стратегию и координацию…
А потому они еще до назначенного срока атаковали в устье реки Алсек промысловиков под начальством Ивана Кускова. Кусков, будущий основатель Русской Калифорнии, даром что сугубо штатский человек, командовал неплохо. Первую атаку индейцев он отбил – и не поддался на индейскую уловку, когда колоши притворным «бегством в беспорядке» рассчитывали заманить русских под огонь своих укрытых в лесу фальконетов. Отведя своих людей на близлежащий островок, Кусков ружейным огнем отбил еще несколько атак. Видя, что на победу рассчитывать нечего, индейцы вступили в переговоры, и Кусков, согласившись на перемирие, увел свой отряд в Якутат – который колошам уже нечего было и думать захватить внезапным налетом…
Одним словом, старательно проработанный американцами план провалился. Но Новоархангельск все же был колошами захвачен…
В день штурма там было всего около двадцати русских, один поступивший к ним на службу американский матрос, несколько больных алеутов-промышленников, их жены и дети. В середине дня началось…
Промышленник Абросим Плотников (один из двух русских, уцелевших в той резне) оставил подробное описание взятия Но-воархангельска. Шестьсот колошей под командованием того самого «верховного вождя» Скаутлельта и его племянника Котле-ана, клявшихся Баранову в вечной дружбе, окружили казарму и открыли ружейную стрельбу по окнам. С моря тут же появились 62 каноэ, на которых плыли не менее тысячи индейцев…
Горсточка русских какое-то время пыталась отстреливаться от этой оравы, но силы были неравны, и вскоре казарма загорелась – причем подожгли ее не индейцы, а участвовавшие в бою на их стороне бледнолицые. На чью сторону тут же перешел и тот американец…
Кто были эти белые, историки не пришли к согласию до сих пор. Одни считают их матросами Генри Барбера, направленными им к индейцам «засланными казачками». Другие утверждают, что это были дезертиры с американского судна «Дженни» капитана Крокера, сбежавшие на берег еще три года назад. Как бы там ни было, эти семеро «бледнолицых» самым активным образом участвовали в разгроме Новоархангельска – хотя потом клялись и божились, что индейцы их, мол, насильно заставили, но русские источники свидетельствуют, что пошли на это янке-сы по доброй воле, мало того, заранее указали индейцам слабые места в обороне крепости…
Вскоре все защитники крепости, за исключением Плотникова и еще пары человек, были перебиты, а вслед за ними – женщины и дети. Скальпы сняли со всех – первобытная индейская мораль в таких случаях прямо предписывала вырезать все, что движется…
Через день колоши напали на промысловую партию, которая возвращалась в Новоархангельск, не зная о том, что крепость уже сожжена дотла. Биограф Баранова К. Т. Хлебников, основываясь на рассказах уцелевших, писал: «Колоши, уже приготовленные, преследовали партию и, наблюдая движение оной, выжидали удобнейшаго места и большей беспечности от утомленных трудными переездами алеут. Едва сии последние предались сладкому сну, как колоши во многолюдстве, но без шуму, вышед из густаго лесу и во мраке ночи подойдя на близкое расстояние, быстро осмотрели стан и потом с криками набросились на сонных, не дали им времени подумать о защите и почти наповал истребили их пулями и кинжалами».
Погибло 165 алеутов, спаслись немногие…
И вот тут по какому-то странному совпадению неподалеку от дымящихся руин Новоархангельска бросил якорь бриг «Юни-корн» («Единорог») под командованием Генри Барбера. А чуть позже пришли еще два американских судна: «Глоуб» того самого Кэннингхэма и «Алерт» некоего Джона Эббетса. Учитывая подбор участников, ни о каком совпадении, понятно, и речи быть не может. Знали вороны, куда слетаться…
И тут Барбер провернул одну из самых успешных грязных сделок в своей путаной жизни. Он пригласил на борт Скаутлельта и Котлеана – как пообещал, попить огненной воды и поговорить о взаимовыгодной торговле. Однако, едва опрокинув по стаканчику, приказал заковать обоих вождей в кандалы, а на берег велел передать, если ему не выдадут немедленно всех пленных и захваченную в Новоархангельске пушнину, индейские «главнокомандующие» окажутся на нок-рее.
Рей, если кто запамятовал, – это горизонтально прикрепленный к мачте брус, на котором и крепятся паруса. Нок-рей – самая оконечность рея, удобнейшее место на корабле, если требуется кого-нибудь повесить.
Две петли многозначительно покачивались, колыхаемые ветерком. Скаутлельт и Котлеан грамотой не владели, романов Фенимора Купера не читали (романов этих к тому же еще в природе не существовало), а потому и не знали, что настоящий краснокожий вождь обязан героически умирать с боевой песней на устах, проклиная бледнолицых собак последними словами…
Умирать им как раз и не хотелось. Их воины поначалу попытались вождей освободить – подплыли к «Единорогу» и принялись рубить борта топорами. Но Барбер шарахнул по ним из пушек, разнес немало каноэ картечью и ядрами, а уцелевших захватил в плен. Позже Эббетс (вроде бы единственный приличный человек в этой компании) именно этих пленных обменял на пленных новоархангельских алеуток (правда, одного вождя все же повесили за то, что тот, пока его ловили, свернул челюсти парочке матросов).
В общем, Скаутлельт и Котлеан, спасая свою шкуру, вернули и новоархангельских пленных, и пушнину (около двух тысяч шкур калана, целое состояние). Барбер их, как ни удивительно, отпустил живыми – благороднейшей души человек, ведь мог и повесить…
Это и называется – вор у вора дубинку украл. Скаутлельт и Котлеан оказались в положении тех персонажей из грубого анекдота, что бесплатно дерьма наелись. Всю их добычу Барбер прибрал дочиста – а ведь вожди именно из-за этой груды мехов, а не зыбкого морального удовлетворения устроили разгром Новоар-хангельска. Однако петля – аргумент убедительнейший. И поплыли оба на бережок, горько сокрушаясь о драгоценных шкурах калана. В полном соответствии с песней Асмолова: «как говорится, мордой об асфальт…»
Барбер отвез пленных на Кадьяк, к Баранову, и там… запросил за них выкуп! Именно так, не вернул безвозмездно, а выкуп потребовал: он, дескать, несколько дней этих людей поил-кормил, как за родным отцом, ухаживал… короче говоря, мистер Баранов, напили-наели они на пятьдесят тысяч рублей…
Столько Баранов, конечно, не заплатил – но, спасая своих людей, все же вынужден был выложить десять тысяч (мехами). Как вы уже, наверное, догадались, об оказавшемся в трюме «Единорога» пушном складе Новоархангельска Барбер и не заикнулся: знать ничего не знает, индейцы, народ дикий, все дочиста сожгли, и пушнину тоже…
Чтобы представить, как паскуда Барбер озолотился на чужом несчастье, нужно непременно растолковать, сколько стоила на рынке одна шкура калана: в Охотске – 75 руб., а в китайском порту Кантон за нее и до двухсот платили. Шкур Барбер поимел две тысячи семьсот – да еще на десять тысяч рублей получил от Баранова мехов за пленных.
Пират, короче говоря. Однако, что самое интересное, у него нашлись защитнички в наше время – и не в Америке, как можно бы подумать, а в России, среди коллектива авторов под руководством академика Болховитинова, выпустившего трехтомник «История Русской Америки». Великолепная работа, в значительной степени послужившая основой для этой книги – вот только порой иные авторы дают такие оценки белым событиям и людям, что диву даешься…
Один из членов бравого авторского коллектива глубокомысленно изрекает: «В научно-популярной литературе Барбера нередко именуют «пиратом». Его, конечно, нельзя причислить к лику святых (ну, спасибочки и на том, милостивец! – А. Б.), но пиратом он все же не был, поскольку не занимался профессиональным морским разбоем».
Ну что тут скажешь… Корабли в море Барбер, действительно, не грабил. Ну а как быть с работорговлей (поставлял черных рабов индейцам), историей с новоархангельскими мехами и выкупом за жертв индейского нападения? Между прочим, знаменитейший английский пират Генри Морган тоже в основном не корабли захватывал – он с оравой своих бандюков брал приступом на суше города, после чего отнимал все до последнего медяка. И тем не менее английские историки отчего-то именуют его именно «пиратом».
Ох уж мне эти отечественные интеллигенты с требованием юридически оттачивать формулировки! Причем почему-то чуть ли не всякий раз стремление к аптекарской точности служит не на пользу жертве, а к обелению преступника. Дивны дела твои, Господи… В общем, Николай Петрович Резанов, знаток ситуации, именовал Барбера «разбойником» – на этой формулировке и остановимся…
Новоархангельск пал, но та самая спланированная американцами операция по повсеместному истреблению служащих Компании и взятию нескольких крепостей провалилась. Баранов, стиснув зубы, стал готовить ответный удар…
По грустной иронии судьбы именно в год падения Новоар-хангельска Баранов получил повышение – теперь ему подчинялась вся Русская Америка. Кроме того, по ходатайству Резанова Сенат присвоил Баранову чин коллежского советника (соответствовавший армейскому полковнику). Сделано это было не из желания подбодрить его или вознаградить за труды – причины были гораздо серьезнее. Нужно было как можно выше поднять авторитет правителя Русской Америки в глазах состоявших на службе в Компании господ морских офицеров – вроде помянутого скандалиста подпоручика Талина. Офицеры, как я уже говорил, поголовно были дворянами. Сегодняшнему читателю трудно представить, какие в России Александра I имел преимущества самый плюгавый и захудалый дворянин перед прочими российскими подданными, столь благородным званием не обремененными. Говоря современным языком, гнул распальцов-ку по беспределу – а при малейшем отпоре писал в инстанции доносы «об оскорблении дворянского звания», что оскорбителям сулило нешуточные неприятности… Любое недоразумение в эполетах могло пыжиться перед Барановым (и пыжилось!), визжа: «Я – дворянин, а ты кто, харя неумытая?»
Согласно тогдашним правилам, чин коллежского советника давал право на потомственное дворянство – так что теперь Баранов был надежно защищен от выпендрежников в златотканых эполетах. Правда, официальная бумага о присвоении Баранову высокого чина дошкандыбала до Русской Америки только весной 1804 г., через полтора года. А до тех пор пришлось вытерпеть всякое. В том числе и господина флотского лейтенанта Николая Хвостова, командира бригантины «Св. Елизавета», с которым мы еще не раз встретимся на страницах этой книги. Вояка был храбрый, и для России сделал немало – но, как у многих, был у него один-единственный недостаток: водочку потреблял не стопками, а ведрами. А, выкушав ведерочко-другое, что ни ночь шлялся по Павловской гавани и колотил стекла в окнах (почему-то именно к безвинным стеклам у него была лютая неприязнь). И этак вот – целую зиму, на протяжении которой ему пришлось торчать на Аляске. Можно представить, как он осточертел обывателям, но что они могли поделать с дворянином и морским офицером? По воспоминаниям очевидца, с Хвостовым предпочитал не связываться и сам Баранов: «Александр Андреевич редкую ночь от него не запирался». Можно себе представить, что это был за буян и дебошир, если от него закрывался на засов сам Писарро российский…
Тем временем в своем третьем походе погиб рудознатец Галактионов, вновь пустившийся на поиски месторождения меди. Зимой его и туземца-переводчика убили индейцы атна. Правда, чуть позже убийц схватили другие индейцы, дружественные русским, и отвезли к Баранову. Тот, не мучаясь интеллигентским гуманизмом, изгнал их на далекий, малообитаемый островок Укамок «навечно» – и они там просидели несколько десятков лет (последний умер уже после 1840 г., когда самого Баранова давным-давно не было в живых).
Другой рудознатец, Семен Баженов, прошедший по тем же местам пятьсот верст, смерти от индейцев избежал – один из вождей атна всерьез собрался содрать с него скальп, но Баженова спасла женщина из того же племени, до этого побывавшая у русских в заложницах (каков сюжет для приключенческого романа?!).
Новоархангельск индейцы захватили и уничтожили в июне 1802 г. – а предпринять ответный поход Баранов смог только в апреле 1804-го. К этому времени индейское НАТО уже распалось, некоторые сильные тлинкитские племена предпочли заключить с Барановым мир (особенно помог успеху мирных переговоров Иван Кусков, взявший в плен сына одного из влиятельных вождей). Баранов в который раз обвел индейцев вокруг пальца: якобы в знак вечного мира распорядился сжечь на отмели свое собственное суденышко «Св. Ольга», что соответствовало каким-то индейским ритуалам. Колоши и не подозревали об истинной подоплеке дела: «Св. Ольга» пришла в совершеннейшую ветхость, и сожгли ее русские исключительно для того, чтобы, как тогда практиковалось, извлечь из пепла металлические детали…
Итак, Баранов выступил. Это был самый настоящий военный поход, выглядевший крайне внушительно: 350 байдар с 800 алеутами, почти поголовно вооруженными ружьями, 19 русских под командой Ивана Кускова с тремя фальконетами, три парусных корабля Компании, на передовом – Баранов в неизменной кольчуге под одеждой, с пистолетами за поясом… В общем, серьезная флотилия.
Баранов, интуитивный стратег, поплыл не прямо к острову Ситхе, а по гигантской дуге мимо превеликого множества островков – чтобы продемонстрировать силищу, поскольку индейцы по-другому не понимали. По дороге он еще и бил каланов, которых его люди добыли более полутора тысяч.
Легко догадаться, что колоши, заслышав о приближении флотилии, бросали свои селения и прятались по лесам. Все подряд Баранов не разорял – но жилища и укрепления тех, кто принимал участие в недавних нападениях, выжигал безжалостно. На всем протяжении плавания дым уходил в хмурое аляскинское небо…
Этот рейс тянулся пять месяцев. Придя в Ситхинский залив, русские, к своей немалой радости, встретили там самый настоящий военный корабль: 142-пушечную «Неву» под командованием капитан-лейтенанта Ю. Лисянского, участника первого русского кругосветного плавания (подробнее об этом – в следующей главе). И разузнали кое-что о приготовлениях колошей: они, оказалось, построили неподалеку большую деревянную крепость с несколькими пушками (интересно, не обошлось ли и тут без американских консультантов?)…
Тут в заливе показалось большое индейское каноэ. Баркас с «Невы», не мешкая, пошел на перехват и накрыл лодку из фаль-конетов. Громыхнуло так, что небо задрожало, каноэ взлетело на воздух – оказалось, индейцы везли на нем изрядный запас пороха для своей крепости. Эффектное, надо полагать, было зрелище…
«Гарнизоном» безымянной тлинкитской крепости, как быстро выяснилось, командовал тот же Котлеан. Он сначала вступил было с Барановым в переговоры, но крепость сдать отказывался. Тогда Баранов решил идти на штурм, как ни отговаривал его Лисянский, предлагавший ограничиться бомбардировкой.