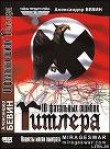Текст книги "Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. 1930–1945"
Автор книги: Альберт Шпеер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
12. Начало падения
Примерно в начале августа 1939 года мы беззаботной компанией вместе с Гитлером отправились в «Орлиное гнездо». Длинный автомобильный кортеж змеился по дороге, по приказу Бормана прорубленной в скале. Через высокие бронзовые ворота мы вошли в сырой, облицованный мрамором зал и погрузились в лифт, обшитый отполированными до блеска медными листами.
Пока лифт поднимался по пятидесятиметровой шахте, Гитлер неожиданно произнес, ни к кому не обращаясь: «Вероятно, скоро случится что-то необычайно важное. Даже если придется послать Геринга… Но если понадобится, я и сам поеду. Я все ставлю на эту карту». Этот намек не имел продолжения.
Всего через три недели, 21 августа, мы узнали о том, что министр иностранных дел Германии ведет в Москве какие– то переговоры. За ужином Гитлеру вручили депешу. Он просмотрел ее, на несколько секунд уставился в пространство, побагровел, хлопнул по столу с такой силой, что задребезжали бокалы, и срывающимся голосом вскричал: «Они у меня в кулаке! В кулаке!» Он очень быстро овладел собой, но никто не посмел задавать ему вопросы. Трапеза продолжилась.
После ужина Гитлер созвал свое окружение и сообщил: «Мы заключаем с Россией пакт о ненападении. Вот прочтите. Телеграмма от Сталина». В телеграмме вкратце подтверждалось достигнутое соглашение. Самым поразительным были дружески объединенные на одном листке бумаги имена Гитлера и Сталина. Более удивительный поворот событий я и представить себе не мог. Затем сразу же нам показали документальный фильм: Сталин, наблюдающий за военным парадом, марширующие перед ним многочисленные войска. Гитлер с удовлетворением отметил, что эта военная мощь теперь нейтрализована. Он повернулся к адъютантам, явно желая услышать их мнение по поводу столь внушительной демонстрации оружия и войск. Дам, как обычно, из беседы исключили, но они узнали новость от нас, а вскоре о заключении пакта сообщили по радио.
Вечером 23 августа Геббельс провел пресс-конференцию и прокомментировал важное событие. Гитлер, желая узнать реакцию зарубежных корреспондентов, тут же позвонил ему, а затем с лихорадочным блеском в глазах пересказал нам услышанное: «Потрясающая сенсация». А когда зазвонили церковные колокола, один британский корреспондент обреченно заметил: «Это похоронный звон по Британской империи». Эта реплика произвела сильнейшее впечатление на Гитлера, пребывавшего в эйфории весь тот вечер. Он полагал, что вознесся так высоко, что больше неподвластен року.
Ночью мы с Гитлером стояли на террасе «Бергхофа», наслаждаясь редким для этих мест зрелищем: необычайно интенсивное северное сияние [74]74
23 августа 1939 г. «Фёлькишер беобахтер» сообщила: «Ночью (22 августа) начиная с 2.45 из Штернбергской обсерватории потрясающей интенсивности северное сияние можно было наблюдать в северо-западной и северной части неба».
[Закрыть]окутывало красным светом возвышавшуюся за долиной, овеянную преданиями гору Унтерсберг, а небо над ней сверкало разноцветными всполохами. Ни на одной сцене невозможно было бы эффектнее поставить заключительный акт «Гибели богов». Тот же красный свет заливал наши лица и руки. Поразительная картина погрузила нас в странную задумчивость. Резко повернувшись к фон Белову, одному из своих адъютантов, Гитлер произнес: «Похоже на море крови. На этот раз без насилия не обойтись».
Интересы Гитлера переместились в военную сферу еще несколькими неделями ранее. В долгих беседах с четырьмя своими военными адъютантами – полковником Рудольфом Шмундтом, представителем Верховного главнокомандования вооруженными силами (ОКВ); капитаном Герхардом Энгелем, представителем главного командования сухопутными силами (ОКХ); капитаном Николаусом фон Беловом, представителем главного командования военно-воздушными силами (ОКЛ); капитаном Карлом-Еско фон Путткамером, представителем главного командования военно-морскими силами (ОКМ) – Гитлер пытался уточнить собственные планы. Он, казалось, особенно симпатизировал этим молодым непредубежденным офицерам, всегда искал у них одобрения, тем более что они поддерживали его гораздо охотнее, чем лучше информированные и скептически настроенные генералы.
Однако в дни непосредственно после подписания германо-русского пакта о ненападении чаще, чем с адъютантами, он общался с политической и военной верхушкой рейха – Герингом, Геббельсом, Кейтелем и Риббентропом. Геббельс более других был встревожен возможностью войны и не стеснялся говорить об этом открыто. Поразительно, что министр пропаганды, обычно сторонник решительных действий, считал опасность войны чрезмерной и рекомендовал окружению Гитлера проводить мирный курс. Особенно язвительно он обращался с Риббентропом, которого считал главным представителем партии войны. А мы, члены ближайшего окружения Гитлера, считали Геббельса, да и Геринга, также ратовавшего за мир, слабаками, развращенными роскошью и не желавшими рисковать привилегиями, которых достигли.
Хотя на карту было поставлено мое будущее как архитектора, я полагал, что решение государственных проблем важнее личных интересов. Любые возникавшие у меня сомнения меркли перед самоуверенностью Гитлера. В те дни он казался мне мифическим героем, который без колебаний, в полном сознании своей силы идет навстречу любым испытаниям и с честью их преодолевает [75]75
Недаром еще девятью месяцами ранее я установил на новой рейхсканцелярии барельефы, изображавшие подвиги Геракла.
[Закрыть].
Партия войны, к которой принадлежали не только Гитлер и Риббентроп, выработала примерно следующие аргументы (я цитирую по памяти):
«Предположим, что в настоящее время благодаря быстрому перевооружению мы имеем четырехкратное преимущество в силе. Но и другая сторона после оккупации Чехословакии вооружается очень энергично. Им понадобится по меньшей мере полтора-два года, чтобы достичь максимального уровня производства. Только с 1940 года они начнут наверстывать упущенное. Если они будут производить хотя бы столько же, сколько мы, наше преимущество станет сокращаться. Чтобы сохранить разрыв, мы должны увеличить военное производство в четыре раза, но мы не в состоянии это сделать. Даже если они доведут выпуск продукции до половины нашего нынешнего объема, соотношение будет постоянно ухудшаться. Однако следует отметить, что во всех областях мы располагаем современным оружием, а у противной стороны имеется лишь устаревшее».
Вряд ли подобные рассуждения определяли решения Гитлера, но они несомненно влияли на выбор времени удара. Он заметил тогда: «Я не покину Оберзальцберг как можно дольше, чтобы накопить силы для тяжелых грядущих дней. В Берлин я поеду, лишь когда пробьет час важнейших решений».
А всего через несколько дней кортеж Гитлера мчался по автобану к Мюнхену. В кортеже было десять автомобилей, двигавшихся – из соображений безопасности – на значительном расстоянии друг от друга. В одной из машин находились и мы с женой. Заканчивалось лето, ярко светило солнце, на небе не было ни облачка. Население пропускало кортеж Гитлера в непривычном безмолвии. Изредка кто– нибудь махал рукой. И в Берлине вокруг канцелярии царила странная пустота. А ведь обычно, когда над зданием поднимался личный штандарт Гитлера, указывавший на его присутствие, здание осаждала ликующая толпа, встречавшая или провожавшая своего фюрера.
От дальнейшего развития событий я был отлучен, тем более что весь обычный распорядок Гитлера в те беспокойные дни покатился кувырком. После переезда в Берлин Гитлер был постоянно занят на совещаниях. Общие трапезы по большей части отменялись. Память человеческая отличается странной избирательностью, и одно из моих ярчайших воспоминаний – несколько комичное появление в рейхсканцелярии запыхавшегося итальянского посла Бернардо Аттолико. Это было за несколько дней до вторжения в Польшу. Он примчался сообщить, что в настоящий момент Италия не может выполнить свои союзнические обязательства. Дуче замаскировал дурную новость невыполнимыми требованиями о безотлагательных масштабных военных и иных промышленных поставках. Такие поставки катастрофически ослабили бы военный потенциал Германии. Гитлер высоко ценил итальянский военный флот с его современными кораблями и многочисленными подводными лодками, а также был убежден в эффективности итальянской авиации. Сперва фюреру показалось, что его планы нарушены, поскольку он рассчитывал, что агрессивная Италия поможет ему запугать державы Запада. В некотором смятении он даже перенес уже назначенное вторжение в Польшу.
Однако вскоре разочарования уступили место надеждам. Интуитивно Гитлер все более склонялся к тому, что, несмотря на пассивность Италии, Запад не посмеет объявить ему войну. Он отверг призыв Муссолини хорошенько все обдумать, заявив, что не может больше мешкать: когда войска, находящиеся в боевой готовности, слишком долго бездействуют, они начинают нервничать. Кроме того, вот-вот закончится хорошая осенняя погода, а в дождливый период войска могут застрять в польской грязи.
С Англией обменялись нотами по польскому вопросу. Из всех тех сумбурных событий мне более всего запомнился один вечер в зимнем саду резиденции канцлера. Гитлер показался мне измученным. С глубокой убежденностью он объявил своей свите: «На этот раз мы избежим ошибки 1914 года. Самое главное – переложить всю ответственность на другую сторону. В 1914 году все было сделано весьма неуклюже, да и сейчас идеи министерства иностранных дел абсолютно бесполезны. Наилучший выход – я сам составлю официальные ноты». Произнося эти слова, он держал в руке рукописную страницу, вероятно, черновик ноты министерства иностранных дел. Не оставшись ужинать с нами, он поспешно удалился наверх. Позже, в тюрьме, я прочитал ноты, которыми тогда обменивались, и не думаю, что Гитлер преуспел в своих стараниях.
Гитлер считал, что Запад, как и прежде, в Мюнхене, уступит его требованиям. Его уверенность подкреплялась развединформацией. Как поговаривали, один из офицеров британского Генштаба, оценив силы польской армии, пришел к выводу, что Польша не сможет долго сопротивляться. В связи с этим у Гитлера была причина надеяться на то, что британский Генеральный штаб сделает все возможное, дабы отсоветовать своему правительству вступать в столь безнадежную войну. Когда 3 сентября западные державы объявили войну Германии, Гитлер был ошеломлен, хотя быстро успокоил и себя и нас, заявив, что Англия и Франция объявили войну лишь для вида, чтобы не потерять лицо перед всем миром. Он, мол, глубоко убежден в том, что, несмотря на объявление войны, они не станут вести боевых действий, а потому приказал вермахту строго придерживаться с ними оборонительной тактики. Гитлер считал это решение показателем своей поразительной политической ловкости и проницательности.
В те, последние дни августа Гитлер пребывал в непривычно взвинченном состоянии и временами совершенно не походил на непогрешимого лидера нации. Лихорадочная деятельность сменялась вызывающим тревогу спокойствием. Он даже снова заинтересовался архитектурными проектами. Своему окружению он объяснил это так: «Дело идет к тому, что мы окажемся в состоянии войны с Англией и Францией, но если мы сможем избежать военных действий, проблема рассосется сама собой. Однако, если мы потопим хотя бы один из их кораблей и они понесут значительные потери, вот тогда укрепится партия войны». Даже когда немецкие подводные лодки заняли выгодные позиции около французского линкора «Дюнкерк», Гитлер не санкционировал атаку. Только воздушный налет британцев на Вильгельмсхафен и потопление «Атении» заставили его пересмотреть свою политику.
Гитлер непоколебимо верил в то, что Запад не сможет всерьез вести войну из-за слабости, дряхлости и разложения. Вероятно, он стыдился признаться своему окружению и, более всего, себе самому в совершении столь жестокой ошибки. Я до сих пор помню его ужас, когда стало известно, что Черчилль намеревается возглавить британский кабинет военного времени. Геринг ввалился в гостиную Гитлера с этим зловещим сообщением в руке, рухнул в ближайшее кресло и устало сказал: «Черчилль в правительстве! Это означает, что война действительно начинается. Теперь мы воюем с Англией». Из этих и других замечаний я сделал вывод, что Гитлер вовсе не так представлял начало настоящей войны.
Его иллюзии, мечты и честолюбивые замыслы являлись прямым результатом его оторванных от реальности образа мыслей и методов работы. На самом деле Гитлер ничего не знал о своих врагах и даже отказывался использовать имеющуюся информацию. Он доверял своим озарениям, какими бы противоречивыми они ни были, а эти озарения определялись глубочайшим презрением и недооценкой других. В соответствии со своей любимой присказкой о существовании двух возможностей, он хотел начать войну в самый благоприятный, по его мнению, момент и в то же время не сумел адекватно к ней подготовиться. Он неоднократно подчеркивал, что Англия – «наш враг номер один» [76]76
23 ноября 1937 г. на открытии в Зонтхофене «орденсбургена», закрытого полувоенного учебного заведения, аудитория шумно возликовала, когда Гитлер – после довольно равнодушно воспринятой речи – неожиданно крикнул собравшимся партийным лидерам: «Наш враг номер один – Англия!» Меня тогда поразило стихийное ликование, а еще больше – то, что Гитлер вдруг набросился на Англию, ибо я все время полагал, что он продолжает отводить Англии особое место в своих замыслах.
[Закрыть], и наряду с этим все надеялся договориться с врагом.
По моему мнению, вряд ли в те ранние дни сентября Гитлер осознавал, что развязал мировую войну. Он всего лишь хотел продвинуться еще на шаг. Безусловно, он был готов на риск, связанный с этим шагом, точно как во время чешского кризиса, но к крупномасштабной войне он не подготовился. Перевооружение военного флота он явно планировал на более поздние сроки; линкоры, как и первые большие авианесущие корабли, еще только строились. Гитлер сознавал, что максимальную ценность флот обретет, лишь когда с врагом можно будет бороться более-менее на равных. Более того, он так часто говорил о невнимании к подводным лодкам в Первую мировую войну, что, вероятно, не развязал бы сознательно Вторую, не создав сильный подводный флот.
Однако в начале сентября успехи военного вторжения в Польшу развеяли все тревоги Гитлера. Он явно обрел прежнюю уверенность, и позднее, в разгар войны, я часто слышал, как он говорил о необходимости Польской кампании.
«Уж не думаете ли вы, что бескровное овладение Польшей, как Австрией и Чехословакией, было бы удачей? Поверьте мне, подобного не выдержит даже самая лучшая армия. Победы без кровопролития деморализуют войска. Так что отсутствие компромисса было не просто удачей; в тот момент компромисс был бы вреден, и мне пришлось бы нанести удар в любом случае» [77]77
Даже менее чем за год до конца войны, 26 июня 1944 г., в речи перед группой ведущих промышленников в Оберзальцберге Гитлер сказал: «Я не хотел повторять ошибки 1899, 1905 и 1912 годов, а именно ошибки выжидания, надежды на чудо, которое позволило бы нам обойтись без военных действий».
[Закрыть].
Но возможно, подобными высказываниями Гитлер пытался замазать дипломатические просчеты августа 1939 года. На это указывает его речь перед генералами, о которой рассказал мне генерал-полковник Хайнрици где-то в конце войны. Вот поразительное свидетельство Хайнрици в моей записи: «Гитлер заявил, что он первый человек после Карла Великого, сосредоточивший в своих руках неограниченную власть. И не напрасно – он знает, как использовать эту власть в борьбе за Германию. Если Германия не выиграет войну, это будет означать, что нация не выдержала испытания на прочность, и в этом случае она заслуживает гибели и погибнет» [78]78
Вспомним заявление Гитлера Герману Раушингу о том, что если грядущая война будет проиграна, то нацистское руководство предпочтет утянуть весь континент в бездну ( Раушинг. Говорит Гитлер. Лондон, 1939).
[Закрыть].
Народные массы с самого начала рассматривали ситуацию гораздо серьезнее, чем Гитлер и его окружение. Из– за общей нервозности в начале сентября в Берлине была объявлена ложная воздушная тревога. Вместе со многими берлинцами я сидел в городском бомбоубежище. Настроение у всех было подавленным. Люди боялись будущего [79]79
Хендерсон Невилл.Провал одной миссии (Henderson N.Failure of a Mission. New York, 1940. С. 202): «Мне казалось, что весь немецкий народ охвачен ужасом при мысли о навязанной ему войне… Но я точно могу сказать, что в самом Берлине царило уныние».
[Закрыть].
Ни один полк не маршировал на войну с цветами, как в начале Первой мировой войны. Улицы оставались пустынными. На Вильгельмсплац не собиралась толпа, громко требовавшая появления Гитлера. И словно в соответствии со всеобщей подавленностью, Гитлер как-то вечером приказал запаковать чемоданы, чтобы ехать на восток, на фронт. Через три дня после нападения на Польшу он через адъютанта вызвал меня в наспех затемненную канцелярию попрощаться, и я увидел человека, терявшего самообладание из-за любого пустяка. Подъехали автомобили, Гитлер коротко попрощался с остающейся в Берлине «свитой» и уехал. Ни одна живая душа на улице не обратила внимания на историческое событие – отъезд Гитлера на организованную им войну. Геббельс наверняка сумел бы собрать ликующую толпу любого масштаба, но, по-видимому, ему было не до того.
Даже во время мобилизации Гитлер не забыл о людях искусства. В конце лета 1939 года он приказал армейскому адъютанту затребовать из районных военкоматов призывные документы и самолично разорвал их. Благодаря его незаурядному поступку эти люди перестали существовать для мобилизационных служб. Правда, в списке, составленном Гитлером и Геббельсом, архитекторы и скульпторы занимали немного места; в число привилегированных попали главным образом певцы и актеры. То, что для будущего важны и молодые ученые, выяснилось лишь в 1942 году, и не без моей помощи.
Еще из Оберзальцберга я позвонил Виллю Нагелю, моему бывшему начальнику, а ныне шефу моего персонала, и попросил его организовать группу технической поддержки под моим руководством. Мы хотели создать свою хорошо скоординированную команду строительных инспекторов для реконструкции мостов, расширения дорог и прочего, необходимого при ведении войны. Однако наши представления о безотлагательных действиях были очень смутными. Для начала мы лишь приготовили спальные мешки и палатки и в целях маскировки выкрасили мой автомобиль серой краской. В день всеобщей мобилизации я отправился в здание Верховного главнокомандования вооруженными силами на Бендлерштрассе. Как и следовало ожидать от прусско-немецкой организации, генерал Фромм, ответственный за мобилизацию, бездельничал у себя в кабинете, а персонал работал согласно плану. Фромм с готовностью принял мое предложение о помощи. Мой автомобиль получил армейский номер, а я сам – военное удостоверение личности, чем моя военная деятельность на тот момент и ограничилась.
Гитлер категорически запретил мне работать на армию и объяснил, что мой долг – продолжать работу над его проектами. Тогда я сделал минимум того, что было в моих силах, – предоставил рабочих и инженеров, занятых на моих берлинских стройках, в распоряжение армии и промышленности. Мы взяли на себя строительство ракетного завода в Пенемюнде и нескольких зданий, необходимых для самолетостроения.
Я проинформировал Гитлера об этих обязательствах, будучи абсолютно уверенным в его одобрении. Однако, к моему изумлению, вскоре получил непривычно грубое письмо от Бормана. С чего это вдруг я выбираю себе новые объекты, не имея на то никаких приказов, вопрошал он и по просьбе Гитлера уведомлял о том, что все строительные проекты должны осуществляться без всяких задержек.
Этот приказ – еще одно свидетельство нереалистичности и двойственности мышления Гитлера. С одной стороны, он неоднократно заявлял, что Германия приняла вызов судьбы и решает в войне вопрос жизни и смерти; с другой – не желал отказываться от своих дорогостоящих игрушек, совершенно не учитывая настроения народных масс, озадаченных грандиозным строительством, притом что от них требовалось все больше жертв. Это был первый приказ Гитлера, от исполнения которого я уклонился. В первый год войны я видел Гитлера гораздо реже, но когда он приезжал на несколько дней в Берлин или на несколько недель в Оберзальцберг, то всегда просил показать ему строительные планы и настаивал на их осуществлении. Однако, по моему мнению, он вскоре внутренне смирился с прекращением работ.
Примерно в начале октября немецкий посол в Москве граф фон Шуленбург сообщил Гитлеру, что Сталин лично интересовался строительными планами Германии. Ряд фотографий наших моделей был выставлен в Кремле, но Гитлер лично распорядился самые большие проекты сохранить в секрете, дабы, как он сказал, «не делиться со Сталиным идеями». Шуленбург предложил мне слетать в Москву для разъяснения наших планов. «А вдруг Сталин вас там оставит», – полушутливо заметил Гитлер и не дал разрешения. Некоторое время спустя Шнурре, один из сотрудников посольства, передал мне, что Сталину мои проекты понравились.
29 сентября Риббентроп вернулся из второй поездки в Москву с германо-советским договором о границах и дружбе, подтверждавшим четвертый раздел Польши. За столом у Гитлера он рассказывал, что никогда не чувствовал себя так непринужденно, как среди сотрудников Сталина: «Как будто я оказался среди товарищей по партии, мой фюрер!» Гитлер довольно равнодушно отреагировал на взрыв энтузиазма обычно бесстрастного министра иностранных дел. Далее Риббентроп заявил, что, по всей видимости, Сталин удовлетворен пограничными соглашениями, так как, когда все было решено, собственноручно отчертил на карте участок в отведенной России зоне и презентовал его Риббентропу как огромный охотничий заповедник. Тут разъярился Геринг – он стал убеждать всех, что Сталин вряд ли мог сделать такой подарок лично министру иностранных дел – наверняка это дар германскому рейху и, следовательно, ему, Герингу, как главному егермейстеру рейха. Между двумя страстными охотниками разгорелся жаркий спор, в результате которого министр иностранных дел погрузился в угрюмость, ибо Геринг оказался более убедительным и настойчивым.
Несмотря на разразившуюся войну, предполагалось продолжать реконструкцию бывшего президентского дворца под новую официальную резиденцию министра иностранных дел. Гитлер осмотрел почти законченное здание и выразил неудовольствие. Поспешно и безрассудно Риббентроп приказал снести недавнюю пристройку и начать все заново. Вероятно, ради того, чтобы угодить Гитлеру, он настоял на массивных мраморных дверных проемах, огромных дверях и лепных украшениях, совершенно не подходящих для помещений средних размеров. Перед вторым визитом я попросил Гитлера воздержаться от негативных комментариев, не то министр иностранных дел закажет третью реконструкцию. Гитлер действительно смолчал и только позже в самом близком кругу потешался над зданием, по его мнению, абсолютно неудачным.
В октябре Ханке рассказал мне о том, что прояснилось при встрече немецких и советских войск на демаркационной линии в Польше: советское вооружение оказалось чрезвычайно несовременным, даже никуда не годным. Ханке доложил об этом Гитлеру, и офицеры подтвердили его точку зрения. Гитлер наверняка выслушал информацию с острейшим интересом, ибо постоянно цитировал тот доклад как подтверждение слабости и плохой организации русской армии. Вскоре поражение Советов в войне с Финляндией укрепило его в этом мнении.
Невзирая на строжайшую секретность, мне удалось кое– что узнать о дальнейших планах Гитлера еще в 1939 году, когда он поручил мне построить для него Ставку в Западной Германии. Мы модернизировали и снабдили бомбоубежищами Цигенберг, поместье времен Гете, расположенное близ Наухайма у подножия хребта Таунус.
Когда все было закончено, миллионы марок потрачены на строительство, на сотни миль проложены телефонные кабели и установлено самое современное коммуникационное оборудование, Гитлер вдруг решил, что новая Ставка для него слишком шикарна: в военное время он, мол, должен жить скромно, а потому пусть ему построят соответствующую штаб-квартиру в горах Эйфеля. Это заявление могло произвести впечатление на тех, кто не ведал, сколько миллионов марок уже растрачено впустую и сколько еще предстоит истратить. Мы обратили на это внимание Гитлера, но он не дрогнул, поскольку считал, что под угрозой его репутация «человека скромного и неприхотливого».
После молниеносной победы над Францией я утвердился в мнении, что Гитлер – одна из величайших личностей в истории Германии. Однако меня изумляла апатия, с которой, по моим наблюдениям, общество относилось ко всем небывалым триумфам. Зато самоуверенность Гитлера стремительно росла. В его застольных монологах появилась новая тема. Он объявил, что его великий замысел не страдает недостатками, которые привели Германию к поражению в Первой мировой войне. В те дни, как он говорил, существовали разногласия между политическим и военным руководством: политические партии получили возможность разрушать единство нации и даже пошли на предательство. По традиции некомпетентные принцы правящих домов возглавляли свои армии, считалось, что они должны стяжать военную славу во имя процветания своих династий. К тому же Верховным главнокомандующим был бездарный Вильгельм II. Избежать сокрушительных катастроф удалось лишь потому, что бездарные отпрыски деградировавших княжеских семейств пользовались помощью блестящих офицеров Генерального штаба. В наши же дни Германия едина. Отдельные земли потеряли прежнее значение, в командующие выбраны лучшие офицеры, невзирая на их происхождение, привилегии знати отменены, политическая элита и армия, как и вся нация, спаяны в единое целое, а во главе стоит он, Гитлер. Его сила, его решимость, его энергия преодолеют любые грядущие трудности.
Все успехи военной кампании на Западе Гитлер приписывал себе, не уставая напоминать, что ее план принадлежит ему. Он говорил нам: «Я неоднократно перечитывал книгу полковника де Голля о методах ведения современной войны полностью моторизованными соединениями и многому у него научился».
Вскоре после завоевания Франции мне позвонил адъютант фюрера – я должен был на несколько дней с особой целью приехать во временную Ставку Гитлера, в деревушку Брюлиле-Пеш под Седаном. Всех жителей выселили, и в домишках на единственной деревенской улице разместились генералы и адъютанты, да и жилище Гитлера от других не отличалось. Меня фюрер встретил в прекрасном расположении духа: «Через пару дней мы летим в Париж. Я хочу, чтобы вы были с нами. Брекер и Гисслер тоже летят». Меня удивил тот факт, что победитель решил вступить в столицу Франции с тремя специально вызванными людьми искусства.
В тот же вечер меня пригласили к Гитлеру на ужин в кругу военных. Обсуждались детали визита в Париж, не официального, как я узнал от Гитлера, а «в целях знакомства с искусством». Париж, мол, очаровал его еще в ранней юности, так что он, вероятно, сможет сориентироваться в лабиринте улиц и важнейших памятников, как будто жил там, а не всего лишь изучал по планам.
Перемирие вступало в силу в 1.35 ночи 25 июня 1940 года. Мы с Гитлером сидели за обеденным столом в простой комнате крестьянского дома. Перед назначенным часом Гитлер приказал выключить свет и открыть окна. Мы молча сидели в темноте, потрясенные величием исторического момента и близостью к его творцу. На улице протрубили традиционный сигнал к окончанию боевых действий. Вдали, похоже, собиралась гроза, так как, словно в плохом романе, в темной комнате мерцали отблески молний. Кто-то, может, от избытка чувств высморкался. И тут раздался голос Гитлера, тихий и невыразительный: «Эта ответственность… – И после долгой паузы: – А теперь включите свет». Банальный разговор продолжился, но те минуты остались в моей памяти. Я подумал, что впервые видел Гитлера-человека.
На следующий день я отправился из Ставки в Реймс – посмотреть знаменитый собор. Я увидел призрачный город, почти совсем опустевший: лишь военные полицейские охраняли погреба с шампанским. Ветер хлопал ставнями, гнал по пустынным улицам старые газеты. В распахнутые двери виднелось нутро брошенных домов. Словно в какой-то нелепый миг жизнь замерла. На столах так и остались стаканы, тарелки с остатками еды.
На подступах к городу нам встречались бесчисленные беженцы, жавшиеся к обочинам, так как в середине маршировали колонны немецких войск. Меня поразил контраст между самоуверенными солдатами и измученными людьми, везущими свои пожитки в детских колясках, тележках и прочих примитивных средствах передвижения. Подобные сцены я наблюдал три с половиной года спустя в Германии.
Ранним утром, около половины шестого, через три дня после объявления перемирия наш самолет приземлился в аэропорту Ле-Бурже, где уже ждали три больших «мерседеса»-седана. Гитлер, как обычно, сел впереди рядом с шофером, мы с Брекером – на откидных сиденьях за ним, а Гисслер и адъютанты разместились сзади. Нашу троицу обеспечили полевой формой, чтобы мы не выделялись из массы военных. Через обширные пригороды автомобили проехали прямо к «Гранд-опера», построенной Шарлем Гарнье в стиле необарокко, любимом стиле Гитлера. Потому-то он и пожелал увидеть сначала это здание. У входа нас ожидал откомандированный немецкими оккупационными властями полковник Шпайдель.
Лестница, знаменитая своей величественностью и чрезмерными украшениями, роскошное фойе и элегантный раззолоченный зрительный зал были тщательно осмотрены. Все люстры сверкали, как на гала-представлении. Гитлер взял на себя роль гида. По пустынному зданию нашу маленькую группу сопровождал седовласый капельдинер. Гитлер в свое время действительно тщательно изучил планы парижской «Гранд-опера»: он обратил внимание на то, что в ложе у авансцены не хватает салона, и оказался прав. Капельдинер объяснил, что упомянутое помещение ликвидировали во время давней реконструкции. «Вот видите, как хорошо я все здесь знаю», – самодовольно заметил Гитлер. Он явно был очарован оперным театром, восхищался его красотой. Его глаза блестели от волнения, показавшегося мне жутковатым. Капельдинер, разумеется, сразу же узнал нагрянувшую персону и показывал помещения деловито, но с подчеркнутой отстраненностью. Когда наконец мы собрались уезжать, Гитлер шепнул что-то адъютанту Брюкнеру. Тот достал из бумажника банкнот в пятьдесят марок и подошел к стоявшему поодаль служителю. Старик любезно, но решительно отказался от денег. Гитлер сделал еще одну попытку: послал Брекера, но француз не уступил, твердо сказав Брекеру, что всего лишь исполнял свои обязанности.
Затем мы проехали мимо церкви Мадлен по Елисейским Полям до Трокадеро, а оттуда к Эйфелевой башне, где Гитлер приказал остановиться. От Триумфальной арки с Могилой Неизвестного Солдата мы пешком прошли к Дому инвалидов, и Гитлер постоял немного перед гробницей Наполеона. Под конец Гитлер осмотрел пантеон, поразивший его своими пропорциями. Правда, он не проявил особого интереса к самым красивым архитектурным достопримечательностям Парижа: площади Вогез, Лувру, Дворцу юстиции и Сен-Шапель. Он снова оживился, лишь когда увидел ряд жилых домов на рю де Риволи. Экскурсия закончилась романтической, но пресной подделкой под купольные храмы раннего Средневековья, церковью Сакре-Кёр на Монмартре – странный выбор даже с учетом художественных вкусов Гитлера. Здесь он стоял долго, окруженный самыми мощными охранниками. Многочисленные прихожане узнавали его, но старательно отводили глаза. К девяти утра экскурсия закончилась, и, бросив прощальный взгляд на Париж, мы помчались в аэропорт. «Увидеть Париж было мечтой всей моей жизни. Не могу выразить словами, как я счастлив, что сегодня эта мечта осуществилась», – сказал Гитлер, и я даже немного пожалел его: три часа в Париже, первый и единственный визит, сделали счастливым человека, находившегося на вершине своего триумфа.
Во время экскурсии Гитлер заговорил о параде победы в Париже, однако после беседы с адъютантами и полковником Шпайделем решил от этой идеи отказаться. Официальной причиной назвали угрозу британского авианалета, но позже Гитлер сказал: «Я не настроен на победный парад. Война еще не закончена».