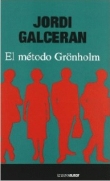Текст книги "Золотые века [Рассказы]"
Автор книги: Альберт Санчес Пиньоль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Этого еще никто здесь не знает, – сказал он. – Я не стал передавать эти новости, чтобы вы успели узнать их раньше, чем ревизионисты.
И он выложил на мрамор четыре голубых листочка, сложенных вчетверо, с такими предосторожностями, словно это были динамитные шашки. Мы одновременно прочитали телеграммы: Рудольф держал их в руках, а мы втроем устроились за его спиной. Первая телеграмма гласила:
бурный штурм тчк буржуазная армия отступает тчк контролируем столицу и провинции тчк дворцы стали народными коммунами
Во второй говорилось:
королевская семья немедленно казнена тчк все убиты или убиты и покалечены
В следующей мы прочитали:
тридцать три тысячи рабочих входят в правительство тчк министры социал-демократической республики обращены в бегство или расстреляны забастовщиками
Последняя гласила:
имперский флот под красным флагом тчк пятьсот орудий на службе революции тчк необходим ответ бюро зпт куда направить корабли.
Мы не могли поверить этим телеграммам и смотрели друг на друга вылупив глаза, круглые, как желтки в яичнице. Рудольф медленно поднял руки и схватился за голову, словно желая удержать мысли, готовые вот-вот испариться из его мозга. Беппо как-то незаметно ссутулился и стал похож на несчастного горбуна, на которого взвалили непосильную ношу. Вся его фигура говорила о том, что бедняга испытывает ощущение космического одиночества. Потрясенная новостями финка молчала как рыба и напоминала своим видом безумца, впервые попавшего в сумасшедший дом и вдруг понявшего, что именно здесь его место на земле. Нам не надо было вслух говорить о том, чего все мы втайне боялись, чего не хотели больше всего в жизни, – на лице каждого можно было прочесть одну и ту же мысль.
Против всех ожиданий мы получили страшную и неожиданную новость, правда, пока еще не подтвержденную окончательно: может быть, пока только может быть, мировая революция восторжествует и наша жизнь подпольщиков прекратится навсегда.
В детстве – кашель и понос, а слоновая нога – когда подрос
Когда я пришел к родителям, половина моей правой руки, от кончиков пальцев и до локтя, уже превратилась в слоновью ногу.
– Мама, смотри, какая беда, – пожаловался я.
Мать позвала отца. Тот работал в гараже и поэтому явился в старой майке, вытирая руки какой-то ветошью. Он сразу поинтересовался, как давно это со мной случилось, и тут же спросил – по его тону я почувствовал в этом вопросе некую долю обвинения: почему я не пришел к ним раньше?
Если я сказал, что половина моей руки стала слоновьей ногой, то так оно и было. Ее покрывала серая плотная кожа, изрытая трещинами, как африканская земля, на которую уже десять лет не падает ни капли дождя. Все предплечье превратилось в толстый цилиндр, на котором кое-где росли редкие волосы, длинные и черные, – правда, было их немного. Вместо пальцев руку украшали теперь три ногтя, имевших форму полумесяца, – толстых и прочных, как пуленепробиваемые стекла. Осязание полностью отсутствовало. Теперь вы представляете себе мою руку, а вот мое отчаяние нельзя описать словами.
Отец покачал головой и посмотрел на меня, сделав знакомую гримасу, которая означала одновременно нечто вроде „Тебе же было сказано“ и „Я ничего тут поделать не могу“. Потом он спросил:
– Тебе не больно?
– Нет, но не в том дело.
Совершенно случайно в это время к ним в гости пришла моя сестра. Она увидела слоновую ногу, и ее глаза налились лимонным соком. Родители, по крайней мере, попытались сохранить спокойствие, а она даже не старалась скрыть свои чувства.
Я не представлял себе, что под кожей нашего лица есть такое количество мышц, пока передо мной не возникло это выражение ужаса. Мать не смогла сдержать слезы и собиралась было воспользоваться этим обстоятельством, чтобы удалиться на кухню и позвонить оттуда кому-то по телефону.
– Куда ты пошла? – закричала моя сестра. А потом запричитала: – Вы что, не видите, какая у него рука? Вы что, не понимаете, как ему плохо?
Такое поведение было в духе сестры, которая всегда жаловалась на то, что родители вечно только ссорились и ничего не предпринимали. По ее мнению, они ссорились как раз для того, чтобы ничего не предпринимать. На самом деле это она только и делала, что осуждала ссоры родителей, а когда возникала какая-нибудь проблема, настоящая проблема, тоже никогда ничего не предпринимала. Сестра закурила. Как все истерички, она дымила весь день не переставая. Правда, надо признаться, эта дура была хороша собой.
– Бедный наш мальчик! – попробовала она утешить меня.
Всю свою сознательную жизнь я ненавидел, когда сестра называла меня „нашим мальчиком“, хотя бы потому, что она младше меня на пять лет. Я присел на диван, решив, что нервы успокоятся, если рассказать подробно, как это со мной случилось.
– Все началось рано утром, – начал я свой рассказ. – Я ел яичницу, когда вдруг заметил, что кожа на пальцах начала менять цвет и утолщаться. Само собой разумеется, про яичницу я тут же забыл. Процесс шел очень медленно, было даже трудно сказать, идет он или остановился. Так бывает невозможно определить, толстеет ли человек, пока он ест. Однако, проводя линейкой точные измерения каждые четверть часа, я мог видеть, что слоновая часть руки удлинилась на несколько миллиметров. К половине первого превращение затронуло локоть, и на этом все пока кончилось, поэтому я пришел сюда.
Во рту у меня пересохло, я не знал, что еще можно добавить к сказанному. К счастью, в эту самую минуту в комнату вошел муж моей сестры.
– Спокойствие, – произнес он. – Сохраняйте спокойствие. И ты – в первую очередь.
Шурин обращался ко мне, подняв руку вверх жестом полицейского, который останавливает движение. Меня поразило, что он явился с такой скоростью, но одновременно меня удивил тот факт, что мать позвонила ему. На самом деле его молниеносное появление на сцене объяснялось просто.
Мой шурин никогда не чувствовал себя членом нашей семьи, прежде всего потому, что отец и сестра в принципе на дух его не принимали. Когда бедняга старался быть чем-нибудь полезен или просто пошутить, отец смотрел по сторонам, произносил „уф!“ и делал жест, похожий на гитлеровский. Я не имею в виду нацистское приветствие, когда подданные Рейха вскидывали вперед вытянутую руку. Отец раскачивал рукой, как Гитлер, когда тот входил в зал, поднимая руку до высоты уха, а потом манерным жестом откидывал ее назад и выдыхал свое утомленное „У-у-у-уф!“. Сестра с мужем обращалась еще хуже. В ее голосе сквозил такой убийственный сарказм, что трудно было понять, к кому она обращается: к собственному супругу или к Фу Манчу. Как бедняга ни старался, черепаха, жившая в нашем саду, являлась членом нашей семьи в гораздо большей степени, чем он. Почему он, мой шурин, терпел эту мегеру? Наверное, потому, что бедняга был горячим мужчиной и ему всегда ее хотелось.
– Спокойствие, – настойчиво повторил он. – Я принес две бутылки шампанского. Они уже в холодильнике и скоро остынут.
Сестра ответила гримасой, которую всегда строила, когда хотела показать, что ее возмущению нет предела: она вытянула шею вперед, как гусыня, и прищурила глаза. Другой прием, используемый ею для выражения негодования, – я ненавидел его всеми силами души, – состоял в следующем: она произносила слова по слогам, выделяя каждый, словно выплевывала звуки:
– Как-ты-ска-зал? Что-ты-при-нес?
Шурин засмущался и постарался оправдаться:
– Если положить их возле стенки морозильника, то они охлаждаются быстрее.
– Неужели ты не видишь, что здесь происходит? – завопила сестра, указывая на мою злополучную руку. – А ты говоришь, что принес две бутылки шампанского!
– Но, милая… – Шурин хотел загладить свою вину. – Я подумал, что с шампанским, по крайней мере, это не будет так похоже на похороны.
Роль покойника, естественно, предназначалась мне. Я хотел было заплакать, но постеснялся. В довершение всех бед заявился дядюшка Рамон – светлая голова, настоящий всезнайка, человек, с которым никогда и ни за что на свете не надо играть в настольные викторины. Всем своим видом он напоминал президента Соединенных Штатов, которому предстоит принять решение о бомбардировке Кубы, прежде чем русские установят там свои ядерные ракеты. Однажды мне удалось нанести ему сокрушительное поражение. Мы сидели за столом после какого-то семейного обеда, и неизвестно почему разговор зашел о рождении Христа. Дядюшка Рамон заявил: Иисус Христос родился в нулевом году, а я ответил ему, что такого быть не может, хотя бы потому, что нулевого года вообще не существует. В истории есть год „минус первый“ и год „первый“, а между ними никаких лет нет. Каждый из нас отстаивал свое мнение: он отстаивал нулевой год, а я ему возражал, но в конце концов выяснилось, что правда была, само собой разумеется, на моей стороне. Он никогда мне не простил публичного поражения. Как бы то ни было, мои родители его боготворили, и неудивительно, что мама ему позвонила.
Он осмотрел мою слоновую ногу как крупный специалист по изготовлению ветчины. К его чести надо отметить, что до него никто к ней не решился прикоснуться. Все столпились вокруг моей руки или вокруг дядюшки, точно я сказать не могу. – Да, это нога слона, – произнес он тоном ветеринара. А потом добавил таинственным шепотом: – А может быть, бегемота.
Он велел матери принести большую вазу с горячей – очень горячей – водой.
– Так она размягчится, – сказал он.
– Неужели ты хочешь сказать, что мне ее отрежут? – заныл я.
– А почему в слоновую ногу превратилась только половина руки? – спросил отец, словно меня здесь вообще не было.
– Потому что иначе он не смог бы сгибать руку в локте, – ответил дядюшка. А потом обернулся ко мне и распорядился: – Давай суй руку в вазу.
В его ответе на вопрос отца не было, естественно, никакой логики; однако, если разобраться, оставленная мне возможность сгибать руку в локте могла служить утешением. А когда человека утешают, он гораздо легче подчиняется чужим приказам.
Я сидел, погрузив руку до самого локтя в вазу, когда вошел мой двоюродный брат. Мы сто лет не виделись, но его сияющая улыбка, словно из рекламы зубной пасты, совершенно не изменилась. Шахматная доска могла позавидовать квадратности его челюсти Супермена. Волосы отливали золотом почище золотых шаров по осени, и он был похож как две капли воды на свидетелей Иеговы, которые все похожи друг на друга как капли воды. Ему не хватало только Библии под мышкой. Однако никаких религиозных идей у моего двоюродного брата не было, в основном по той причине, что у него вообще не было идей. Ни одной, даже самой завалящей. Даже половинки. Даже четвертушки. Поэтому мой кузен жил счастливо и был прекрасным человеком. Если бы кто-нибудь назвал его человеком легкомысленным, он бы просто не понял упрека, точно так же, как мещанин у Мольера не знал, что говорит прозой. Когда мы были молоды, а наши матери еще не успели поссориться, он учился на медицинском факультете. В перерыве между лекциями он устраивался со своим бутербродом на ступенях бассейна, где плавали латаные-перелатаные трупы, на которых студенты осваивали технику вскрытия. Мой двоюродный брат бросал им крошки хлеба, словно голубям на площади. Мне его рассказы казались очень забавными: по его словам, он был совершенно уверен в том, что, если кидать крошки и не сомневаться в успехе, в конце концов мертвецы откроют рты и проглотят хлеб, точно рыбки. Потом он создал клинику, в которой увеличивал пациенткам грудь, и разбогател. Это я узнал не от него самого, а от каких-то других знакомых, потому что к этому времени наши матери уже успели поругаться и мы больше не встречались ни на крестинах, ни на свадьбах, ни на каких иных торжествах.
Честно говоря, мы оба были очень рады увидеться снова. Он решил выразить свое отношение к постигшему меня несчастью в своем стиле – кузен приготовил мне подарок.
– Смотри, что я тебе принес, – сказал он, показав мне ослиную челюсть со всеми зубами. – На этих зубах можно играть мексиканские мелодии. Берешь палку, водишь по ним – вот тебе и ксилофон.
– Ты себе представляешь, какой из меня теперь музыкант? – ответил я ему, вынимая руку из вазы.
– Я прекрасно знал, что ты не музыкант, – оправдался он. – Это настенное украшение. Правда, будет здорово смотреться? Или, может быть, у тебя и стен нет?
– Я думал, ты пришел ко мне как врач, – простонал я.
– Нет, нет, я специализируюсь исключительно по титькам. – Он явно не хотел брать на себя никакой ответственности. – В твоем случае я ни шиша не понимаю.
Его дочка оказалась столь же умненькой, сколь и стеснительной. До этого момента она пряталась за штанинами отца, но, увидев мое цилиндрическое предплечье, просияла, как дети, которые находят утром рождественские подарки, и закричала:
– Вот это да! Это же бабушкин рулет. Я хочу сказать, что у тебя рука, как рулет.
– Нет, – возразил я. – Это слоновья нога.
– Или нога бегемота, – напомнил дядюшка, довольный тем, что мог продолжать играть роль врача, поскольку мой двоюродный брат на нее не претендовал. Он велел мне: – Засунь руку обратно в вазу.
– Ты будешь ходить, как слон! – сказала девочка.
– Я не хочу ходить, как слон! – обиделся я. – К тому же, если быть точным, у меня только половина руки слоновья.
Девочка подумала немного и заключила:
– Ты сможешь ходить, как одна восьмая часть слона.
Ребятишки ее возраста обычно не употребляют таких понятий, как „одна восьмая“, но моя двоюродная племянница была очень развитой девочкой, и у нее было доброе сердце. Она отвела взгляд от моей руки и посмотрела мне в лицо:
– Тебе больно?
– Нет, – ответил я. – Помнишь, как ты сломала ручку и тебе наложили гипс? Это почти то же самое.
– Понятно.
Совершенно неожиданно из кухни появились одновременно мама и тетя. А я и не заметил, как она вошла. Обе были в слезах. Слоновья нога оказалась достаточно важным поводом для того, чтобы они обменялись звонками и чтобы тетя явилась на зов. На следующий день мать все мне объяснила: они давным-давно не разговаривали, а встретившись на кухне, поняли, что ни та, ни другая уже не помнит о причине ссоры.
Тетя у меня была замечательная. Когда мы были маленькими, она объясняла нам, как можно увидеть привидение. „Нужно научиться слушать глазами“, – говорила она и могла часами рассказывать о духах, которые, по ее словам, не были ни хорошими, ни плохими, точно так же, как люди в большинстве своем не бывают целиком хорошими или целиком плохими. Я не понимал, как можно слушать глазами, но, когда тетя заводила этот разговор, мы только рты открывали от изумления. Поэтому я так расстроился, когда они поссорились: из-за ее рассказов и из-за моего двоюродного брата. И вот теперь, после стольких лет вражды, они опять стояли рядом и рыдали белугой, объединенные общей бедой.
Мама, вытирая слезы, налила всем по рюмочке анисового ликера. Когда волнение несколько улеглось, тетя обратила внимание на мою руку. До сего момента восстановление между ними дружеских отношений полностью затмило трагедию. Она осмотрела уродливую конечность с удрученным выражением на лице, а потом сказала свое знаменитое: „Ерунда какая!“
Тут следует заметить, что тетя имела обыкновение использовать эту фразу, как никто другой на нашей планете. Ее слова лишали всякого смысла любое явление или событие. Без исключений. Если бы президент Рузвельт услышал, как тетушка говорит свое „Ерунда какая!“, то атака на Пёрл-Харбор показалась бы ему совершеннейшей чепухой, он никогда не объявил бы войну Японии и Хиросима и Нагасаки не превратились бы в руины.
– Ерунда какая! – произнесла тетушка. – И из-за этого вы подняли такой шум?
Она говорила так, словно слоновость моей руки могла причинять не больше неприятностей, чем кофейная тянучка, которая имеет обыкновение прилипать тебе к зубам.
– Но, тетя, – произнес я, словно мне надо было оправдать свое поведение, – я остался без пальцев, а рука, смотри, во что превратилась.
– А может быть, пальцы просто спрятались под слоем кожи? – предположил мой кузен.
– Ты постарайся, – сказала его дочка, – может быть, они и выйдут наружу.
– И вправду, – поддержал девочку ее отец. – Почему бы и нет? Давай, попробуй.
Я вытащил руку из вазы с водой и положил локоть на расстеленное на столе полотенце. Мне пришлось потрудиться. Там, где раньше был кулак, послышался треск, как когда наступаешь подошвой ботинка на стекло. Но результат не заставил себя долго ждать: какая-то невидимая корка вдруг треснула, и я вдруг почувствовал прохладный воздух кончиками пальцев.
– Они уже снаружи! – воскликнул отец. – Ты ими шевелишь! И все пальцы на месте! И ладонь вся вышла!
Пальцы у меня немного онемели и были холодными, но это была моя рука. Мама и тетя радостно и удивленно повизгивали, как женщины на футбольном матче, когда мяч готов вот-вот влететь в ворота. Мужская половина нашего семейства, напротив, смеялась и – по непонятной мне причине – хлопала в ладоши.
Дядюшка был на седьмом небе от счастья, потому что именно ему пришла в голову ценная мысль размягчить слоновую ногу горячей водой; а мама и тетя радовались тому, что помирились. Даже моя сестра посмотрела на мужа с некоторой нежностью, когда спросила:
– Пора доставать шампанское?
– У меня теперь будут руки разного цвета, – продолжал ныть я.
– Подумаешь, – сказал кузен. – У Дэвида Боуи глаза разные – и ничего.
– К тому же одна рука получилась толще другой, – не унимался я.
– Ну и что? – сказала моя двоюродная племянница. – Ты будешь, как все теннисисты.
Мой братец заявился, когда мы пили шампанское. Может быть, поэтому никто не обратил на него особого внимания. Он подошел ко мне и увел в соседнюю комнату.
– Хорошо, что ты дома, – сказал он мне. – Я хочу снять русскую девочку, а денег не хватает. Когда шел сюда, думал стрельнуть у стариков, но, раз уж ты здесь, лучше попросить у тебя. Кстати, чего это все сегодня у нас собрались?
– Ты ничего во мне особенного не замечаешь? – прервал его я. – Посмотри внимательно.
Мне показалось, что братец меня не понимал, и, решив навести его на след, я потер кончик носа слоновьей рукой. Он оглядел меня с ног до головы и сказал:
– Кажется, у тебя новые очки. Я не ошибся?
Корабль дураков
„Помогите, помогите, ради Бога!“ – молит моряк, потерпевший кораблекрушение, чье тело уже давно борется с волнами Балтийского моря. Он понимает, что все пропало, но, когда последние силы оставляют его, когда несчастный уже готов принять верную смерть, в эту самую минуту поблизости – на расстоянии протянутой руки – падает в воду канат, который означает для него спасение.
Ночь так черна, что прятала от его взора проходившее мимо судно, но теперь корабль без единого огня на борту нависает над его головой, точно чудовищное брюхо кита. Какая-то добрая душа бросила ему сверху спасительный канат, но, к его удивлению, никто не собирается поднимать его на борт. Моряк, потерпевший кораблекрушение, смотрит вверх, но там, на палубе, не видно силуэтов матросов. Борьба с волнами измучила его. Собираясь с силами, он пользуется моментом и осматривает борт корабля. Мидии и ракушки завладели обшивкой и покрыли ее колючим ковром. Некоторые полусгнившие и позеленевшие доски выгнулись наружу, точно лепестки подсолнечника.
В конце концов ему удается подняться по канату. Мокрый до нитки, он падает на палубу и распластывается на ней, точно выловленный матросами осьминог. Когда моряк наконец встает на ноги, на палубу низвергаются струи тысячи маленьких водопадов. Он не один. Прямо перед ним стоит какой-то коротышка, лысый и мускулистый, и улыбается. Его подбородок кажется вдавленным в шею. Кто знает, сколько времени тому назад в результате драки, пытки или медицинского эксперимента он лишился кожи век; кто знает, при каких обстоятельствах это случилось; но теперь жертва обречена беспрерывно созерцать мир – и кто знает, каково ей приходится. Брови коротышки высоко подняты, так высоко, что на круглой физиономии, белой, словно бумажная луна, написано постоянное удивление. На ней выделяется нос, покрытый коротенькими черными волосками. Но моряк с потонувшего корабля не может оторвать взгляда от его застывшей улыбки, которая обнажает зубы пепельно-серого цвета. Жизнь ему спас умалишенный. Моряк не знает, что сказать, хотя понимает, что улыбка коротышки, который не произносит ни слова, заключает в себе вопрос. В этом и состоит весь смысл идиотских улыбок: без единого слова они спрашивают нас обо всем.
Моряк оборачивается. Палуба полна людей, которые расположились на ней тут и там, однако слово „люди“ требует уточнения. Их пять, нет, десять, пятнадцать, может быть, двадцать. И все, без единого исключения, – это существа, в которых смешались человеческие и звериные черты. Вот пара, занятая беседой, но говорящий обращается с собеседником так, словно тот – неодушевленный предмет или его вообще не существует. Он не слушает его и не ожидает ответа на свои слова. Большинство живет в собственном отдельном мире, несмотря на то что тела их порой соприкасаются, а иногда даже им приходится получать случайные удары. Вот мужчина, чья одежда сводится к рубахе из мешковины, которая не доходит ему даже до пупа – его мужское достоинство красуется у всех на виду. У него нет рук, а ноги – тощие и длинные, как у аиста. Он танцует босиком, и, хотя музыки не слышно, танцор выделывает безумные коленца в таком ритме, что ему могли бы позавидовать абиссинцы. Вот, чуть дальше, старик, знакомый с латынью, взобравшись на самый нос корабля и возведя глаза к небу, вступил в словесную дуэль со святым Патриком. Он то выкрикивает смертельные угрозы в адрес святого, то сменяет гнев на милость и звонит в колокольчик. А вот крестьянка, разевающая круглый рот, бездонный, как колодец. У нее вывихнута челюсть и нет ни одного зуба. Ее руки безжизненно болтаются взад и вперед, подобно маятнику, словно все кости внутри раздроблены. Несмотря на девять юбок, можно видеть, как огромное красное пятно расползается на ее обтянутом шерстяной тканью заду. Какой-то пассажир подходит к моряку с протянутой рукой и на немецком языке с литовским акцентом предлагает ему экскременты:
– Торт для боцман? Торт для боцман? Торт для боцман? Торт для боцман? Торт для боцман?
Боцман? Может быть, они хотят, чтобы он вел их корабль, эту ореховую скорлупку, отданную на волю волн, которая если и держится еще на плаву, то лишь благодаря чуду? На корабле нет ни парусов, ни штурвала, ни бортовых огней. Вдруг из-под палубы до него доносится гул голосов. Ровно половина – это стоны, такие отчаянные, каких ему не доводилось никогда раньше слышать. Вторая половина – такой неудержимый хохот, какого ему никогда не доводилось слышать. Ни эти стоны, ни этот смех в отдельности не произвели бы на него никакого впечатления, но смесь хохота и стонов открывает перед ним окно в ад. Моряк с затонувшего корабля представляет себе трюм, похожий на котелок, в котором варят суп рыбаки, где извивается множество белесых мелких угрей, только вместо угрей там – человеческие тела. Моряк сначала раскрывает рот в полном изумлении, а потом понимает, где он находится.
В этих краях на побережье до сих пор сохраняется древняя традиция. Когда в порту остается корабль, покинутый каким-нибудь разорившимся судовладельцем, или какая-нибудь старая посудина, которая вот-вот пойдет ко дну, местные власти пользуются случаем и грузят на это судно всех умалишенных провинции. И делается это без всякого насилия – напротив, все происходит весело. Префект обряжается в бархатный парадный костюм, люди смеются и забавляются от души. Всех сумасшедших, точно послушное стадо, приводят в порт, и там им предлагается возможность отправиться в путешествие на корабле, доживающем свои последние дни. Префект произносит торжественную речь и приглашает умалишенных подняться на борт: он объявляет, что судно отвезет паломников в Иерусалим, и совершенно бесплатно. Никто никого не принуждает: одни принимают приглашение, а другие нет. Таким образом вершится своеобразный суд, где сам подсудимый становится себе судьей, решая, насколько он лишился рассудка. Больные, которые кажутся безнадежно заблудившимися в лабиринтах слабоумия, удивительным образом чувствуют опасность и остаются в порту, а те, кто выглядят вполне здравомыслящими, напротив, часто становятся жертвами мистического порыва. Иначе как жертвами собственных иллюзий их не назовешь, потому что даже крысы чуют беду и бегут стаями, балансируя на канатах, которые еще удерживают корабль у причала. Сразу после этого начинается праздник, а поздно вечером толпа провожает отплывающее судно криками и хохотом. К следующему утру корабль уже находится во власти течений Балтийского моря. Не остается сомнений в том, что приговор будет исполнен. Рано или поздно корабль пойдет ко дну, но последние дни несчастных будут страшнее гибели. Дураки осуждены на муки жажды и голода, возможно, некоторым из них суждено перед смертью заниматься людоедством. Они обречены на медленную и ужасную смерть, такую страшную, что она находится за пределами боли и воображения. За пределами Иерусалима.
Волнение на море улеглось, океан подобен чану с оливковым маслом. Все тонет в густом тумане, его стена – точно из крахмального клейстера – кажется толще стен Константинополя. Море окутывают мирные белые сумерки. Хохот и стоны в трюме немного стихают, быть может, сказывается общая усталость. Но это тишина чистилища, в ней слышен отзвук безысходности.
Вдруг моряк с затонувшего корабля видит неожиданную картину: какой-то корабль движется им навстречу. Он бежит на корму и отшвыривает в сторону безумца, знающего латынь, который невозмутимо продолжает свой спор со святым Патриком.
Два корабля медленно сближаются, пронзая белесый кисель тумана. Это рыболовецкое судно одной из Скандинавских стран – никакого сомнения нет. Предки этих моряков были отчаянными вояками, но ныне на судне плывут христиане, сменившие латы и мечи на сети и гарпуны. Множество подобных кораблей наведываются в здешние воды, богатые треской. Им и в голову не могло прийти, что судьба уготовит им встречу с кораблем дураков. Во взглядах моряков, которые смотрят на умалишенных, сквозят снисходительность и сострадание. Когда корабли сходятся и оказываются почти на расстоянии протянутой руки, на рыболовецком судне наступает гробовая тишина, моряки охвачены ужасом, как дети. Одновременно их одолевает грусть, потому что с давних времен им известна одна истина: и воды, и земная твердь могут внезапно исчезнуть в воронке, которая засасывает все сущее. Сейчас перед ними одна из таких воронок. Ибо, что есть этот корабль если не один из возможных концов света?
Молчание скандинавов поражает на фоне криков и шума на корабле дураков. Моряк с потонувшего корабля видит, как из трюма появляются новые и новые сумасшедшие, словно их выгоняет наружу какой-то таинственный инстинкт, они подобны демонам, явившимся без зова. Толпа собирается на борту, который почти касается рыболовецкого судна. Умалишенные размахивают руками, подвывают и верещат, как стая обезьян; их рев заглушает вполне здравые просьбы моряка с затонувшего корабля: – Помогите, ради Бога! Я не сумасшедший, я боцман, подданный литовского короля! Тот, кто меня спасет, будет щедро вознагражден!
Моряк с потонувшего корабля полагает, что по рангу ему следует обращаться к боцману рыболовецкого судна. Этот мужчина уже достиг зрелого и разумного возраста, в его глазах голубеет морская вода. Благодаря близости корабля и плотному туману, слышно, как он вздыхает и говорит кому-то: – Увы! Вот самый несчастный из них, ибо самым безумным из всех безумцев должен быть тот, кто ведет корабль дураков.
Моряк с потонувшего корабля замирает от ужаса. Боцман с рыболовецкого судна его не понял! Он опытный и знаменитый боцман, ему завидуют все товарищи по профессии. Он водил королевские суда из Гренландии в Мексику. Ему удалось привести каравеллы в порты Анголы, в Вавилон, в парагвайскую сельву, к вершинам Кавказа и к монгольскому двору. Во время одного из своих путешествий он достиг Луны и удостоился приема принцессы королевства селенитов; и в их сердцах зародилась любовь столь же чистая, сколь и могучая. Герой рассчитывал совершить путешествие в город тектонов, расположенный в самом центре земного шара, – и он, вне всякого сомнения, достиг бы своей цели, если бы не кораблекрушение, преградившее ему путь к славе.
Слезы душат его, и в порыве отчаяния моряк бросается в воду, рассчитывая догнать рыболовецкое судно вплавь. Но тщетно – ведь он все-таки не дельфин. И в довершение всех бед на море опять появляются волны, словно кто-то нарочно жестоко играет с ним. На непреодолимом для несчастного расстоянии туман постепенно заглатывает скандинавский корабль. Два желтых фонаря на корме медленно затухают, словно закрывает глаза ангел, отрекаясь от души, которую он хотел было спасти.
„Помогите, помогите, ради Бога!“ – молит моряк, потерпевший кораблекрушение, чье тело борется с балтийскими волнами. Он понимает, что все пропало, но, когда последние силы оставляют его, когда несчастный уже готов принять верную смерть, в эту самую минуту поблизости – на расстоянии протянутой руки – падает в воду канат, который означает для него спасение. Ночь так черна, что прятала от его взора проходившее мимо судно, но теперь корабль без единого огня на борту нависает над его головой, точно чудовищное брюхо кита.