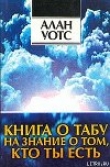Текст книги "Природа, мужчина и женщина. Путь освобождения."
Автор книги: Алан Уотс
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Когда мы говорим, что наша жизнь есть мимолетное мгновение, в котором некому и не к чему привязываться, мы отрицательно выражаем то, что может быть сказано также положительно. Однако положительный способ выражения не так эффективен и легче вводит нас в заблуждение. Ощущение, что в жизни есть к чему привязаться, основывается на иллюзорном дуализме эго и его переживаний. Между тем причина того, что привязываться не к чему, состоит в том, что этот дуализм является всего лишь кажущимся, и поэтому стремление привязаться можно уподобить попыткам укусить зубы зубами или схватить руку той же самой рукой. Одновременно мы постигаем, что субъект и объект, «я» и мир, представляют нерасчленимое единство или, если быть более точным, «не-дуальносгь», поскольку представление о единстве, как может показаться, исключает множественность.
Ощущение разрыва между эго и миром исчезает, а субъективная, внутренняя жизнь кажется неотделимой от всего остального – от всей совокупности переживаний в потоке природных событий. Для нас становится очевидно, что «все есть Дао» – целостный, гармоничный, всеобщий процесс, от которого совершенно невозможно отойти. Это ощущение, мягко говоря, восхитительно, однако оно не имеет логических предпосылок – если не принимать во внимание, что человек теперь не «противостоит» реальности. Здесь человек не противостоит жизни; он просто является ею.
Однако вещи обычно не кажутся нам восхитительными, если они не имеют важных последствий и не обещают дальнейших улучшений в практической жизни. Когда это ощущение впервые нисходит на человека – довольно неожиданно, как это обычно бывает, – он ожидает от него каких-то последствий, и поэтому оно уходит так же быстро, как и появилось. Человек, как правило, ожидает, что постижение как-то изменит его жизнь, сделает его лучше, мудрее и счастливее. Он верит, что постиг что-то очень ценное, и поэтому ходит вокруг с видом нищего, унаследовавшего целое состояние.
– Что самое ценное в мире? – спросили однажды у дзэнского мастера.
– Голова дохлой кошки! – ответил он.
– Почему?
– Потому что никому не приходит в голову оценить ее.
Постижение единства мира во многом подобно этой голове дохлой кошки. Это постижение – самое бесценное событие, не имеющее никаких последствий. Оно не имеет результатов, приложений, логического смысла. Никто не может ничего извлечь из него, потому что не существует позиции в стороне от него, из которой к нему можно подходить. Любое представление о приобретении, будь то приобретение богатства, знания или добродетели, наводит на мысль о человеке, который пожирает себя, начиная с пальцев ног вверх по телу. Так или иначе все мы делаем это, ведь по большому счету не важно, что мы едим—свои ноги, или жареную утку, – удовлетворение всегда мимолетно. «Упанишады» говорят: «Аннам Брахман – пища есть Брахман; я, пища, поедаю того, что меня ест!»[59]59
Тайттирия-упанишада, iii, 10, 6
[Закрыть] Так или иначе мы поедаем себя, как змей Уроборос, и разочарование наступает только тогда, когда мы желаем что-то получить из этого. Вот почему Будда сказал своему ученику Субхути: «Я не получил абсолютно ничего вследствие своего совершенного, непревзойденного Пробуждения». Но, с другой стороны, когда у нас нет ожиданий и надежд, когда мы не получили ничего, кроме «головы дохлой кошки», совершенно неожиданно и чудесно, без всяких причин и объяснений, мы имеем больше, чем когда-либо мечтали.
Постижение единства мира нельзя достичь с помощью отречения и подавления желаний – с помощью ловушек, которые хитрые и находчивые выставляют, чтобы поймать Бога. Человек не может отречься от жизни по той же причине, по которой он не может ничего получить от нее. В «Чжэн-дао-гэ» говорится:
Вы не можете ухватить его,
Но вы не можете и потерять его.
Не будучи способными постичь его,
Вы наконец постигаете его.
Когда вы говорите, оно молчит,
Когда вы молчите, оно говорит (XXXIV).
Часто говорят, что искать Дао означает терять его, поскольку поиск подразумевает отделенность ищущего и искомого. Чтобы понять, что это не совсем верно, достаточно попытаться не искать, не желать, не привязываться. На самом деле человек не может отклониться от Дао, даже когда он его ищет. Мы просто не можем занять в отношении Дао неправильную позицию, потому что не можем находиться вне его. Кажущаяся отделенность Дао от субъективного «я» – это в такой же мере выражение Дао, как и очертание зеленого листка.
Здравые, практичные люди, естественно, с подозрением относятся к подобным рассуждениям – к восторгу по поводу того, что не способствует улучшениям, к совершенно бессмысленной идее о гармонии, от которой невозможно отклониться. Однако смысл учения о «голове дохлой кошки» в том, что оно не имеет последствий и, подобно самой природе, есть полная бессмыслица, выражение экстаза, конец в себе без дальнейших намерений и целей.
Беспокойных, пытливых и корыстолюбивых людей эта бессодержательность полностью разочаровывает, поскольку для них только то обладает смыслом, что, подобно слову, указывает на что-то вне себя. Поэтому мир кажется для них осмысленным в той мере, в которой им удается свести его к набору символов, как словарь. В таком мире растения цветут и благоухают, чтобы привлекать пчел, а хамелеоны меняют цвет кожи, чтобы скрывать себя. Если же отказаться от рассмотрения намерений и стать на механистическую точку зрения, окажется, что пчелы летят к цветам, потому что их привлекает цвет и аромат, тогда как хамелеоны изменяют цвет кожи, потому что следуют инстинкту выживания. Если человек смотрит на реальность через призму таких объяснений, он не видит, что мир, в котором пчелы жужжат среди благоухающих цветов, растет – без абстрактного и разделяющего «потому что». Вместо взаимосвязанных структур, в которых все сосуществует, такой человек видит множество «бильярдных шаров», образующих цепи причин и следствий. В механическом мире вещь такова, какова она есть, в отношении к тому, чем она была или будет, тогда как в бесцельном мире Дао вещь такова, какова она есть, в отношении к присутствию других вещей.
Теперь мы начинаем видеть, почему люди всегда искали убежище от себе подобных среди деревьев и растений, среди гор и вод. Мы часто встречаемся с низкопробными имитациями любви к природе, но невозможно отрицать также чего-то глобального и существенного в поэзии, сколь бы избитыми ни казались нам некоторые поэтические приемы. В течение сотен лет великие поэты Востока и Запада говорили о своем стремлении «общаться в природой», – хотя в современных интеллектуальных кругах это выражение приобрело несколько иронический оттенок. Ведь считается, что любовь к природе – это «побег от реальности», неприемлемый для людей, которые ограничивают реальность тем, о чем можно прочесть в газетах.
Однако причина этой любви к дикой природе, возможно, в том, что она возвращает человека на уровень его собственной природы, на котором он свободен от суеты и не обеспокоен достижением целей в будущем и поиском смысла жизни. Ведь то, что мы обычно называем природой, свободно от символических представлений и ощущения собственной важности. Птицы и звери действительно уделяют очень много внимания питанию и размножению, однако они не пытаются оправдать себя и не делают вид, что тем самым преследуют высшие цели или способствуют эволюции мира.
Это не должно звучать упреком для людей, ведь из всего сказанного не следует, что птички правы, а мы нет. Смысл скорее в том, что общение с удивительным миром природы позволяет нам по-новому взглянуть на себя. С этой точки зрения, даже наше чувство собственной значимости не кажется чем-то плохим – мы видим, что оно совсем не такое, каким мы его привыкли считать. В этом свете все абстрактные и навязчивые устремления людей кажутся нам чудесами сродни гигантским клювам пеликанов, красочным хвостам райских птиц, длинным шеям жирафов и ярко-красным задницам обезьян. Когда мы видим свое самомнение таким образом, нам не кажется больше, что оно достойно презрения или большого внимания. И тогда оно исчезает в порыве хохота. Ведь навязчивая целеустремленность и увлеченность абстракциями, будучи вполне естественной, кажется переразвитой: она напоминает тело динозавра. Как средство адаптации в борьбе за выживание, она преувеличена, а люди как живые существа, наделенные этим средством адаптации, не в меру изобретательны и практичны – и поэтому нуждаются в учении о «голове дохлой кошки». Ведь это учение, подобно самой природе, не имеет цели и следствий вне самого себя.
Совершенно неожиданно для нас это учение косвенно способствует осознанию важности мира. Возможно, «важность» в данном случае – неправильное слово, потому что с этой точки зрения мир не указывает на что-то вне себя. Мир подобен инструментальной музыке, которая не является фоном для пения или имитацией природных звуков, – музыке, которая, как нам кажется, не представляет чувства, а сама есть чувства. То же можно сказать о заклинаниях, скороговорках или стихах, в которых слова сами являются своим смыслом:
Бело золото, красно серебро
Окружают нас стройным теремом,
И разносится звонкий колокол
Всеми розами по околицам.
Многие в недоумении отворачиваются от абстрактных полотен и тем не менее с восхищением глядят на пейзажи, на которых изображены ничего не значащие облака и скалы. Тем самым эти люди бессознательно отдают должное естественной бессмыслице. Ведь художественные формы волнуют нас не потому, что в них мы видим подобие известных нам вещей или приближение к геометрическим фигурам. Облака прекрасны даже тогда, когда не напоминают нам горы и города в небесах. Шум водопадов и журчание ручьев нравятся нам не потому, что в них мы находим подобие человеческой речи; хаотически разбросанные звезды волнуют нас не тем, что мы можем проследить в них очертания созвездий; и никакая симметрия и другие математические интерпретации не могут объяснить, почему нам так нравятся рисунки в пене, прожилки в камне и хитросплетения черных ветвей на фоне зимнего неба.
Глядя на природу таким образом, мы видам, что она есть танец без конечной цели, кроме тех фигур, которые сейчас исполняются, – фигур, которые продиктованы не каким-то глобальным законом, а взаимосвязью всего и вся в настоящем. Даже города теряют свою упорядоченность и практичность и становятся пульсирующими средоточиями артерий, которые растянуты по поверхности земли, всасывают маленькие частицы утром и изрыгают их вечером. Среди иллюзии пространства и времени, танец и экстатический ритм процесса теряются, а вместо них мы видим только бешеное преследование и преодоление препятствий. Но постигнув тщетность преследования, ум успокаивается и замечает вневременный ритм процесса, который достигает своей цели в каждый конкретный момент.
Бывают случаи, когда это видение мира охватывает нас внезапно, после того как ум стал восприимчивым бессознательно. Это напоминает мотивы сказок: герой обнаруживает в знакомой стене прежде не замеченную дверь, которая ведет в волшебный сад, или же путник находит расселину в скале, протиснувшись в которую он оказывается среди россыпей драгоценных камней. Но вернувшись на это место позже, он ищет и не находит его. Что-то подобное приключилось со мной однажды под вечер, когда мой сад оказался внезапно преображенным – всего лишь на полчаса, перед самым началом сумерок. Небо было прозрачным, его лазурь – спокойной и ясной, однако голубой цвет был более насыщен, чем в солнечный полдень.
Листья деревьев и кустов были столь зелеными, что казались подсвеченными изнутри. Густые заросли больше не казались бесформенными скоплениями листьев, а представляли собой необычайно сложные и изысканные арабески. Ветви на фоне неба выглядели как филигранная бахрома и кружева – но в них не было ничего искусственного, а лишь прослеживались гармония и ритм. Цветы – мне больше всего запомнились фуксии – внезапно превратились в изящные изваяния из слоновой кости и кораллов.
Сменяя друг друга слишком быстро, впечатления беспокойного, ищущего ума тускнеют. Поэтому их ритмическая ясность остается незамеченной, а цвета кажутся мрачными, лишенными внутреннего света. Более того, в таком состоянии практически ничто не кажется лишним, несущественным; каждая деталь идеально упорядочена – но не так, как на параде, а в совершенном переплетении с остальными деталями. Возможно, здесь кроется объяснение бессмысленного с логической точки зрения чувства, что все «правильно» и пребывает в гармонии с Дао в своем первозданном виде. Это в равной мере относится и к тому, что может показаться хаотическим, например мусор в сточной канаве, опрокинутая на ковер пепельница или… голова дохлой кошки.
Живя в западном мире, мы привыкли считать, что для творческих действий необходимо испытывать неудовлетворенность или беспокойство. Нам кажется, что, если бы мы чувствовали себя полностью удовлетворенными в каждое мгновение и не пытались ничего достичь, мы бы одели большую мексиканскую шляпу и, расположившись на солнышке, потягивали бы через соломинку прохладительные напитки. Даже если бы все было именно так, как я описал, возможно, это было бы не так уж плохо. Ведь в нашем обществе так много суеты, что некоторое количество вольготности и покоя ему явно не повредило бы. Между тем мы едва ли отдаем себе отчет в том, что действия, совершенные под воздействием чувства недостаточности, являются творческими лишь в ограниченном смысле. Их источником есть тщетность, а не насыщенность, жажда, а не сила. Так, когда наша любовь к другим основывается на взаимной необходимости, она становится удушающей – своеобразным вампиризмом, о котором мы очень красноречиво говорим: «Я люблю тебя так сильно, что могу тебя съесть!» Именно вследствие такого отношения родительская забота бывает хуже равнодушия, а брачные узы порой становятся веревкой с петлей на конце.
Современные теологи использовали греческие слова эрос и агапе, чтобы отличать алчную любовь от любви милосердной, приписывая последнюю одному только Богу. Падшая природа человека может только жаждать, говорят они, потому что грех – это выпадение из полноты бытия в состояние немилости. Когда человеку недостает божественной милости, он может действовать, только повинуясь необходимости, и это представление продолжает существовать на уровне здравого смысла даже тогда, когда люди больше не верят в Бога, творящего мир из своей бесконечной полноты. Более того, поскольку христианство утверждает, что природа пала вместе с Адамом, её главой, мы предполагаем, что вся природа может действовать, руководствуясь одной лишь жаждой. Между тем идея о том, что природа приводится в движение необходимостью, прекрасно согласуется с механицизмом, который пришел на смену теизму.
Но если грехопадение было потерей осознания единства с природой, мнение о том, что природа приводится в действие голодом и страхом, является проекцией этой концепции на мир нашего собственного состояния. И если мы отказались от ньютоновской механики в физическом мире, мы должны сделать то же в сфере психологии и морали. Поскольку атомы не являются бильярдными шарами, отскакивающими от других таких же бильярдных шаров, наши действия не являются реакциями, которые случаются под воздействием импульсов и побуждений. Действия кажутся нам вынужденными в той мере, в которой действующий отождествляется с какой-то одной частью всей ситуации – например, с волей, отличной от желаний, или с умом, отличным от тела.
Однако если человек отождествляет себя со своими желаниями и с телом, ему не будет казаться, что они на него действуют. Если он сможет пойти дальше и увидеть, что он является не просто телом, но целостностью организм-и-окружение, он не будет чувствовать, что его побуждает к действию окружение. Нам кажется, что причина контролирует следствие до тех пор, пока они различны. Однако когда причина и следствие рассматриваются как две составные части одного и того же действия, не имеет смысла говорить о том, что человек действует сам или подчиняется другим. Таким образом, чувство обусловленности наших действий возникает, когда мы считаем «я» центром сознания, отличным от окружения.
Вопрос «Почему человек действует?» имеет смысл только до тех пор, пока мотивация необходима для объяснения причины действия. Но если мир состоит из процессов, а не из инертного вещества, приписывать действиям внешние причины абсурдно. На самом деле мы не можемне действовать, однако это не значит, что мы должны действовать, поскольку подобное утверждение подразумевает наличие отдельного, пассивного источника инициативы, который приводится в движение со стороны. Смысл в том, что, независимо от наличия или отсутствия мотивации, мы суть действие. Когда нам кажется, что наши действия мотивированы, они отражают алчущую пустоту эго, пассивность наблюдателя, а не живость действия. Но когда человек не стремится ни к чему вне себя, он есть действие, выражающее свою собственную полноту, – независимо от того, изнывает он от горя или же танцует от радости.
В индийской философии слово карма обозначает мотивируемое действие, а также причину и следствие. При этом говорится, что карма – это действие, которое держит человека в рабстве. Стремясь к цели, оно не достигает ее, а лишь продлевает необходимость дальнейших целей. Решая проблемы, оно создает множество других проблем. Карма есть значимое действие, потому что, подобно знаку, оно указывает за пределы себя – на мотив, из которого оно возникло, или на конечную цель, к которой оно стремится. Карма – это действие, порождающее необходимость дальнейшего действия. С другой стороны, сахаджа – это спонтанное, немотивированное действие дживан-мукты, освобожденного, который движется и действует подобно природе – журчит, как ручей, трепещет, как деревья на ветру, блуждает, как облака, или просто существует, как камни на песке. Жизни освобожденного присуще качество, которое японцы называют фура-фура – лопотание одежды на ветру или движение пустой тыквы в горном ручье. «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин. 3, 8). Дух тоже не знает.
Отсюда часто встречающееся сравнение мудреца с сумасшедшим, поскольку каждый из них действует по-своему бессмысленно, не принимая практических ценностей общества.
Его врата закрыты, и никто не знает его. Его внутренняя жизнь окутана тайной, и он не следует общепринятым добродетелям. С тыквой за плечами он приходит на рынок; с посохом в руке он возвращается домой. Даже в винной лавке и среди торговцев рыбой все превращаются в будд.
Нищий и босой, он идет по пыльному пути этого мира.
Испачканный грязью и пеплом, он широко улыбается.
Ему не нужны чудотворные силы богов,
Ведь по его велению на сухих деревьях распускаются цветы.[60]60
Ши Ню Toy, х. Комментарии к последней из «Десяти пастушеских картинок», которые иллюстрируют стадии постижения в дзэн-буддизме.
[Закрыть]
Бессмыслица сумасшедшего – это болтовня для его собственного развлечения, тогда как бессмыслица природы и мудреца говорит о постижении бесцельности мира и содержит ту же радость, что мимолетность и пустота. Если мы ищем смысл в прошлом, цепочка причин и следствий уводит нас в минувшие тысячелетия и исчезает там, как волны за кормой корабля. Если мы ищем смысл в будущем, он рассеивается, как луч прожектора, направленного в ночное небо. Если же мы пытаемся обнаружить его в настоящем, он мимолетен, как океанский прибой. Но когда остается только поиск и мы постигаем его подлинную суть, он внезапно превращается в горы и реки, в небо и звезды, которые самодостаточны, даже если никто в них ничего не ищет.
* * *
После всего, что было сказано вплоть до настоящего времени, может показаться, что наша философия природы полностью себя опровергла. Ведь если между человеком и природой нет реальных различий, получается, что естественное нечему противопоставить, потому что нет ничего искусственного. В «Этюде о природе» Гёте говорит:
Самое неестественное также есть природа. Кто не видит ее везде, тот воистину не видит ее нигде… Даже сопротивляясь ее влиянию, человек подчиняется ей; он следует ей даже в том случае, когда стремится действовать против нee.
Если это верно, то, как может показаться, все, что мы до сих пор говорили о механистичности монотеистического Бога, а также о линейных и политических представлениях о мире, характерно для христианства, а также, до недавнего времени, для философии науки. Кроме того, может показаться, что бессмысленно предпочитать один способ восприятия другому и считать открытую внимательность, гуань, более естественной, чем напряжение фрагментарно мыслящего эго. Если даже самомнение современного человека и искусственность городской, индустриальной цивилизации не менее естественны, чем радужные краски на хвосте фазана, это означает, что в мире природы всему есть место. Как мы уже говорили, отклониться от Дао нет никакой возможности.
Однако это отношение отличается, например, от христианства или юриспруденции тем, что не проводит различие между человеком и природой. Не будем забывать также, что проведение различия столь же естественно, как и непроведение его. И христианство, и юриспруденция в некотором смысле «правильны», если под правильностью мы будем понимать естественность в том смысле, в котором демократ говорит стороннику тоталитаризма: «Хотя я полностью не согласен с тобой, я буду сражаться насмерть, отстаивая твое право на это мнение». В случае идеальной демократии свобода позволяет голосовать за ограничение свободы. Точно так же участие человека в природе подразумевает право и свободу чувствовать, что он выше природы. Подобно тому как в демократическом обществе люди могут свободно отказаться от свободы, человек может вполне естественно стать неестественным. Тоталитарист будет утверждать, что свобода упразднена, но демократ скажет ему, что это верно только в той мере, в которой тот сейчас свободно об этом говорит. Даже в условиях тирании «народ получает правительство, которое он заслуживает», потому что он всегда обладает силой и свободой, которые необходимы для того, чтобы управлять собой. Точно так же наша философия может с полным правом утверждать, что верить в оторванность от природы для человека столь же естественно, как и не соглашаться с этим.
Но даже в том случае, когда народ свободно голосует за ограничение свободы, он не должен забывать, что свобода при этом всегда присутствует как фон и возможность. На самом деле люди никогда не теряют до конца свободы и чувства ответственности за свои действия. По аналогии с этим, окончательный смысл нашей философии в том, что никто не может полностью утратить естественность, а может лишь на время забыть о ней. Об этом можно сказать и по-другому. Естественность – это самоопределяющаяся спонтанность (цзы-жань), которая сохраняется даже тогда, когда мы мнительны и неестественны. Однако этой спонтанностью наделено не ограничение под названием «эго», а естественный человек – целостность организм-и-окружение.
Таким образом, если политическое здоровье состоит в понимании, что люди сами свободно принимают на себя юридические ограничения, то философское здоровье предполагает осознание, что наше подлинное «я» – это естественный человек, спонтанное Дао, от которого невозможно отойти. С психологической точки зрения, это осознание есть принятие себя, которое, как и политическая свобода, лежит в основе каждой нашей мысли, чувства или действия – какими бы ограниченными они нам ни казались. Подобное принятие себя есть условие глубинной целостности, искренности и душевного равновесия, присутствие которых мудрец чувствует при любых условиях. Итак, это осознание является глубинным внутренним согласием на то, чтобы в каждое мгновение быть тем, что мы есть, и чувствовать то, что мы чувствуем, – даже тогда, когда согласие еще не успело преобразить наших чувств!
То же самое осознание можно выразить словами, что «все мне позволительно», хотя и «не все полезно» (1 Кор. 6, 12), – но, возможно, в гораздо более широком смысле, чем имел в виду св. Павел. Грубо говоря, это осознание сводится к постижению того, что, чем бы мы ни были сейчас, именно этим в идеале мы сейчас и должны бьггь. В этом смысле дзэн-буддисты говорят: «Ваше обычное сознание есть Дао» – причем обычное сознание подразумевает здесь настоящее состояние сознания, каким бы оно ни было. Ведь просветление, или постижение гармонии с Дао, невозможно до тех пор, пока оно рассматривается как особое состояние, которого можно достичь и для которого существуют критерии проверки. Между тем просветление – это скорее свобода быть неудачником и вообще ничего не постичь.
Каким бы невероятным нам это ни казалось, самоотверженная, неморалистическая свобода всегда лежит в основе душевной и духовной целостности – при условии, конечно, что эта свобода не стремится к достижению цели. Между тем полное принятие себя подразумевает возможность искать, делать и чувствовать что угодно. Кажущаяся пассивность этого принятия является творческой, позволяя человеку быть целостным, добрым, плохим, безразличным или просто смущенным до глубины души. Чтобы действовать или расти творчески, мы должны начать оттуда, где мы находимся, однако мы не можем начать до тех пор, пока у нас «не все дома», пока мы терзаемся нереализованными возможностями и сожалениями. Когда мы недостаточно полно принимаем себя, мы никогда точно не знаем, к чему придем и где стоим. Отсутствие внутренней целостности не позволяет нам действовать искренне. Если мы глубоко не принимаем себя, наш образ мышления и действия, каждая наша попытка достичь чего-то в духовном или моральном отношении будет бессмысленной борьбой разделенного, неискреннего ума. Именно свобода лежит в основе самоограничений.
На Западе мы всегда теоретически соглашались с тем, что высокоморальное поведение является проявлением свободы. Однако мы никогда не допускали этой свободы, никогда не позволяли себе сполна быть собой, видеть, что, по существу, все наши приобретения и потери, достоинства и недостатки столь же естественны и совершенны, как вершины и долины горного массива. Отождествляя Бога или Абсолют с добром, которое исключает зло, мы не можем принять себя до конца. Нам всегда казалось, что неугодное Богу противоречит самому Бытию и поэтому ни при каких условиях не может быть принято. Поэтому мы всегда окружаем свободу такими весомыми поощрениями и наказаниями, что она перестает быть свободой, а становится подобием тоталитарного государства, в котором человек может голосовать против правительства, но при этом рискует оказаться в концлагере. Вместо полного принятия себя в основе наших мыслей и действий находится метафизическое беспокойство, страх перед тем, что в конечном итоге мы можем оступиться и совершить непоправимую ошибку.
Поэтому ортодоксальный католицизм и протестантизм определяют Абсолют в относительных понятиях добра и зла. Теологи желают сказать нам, что, если различия между добром и злом неверны во всех случаях, их нельзя считать важными или существенными. Однако, рассуждая таким образом, они могли бы заключить, что конечное и относительное тоже несущественны. Это заключение было бы очень странным для тех, кто уверен в реальности относительного мира, отличного от Бога и являющегося объектом его любви. Между тем неспособность отличить абсолютно значимое от относительно значимого, не считая при этом последнее незначительным, свидетельствует об очень примитивной системе ценностей.
Действительно, всегда существует опасность, что принятие себя сделает человека нечувствительным к моральным ценностям, однако свобода всегда сопряжена с риском. Опасения, что принятие себя сведет на нет этические ценности, необоснованны, потому что мы способны отличить верх от низа в любой точке земной поверхности, понимая при этом, что в более широком контексте – вдали от земли в открытом космосе – верха и низа не существует. Таким образом, принятие себя есть духовный и психологический эквивалент пространства – свободы, которая не уничтожает различий, а делает их возможными:
Емкость ума велика; она подобна пустоте пространства… Несравненное естество каждого человека по существу пусто и не обладает фиксированным характером. Таково подлинное небесное качество нашего естественного «я»… Пустота мирового пространства содержит в себе вещи любой формы и содержания – солнце, луну, звезды, горы и реки, великую землю со всеми ее ручейками, реками и водопадами, травы, деревья и девственные леса, святых и грешников, добро и зло… Все это пребывает в пустоте, и естество обычного человека пусто в таком же смысле.[61]61
Дань-цзин (ii) – трактат дзэнского мастера VIII века Хуэй-нэна.
[Закрыть]
Однако исцеляющая и освобождающая сила принятия себя кажется невероятной для нашего здравого смысла и вызывает благоговейный ужас даже у психотерапевта, который наблюдает ее действие снова и снова. Ведь именно эта сила освобождает больной ум от одержимости в стремлении быть чем-то отличным от него самого, возвращает ему целостность, делает его способным принять на себя ответственность. Однако подобное возникновение порядка из хаоса, космоса из пустоты, энергии из пассивности всегда казалось нам чудесным и неожиданным.
В обычных условиях мы не позволяем себе принять себя и поэтому прибегаем к стратегии, дающей нам эту свободу таким образом, что наша правая рука не знает, что делает левая. Так, мы можем принять себя косвенно – например, веря в милостивого Бога, который бесконечно любит нас и поэтому прощает нам все. При этом нам кажется, что полностью принимает нас он, а не мы сами. Или, быть может, мы позволяем себе принять себя, лишь пройдя через дисциплинарную мельницу – курс духовных препятствий, по окончании которого наша способность принимать себя усиливается за счет коллективного авторитета последователей этой освященной веками традиции.[62]62
На первых этапах знакомства с такой духовной традицией неофит приобретает навыки, умения или черты характера, которые впоследствии рассматриваются как признаки просветления. Между тем это всего лишь смешение свободы и успеха в овладении необычными навыками. Так, посвященный, который в ходе практики научился без содрогания выносить любую боль, может быть не способен вести хозяйство или доводить до конца начатое дело, как любой другой невротик. Его умение справляться с болью может означать всего-навсего, что он освоил простые приемы самогипноза или научился каким-то другим образом временно терять чувствительность.
[Закрыть] Таким образом человеку удается преодолеть страх перед свободой, который общество внушает ребенку с самого раннего детства. Ведь ребенка, не умеющего различать иерархии ценностей, вполне можно убедить в том, что дважды два будет пять, если сказать ему, что, с точки зрения высшей математики, дважды два не всегда равняется четырем.
Рост философского понимания, а по-простому – мудрости, подразумевает, что человек умеет различать уровни истинности и в то же время может видеть свою жизнь в ее связи с этими различными, более или менее универсальными уровнями. Однако при этом всегда существует уровень над уровнями, нефиксированная система отсчета, которая, хотя описать ее невозможно, тем не менее является спонтанным источником нашего бытия и свободы. Степень свободы и самодостаточности зависит от уровня, на котором мы рассматриваем свое «я» – источник и движущую силу наших поступков. Чем более поверхностно наше чувство «я», тем в большей мере ограничением кажется нам наше физическое существование. «И посему, – говорит Рейсбрук, – должно нам найти свою жизнь простершейся над бездонной пропастью», чтобы открыть тем самым, что наше подлинное естество – это не то, чем мы должны быть, а то, чем мы свободны быть. И когда мы в конце концов постигаем свою природу и видим, что действовать против нее невозможно, мы обретаем покой в движении.