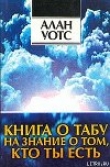Текст книги "Природа, мужчина и женщина. Путь освобождения."
Автор книги: Алан Уотс
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Обычным академическим способом изучения сексуальных проявлений даосской философии природы могло бы быть изучение эротических обычаев и литературы Дальнего Востока. Однако вместо того, чтобы предпринимать это сложное исследование, мы можем ограничиться простым и практическим компромиссом: понять основные принципы этой философии и применить их к проблеме непосредственно. Не исключено, что такой подход к проблеме лучше, поскольку на Дальнем Востоке влияние даосской философии всегда было косвенным. Подлинные последователи даосской философии, которых следует отличать от священнослужителей даосской религии, имеющей очень мало общего с этой философией, всегда были весьма немногочисленны. До наших дней действительно дошли документы о даосских сексуальных практиках, однако они больше напоминают психофизические теории даосской религии, чем философию Лао-цзы и Чжуан-цзы. Сексуальные приложения даосской философии должны соответствовать общему тону сочинений Лао-цзы и Чжуан-цзы. Более того, в культурах Дальнего Востока даже среди простых людей сексуальная любовь не столь проблематична, как у нас. Очевидно, даосское осознание естественности человеческого существования, пусть косвенно, все же повлияло на повседневную жизнь людей Востока.
Другие азиатские традиции за пределами даосизма могут кое-что добавить к нашему исследованию. Различные течения индийской философии, которые, по всей вероятности, в прошлом были более популярны, чем теперь, дают нам систему символов, которая прекрасно интерпретирована в работах Хейнрика Зиммера. Что же касается краеугольной проблемы постижения единства природы, нигде мы не найдем ничего более прямого, простого и конкретного, чем дзэн-буддизм – образ жизни, так сильно повлиявший на японскую философию природы.
Трагедия в том, что, хотя эти великие человеческие прозрения мудрецов Дальнего Востока удачно «отвечают на все наши вопросы», азиатские люди ассоциируются у нас с воинственными националистами, представляющими для нас политическую угрозу. К несчастью, последствия этого отношения намного более серьезны, чем мы можем себе представить. Но имеет ли смысл указывать на то, что эти люди переняли свои воззрения у нас и что Ганди, Неру, Насер, Мао Цзэдун и другие лидеры азиатских националистических движений – по мировоззрению западные люди? Почти каждый из них является продуктом образовательной системы, введенной западным колониализмом, а их политические философии и амбиции очень далеки от принципов управления государством, изложенных в трактате «Дао дэ цзин».
«Восточная мудрость» все меньше и меньше ассоциируется у нас с современной Азией, с географическими и политическими границами мира, которые представлены сейчас такими терминами, как Восток, Запад, Европа и Америка. Представление о Востоке с каждым днем становится все менее географическим и все более внутренним. Слово «Восток» обозначает вечную философию, которая была достоянием традиционных древних культур во всех уголках мира. Ведь духовный контраст между Востоком и Западом – это на самом деле контраст между двумя типами обществ и двумя представлениями об общественном устройстве, которые в действительности никогда не соответствовали Европе и Азии как географическим единицам.
Мы можем назвать эти два типа культур прогрессивной или исторической, с одной стороны, и традиционной или не исторической, с другой. Философия первой культуры предполагает, что человеческое общество эволюционирует, а политическое государство – это биологический организм, назначение которого в том, чтобы расти и расширяться. Обращаясь к документам прошлого, прогрессивное общество порождает представление об истории, то есть о последовательности значимых событий, которые развиваются в направлении цели в будущем. Изобретатели такой истории забывают, что в своем выборе «важных» исторических событий руководствуются субъективными предпочтениями – и прежде всего необходимостью оправдывать свои политические амбиции. История является силой в руках политиков, которые создают и перестраивают ее в соответствии со своими нуждами.
С другой стороны, традиционные общества неисторичны в том, что их представители не считают себя частью линейного движения к будущим свершениям. Их летописи – это не «истории», а просто хроники, которые выделяют в исторических событиях структуры, отличные от циклов, напоминающих круговорот времен года. Их политическая философия поддерживает природное равновесие, от которого зависит человеческое общество и которое выражается в массовых ритуальных действах, посвященных вневременному соответствию между устройством общества и вселенной.
Таким образом, интересы традиционного общества сосредоточены не в будущем, а в настоящем, в «неподвижной точке вращающихся миров». Все продукты традиционного общества производятся ради непосредственных материальных достоинств самих вещей, а не ради абстрактных денежных выгод или ради таких чисто психологических факторов, как престиж или успех. Поэтому в традиционном обществе все делается неспешно и основательно. Производимые в нем товары – это не просто соединенные вместе блестящие поверхности, скрывающие халтурные упрощения.
С другой стороны, прогрессивный рабочий всегда одним глазом смотрит на часы – и думает об игре, которая начнется, когда работа закончится, или о праздности, которая воцарится в обществе по завершении пятилетнего плана. Поэтому он стремится поскорее доделать свои изделия, которые по этой причине не радуют того, кто их купил, чтобы поиграть в часы досуга. Подобно испорченному ребенку, он быстро устает от своих игрушек, – а что, как не игрушки для взрослых производят наши предприятия?[7]7
«Кадиллак» или «тандербирд» нашего времени напоминают скорее игрушечный космический корабль, чем удобное средство передвижения.
[Закрыть] Поэтому его может заставить работать только обещание все более сенсационных погремушек в будущем.
У нас нет никаких оснований считать прогрессивные культуры материалистическими, – если материалистами называть людей, которые любят материальные вещи. Ни один современный город не наводит на мысль, что его жители любят материальное. Более вероятно, что прогрессивный человек ненавидит материю и делает все возможное, чтобы сломить ее сопротивление, преодолеть ее пространственные и временные ограничения. Его мир все больше состоит из конечных пунктов и целей, расстояния и время передвижения между которыми устраняются с помощью перелетов на реактивном самолете. В результате достижение цели доставляет очень мало материального удовлетворения, поскольку жизнь, построенная из целей и конечных пунктов напоминает попытки насытиться, съедая только кончики банана. С другой стороны, материальная реальность банана – это все, что лежит между его двумя концами; это путешествие, которое перелет на реактивном самолете устраняет. Более того, когда время и пространство между двумя конечными пунктами отсутствует, все конечные пункты начинают все больше напоминать друг друга. Чем быстрее мы перемещаемся с Гавайев в Японию, а потом оттуда в Сицилию, тем быстрее все эти места оказываются, как выражаются туристы, «испорченными». Это значит, что они все больше напоминают Лос-Анджелес, Чикаго и Лондон.
Опять-таки, мы видим, что цели прогрессивного человека психологические и духовные: это ощущения, впечатления и удовольствия, на пути к которым материальная реальность оказывается препятствием. Ненависть к материальному опирается на различие между эго и природой. В сексуальной сфере целью является не столько конкретная личность женщины, сколько оргазм, вызываемый не всей целостностью женщины, а совокупностью стилизованных женских губ, грудей и ягодиц – то есть не конкретной женщиной, ее абстрактной идеей. Де Ружмо в книге «Любовь в западном мире»[8]8
De Rougemont II]. Ниже я буду полемизировать с историческими представлениями, изложенными в этой интересной книге, автор которой приписал традиционному христианству современное христианское учение о любви. Это учение было развито христианством только совсем недавно и скорее всего привело бы в ужас отцов церкви.
[Закрыть] ясно показал, что подобная любовь – это любовь не к женщине, а к влюбленности в женщину. Подобная любовь выражает дуалистическое и отстраненное отношение к жизни людей, ненавидящих материю. Однако не менее ограниченным и противоестественным является представление о любви, единственной целью которой есть продолжение рода. Ведь в результате такого продолжения рода появляются новые души, привязанные к телу, которым они не могут наслаждаться. Здесь мы снова видим преемственность западного отношения в разные времена – от исторического христианства до современного «язычества».
Эта преемственность объясняется тем, что, в некотором смысле, и Бог, и Дьявол исповедуют одну и ту же философию, в которой дух противостоит природе. Более того, создатели этого мировоззрения не осознавали взаимозависимости, коррелятивности противоположностей, в результате чего они не постигли внутреннего единства духа и природы, не разглядели тайного соглашения между Богом и Дьяволом воспроизводить друг друга. Они не заметили этого даже тогда, когда со временем образ Бога стал зловещим, а образ Дьявола божественным. Ведь поскольку образ Бога строился из одного лишь добра и могущества, он стал невыносимо чудовищным, тогда как при создании образа Дьявола не было жестких императивов, и поэтому творческое воображение получило здесь простор и могло освободиться от подавленного чувственного содержания. Отсюда великая притягательность сатанизма и очарование злом.
Если взаимозависимость противоположностей не постигнута, мы мечтаем о состоянии, в котором жизнь существует без смерти, добро без зла, удовольствие без страдания, а свет без тьмы. Нам кажется, что субъект или душа могут быть освобождены от материальных ограничений объекта или тела. Таким образом, христианское учение о воскресении тела обычно предполагает, что тело настолько преображено духом, что это уже не тело в обычном смысле. Оно скорее напоминает фантазию, в которой отсутствуют все земные качества: вес, пол, возраст. Представление о том, что добро можно отделить от зла, а жизнь может быть навсегда спасена от смерти – идея-фикс прогрессивной и исторической культур. Со времени их появления человечество сделало большой шаг вперед; за несколько последних столетий условия человеческой жизни радикально улучшились и продолжают улучшаться, хотя до этого в течение тысячелетий они оставались практически неизменными.
Однако история не просто сделала неожиданный скачок вперед; с появлением прогрессивных культур возникло само представление об истории. Сторонники исторического развития могут, кажется, поздравить себя с тем, что им удалось перейти от повторяющихся циклов к прямой линии, от статического к динамическому и «развивающемуся» мировому порядку – упуская из виду, что движение по прямой может быть всего лишь движением в замкнутом круге. Действительно, мир, в котором человек может легко перемещаться между местами, не достойными того, чтобы в них находиться, и производит пищу, не утоляющую голода, представляет собой, если остановиться на этих самых очевидных проявлениях, замкнутый круг. Смысл пребывания в замкнутом кругу в том, что человек убегает от полюса, который неотделим от своей противоположности. Однако до тех пор пока это осознанно, темп преследования постоянно нарастает. Внезапный взрыв истории в последние пятьсот лет может оказаться более похожим на раковую опухоль, а не на здоровую часть растущего организма.
Может показаться, что вышеизложенное предваряет призывы к революции, однако это не так. Ничто не может быть дальше от наших намерений, чем отказ от прогрессивной культуры и возврат к традиционной. Слабое место любого романтизма с его призывами «Назад, к природе!» в том, что он сам по себе является прогрессивным, – он возлагает надежды на будущее, которое должно быть лучше, чем настоящее. Но подобно тому, как эго не может ничего сделать, чтобы преодолеть свое изолированное состояние сознания, общество не может ничего сделать, чтобы спасти себя от напасти прогрессивного развития, поскольку оно сталкивается с тем же противоречием, что и индивид, имитирующий естественность. «Цель» традиционного общества не в будущем, а в настоящем. Оно заботится о материальном достатке, но не более того. Оно не стремится к психологическому удовлетворению, которое может доставить материальный достаток в будущем. Другими словами, оно не стремится к счастью.
Более того, мудрейшие представители таких обществ не ищут удовольствий даже в настоящем. Ведь если человек цепляется за мгновение, чтобы что-то взять от него, оно исчезает. Это объясняется тем, что получаемое нами удовольствие определяется нервами, а не мышцами. Нервы же принимают пассивно, тогда как мышцы берут все активно. Наслаждение – это всегда милость. Но может прийти только само по себе, спонтанно. Пытаться вынудить его означает почувствовать будущее до его наступления, найти психологический результат присутствия в настоящем, что замыкает и прекращает переживание. Однако очевидно, что человек, который пытается что-то получить от настоящего, чувствует себя отделенным от него. Он – субъект, тогда как настоящее – объект. Он не видит, что сам есть переживание и что его попытки получить что-то от переживания – это просто преследование самого себя.
Обычно мы говорим о самосознании как об осознании субъектом самого себя. Мы бы путались намного меньше, если бы сказали, что самосознание – это осознание самого себя «субъектом-объектом». Ведь знающий есть знание подобно тому, как две на первый взгляд различные стороны ленты Мёбиуса есть одно и то же. Развивая эту аналогию, мы можем сказать, что сознательное переживание является полем, которое, подобно ленте Мёбиуса, замыкается само на себя.
Таким образом, не я осознаю себя наряду с другими вещами, а все поле «я-осознаю-нечто» осознает самое себя.
Хотя проблема осознания настоящего будет более подробно рассмотрена ниже, здесь очень важно по крайней мере понять ее принцип, а значит, увидеть иллюзию попыток получить что-то от жизни в смысле хорошего, счастливого или приятного психологического состояния. Ведь смысл с точки зрения нашего эгоцентрического мышления не в том, что будет лучше, если мы вернемся к изначальному единству с природой. Смысл в том, что мы никогда не теряли этого единства, как бы живо мы ни воображали себе обратное. По аналогии, невозможно переживать будущее, не переживая настоящего. Однако попытки постичь это снова оказываются сродни попыткам почувствовать будущее. Логик может возразить, что это тавтология, из которой невозможно сделать вывод, – и будет прав. Мы ведь не спрашиваем у каждого переживания: «Ну и что дальше?», словно его единственная важность в том, к чему оно нас ведет. С таким же успехом мы должны постоянно останавливать танцора и спрашивать: «А вот сейчас куда ты собираешься перейти, и в чем конкретный смысл твоих движений?»
Естественно, в нашей жизни всегда есть место для комментариев, описаний природы и предсказания будущего течения событий. Однако мы должны знать, о чем мы говорим, – а для этого внутри мы должны опираться на тишину и созерцание, не задавая вопросов и не пытаясь переходить к выводам. Что ж, может, нам пора вернуться к ручью с галькой на дне и резвящимися среди солнечной ряби мальками – и понаблюдать?
Часть I. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Глава 1. УРБАНИЗМ И ЯЗЫЧЕСТВОКогда христиане впервые провели различие между собой и язычниками, слово «язычник» (pagan) означало «сельский житель». Первыми центрами христианства в Римской империи были великие города – Антиоф, Коринф, Эфесий, Александрия и сам Рим. Позже в течение столетий, когда христианство рождалось и распространялось по всей Империи, богатство римского купечества привлекало население в города, так что еще в 37 году до н. э. правительство императора Августа было обеспокоено упадком сельского хозяйства. Стихотворение Виргилия под названием «Георгики», написанное по указу имперских сановников, должно было восхвалять деревенскую жизнь:
O fortunatos nimium,
Sua si bona norint
Agricolas!
Блажен, воистину блажен
Знающий о том, как щедро земля
Воздает земледельцам!
Развитие христианства в городах в те времена, когда, как и сегодня, большие города были центрами экономического и культурного притяжения, сильно повлияло на основные черты этой религии. Поэтому христианство в целом имеет определенно урбанистический характер, и это верно не только в отношении римского католицизма, но и в отношении протестантизма, появившегося в крупных городах Западной Европы. Основным препятствием к распространению христианства на Западе в течение пятнадцати столетий было сопротивление крестьян, живших на лоне природы.
Возможно, лучше всего можно описать эту сторону христианства, ссылаясь на личные впечатления, которые, как мне кажется, не уникальны. Дело в том, что, сколько я себя помню, я чувствовал себя христианином только в помещении. Стоило мне выйти на улицу, стать под небом, как я чувствовал себя в полном отрыве от всего, что происходит к церкви, – в отрыве от богослужения и теологии. Это не значит, что я не любил находиться в церкви. Напротив, я провел большую часть своего отрочества на территории одного из самых прославленных соборов Европы и до сих пор замираю, как только припоминаю его великолепие. Романская и готическая архитектура, грегорианское пение, средневековое стекло и манускрипты, запах ладана и просто старого камня, ритуал мессы – все это завораживает меня, как ревностного католического романтика. Равно как я не могу о себе сказать, что равнодушен к глубине и великолепию христианской философии и теологии или что с ранних лет мне не привили горько-сладостную христианскую совесть. Однако все это находится в герметически закрытой камере или, лучше сказать, в святилище, куда свет голубого неба проникает лишь сквозь разноцветные рисунки мозаичного стекла.
Часто говорится, что эстетическая атмосфера христианства не отражает ее сути, потому что христианская жизнь не в том, что человек чувствует, а в том, что он выбирает вопреки своим чувствам. Мистик-созерцатель сказал бы, что знать Бога – совсем не то, что чувствовать его; знать Бога можно только любовью и волей в «облаке неведения», в темной ночи души, где чувства и ощущения находят лишь полное отсутствие Бога. Поэтому по мнению мистика тот, кто знает христианство с точки зрения эстетики, не знает его вообще.
Молитвенники в позолоте, шпили,
Колонны, ширмы, сумрачные хоры —
Все это я любил и, на коленях стоя,
Благодарил судьбу за щедрость.
Я наблюдал, как утром солнца свет
Проходит сквозь викторианское стекло,
И в пестром воздухе, молясь,
Я видел Бога… Время шло.
И вот теперь я погружен в туман
И знаю: Бога нет.[9]9
John Betjeman, «Before the Anaesthetic or A Real Fright», in Selected Poems. John Murray, London, 1948.
[Закрыть]
Однако отрицание мистиком чувств, каким бы мужественным и благородным оно ни казалось, это всего лишь еще одно проявление той же закономерности. Известный нам христианский мир не полон, в нем нет места чувствам и символам, олицетворяющим женщину. Чувства как путь познания вводят в заблуждение тех, кто не развил и не дисциплинировал их, кто не научился их использовать. Более того, если чувства недооцениваются или вообще отвергаются, их проявления характеризуют преобладающие умонастроения.
Таким образом, мне кажется, что имеется глубокое и довольно странное несоответствие между атмосферой христианства и естественным миром. Кажется невозможным согласовать Бога-Отца, Иисуса Христа, ангелов и святых с реальной вселенной, в которой я живу. Глядя на деревья и камни, на небо, облака и звезды, на море и на обнаженное человеческое тело, я нахожу себя в мире, в который не вписывается эта религия. Фактически, это подтверждается самим христианством, которое говорит: «Царство мое не от мира сего» (Ин. 18, 36). Но если Бог сотворил этот мир, почему мы чувствуем различие между Богом в церкви и миром под открытым небом? Никто никогда не спутает пейзаж Сэссю с полотном Констебля и современный шлягер с арией из оратории Генделя. Точно так же я не могу связать автора христианской религии с творцом физической вселенной. Это суждение ничего не говорит об относительных достоинствах этих двух произведений. Оно говорит лишь о том, что христианская церковь и мир созданы разными мастерами и поэтому плохо сочетаются.
Конечно, люди всегда догадывались об этом и пытались это объяснять. Считается, что красота христианства сверхъестественна, тогда как красота и стиль физического мира естественны. Самое близкое к сверхъестественной красоте в физическом мире—это красота человека и, в частности, человеческого ума. Для христианства характерна городская, а не сельская атмосфера, потому что в городе мы окружены порождениями ума. Более того, утверждается, что, хотя все существа под небом являются творениями Бога, человек и его произведения всегда более возвышенны, чем все остальное. В человеке в большей мере отразилась природа Бога, чем в солнце, луне и звездах, и поэтому то, что мы иногда называем искусственным, находится ближе к сверхъестественному, чем естественное.
Дальше в объяснении говорится, что легко любить красивые поверхности природы до тех пор, пока мы не столкнулись с ее бессердечностью, с жестокой борьбой за жизнь, лежащей в ее основе. Моральные и этические идеалы, которые облагораживают природу, впервые возникли у человека, – и это является еще одним аргументом в пользу того, что нигде в природе Бог не отразился так полно, как в человеке. Верно, что иногда мы ищем убежище от шумных улиц и городской суеты на лоне природы, но лишь потому, что худшее – это испорченное лучшее. Зло человека намного страшнее зла паука или акулы, но только потом, у что добро человека неизмеримо превосходит добро весеннего пейзажа. Достаточно вообразить себе, как холодно и одиноко чувствует себя человек, постоянно живущий среди возвышенных красот природы, с какой готовностью он променяет все это природное великолепие на одно человеческое лицо.
Усилить эту точку зрения можно рассуждением о том, что, каким бы разительным ни был контраст между христианством и природой, нигде вы не найдете религии, столь идеально соответствующей природе человека. По большому счету, натуралистические религии не дают человеку большей надежды, чем философское осознание неизбежности, благородное, но прискорбное принятие того, что природа находится за пределами добра и зла и что смерть – это необходимая составляющая жизни подобно тому, как невозможно испытывать боль, не зная, что такое удовольствие. Однако признание неизбежности смерти отрицает самое человеческое в человеке: его детскую надежду на то, что в один прекрасный день глубочайшие чаяния его сердца осуществятся. Много ли найдется гордых и бесчувственных людей, которые не обрадовались бы, если бы, по мановению волшебной палочки, эти сокровенные надежды осуществились? Если бы узнали, что после смерти нас ждет вечная жизнь? Если бы узнали, что снова встретятся и будут жить вместе с людьми, которых любили? Если бы им предложили пребывать в вековечном единении с Богом и знать блаженство, которое неизмеримо превосходит все радости, когда– либо испытанные нами, – включая радость видения цветов и форм, которые мы так высоко ценим на земле?
Таким образом, говорят сторонники христианства, эта религия воскрешает в нас надежду, отрицаемую мудростью мира, и поэтому можно сказать, что это единственная по существу радостная религия. Ведь одно лишь христианство, невзирая ни на что, смело делает ставку на положение вещей, на которое мы больше всего надеемся, побуждая человека верить в то, что его природа в своих самых человеческих проявлениях сделана по образу и подобию первичной реальности, Бога… Причем, следует добавить, что, даже если мы проиграем эту игру, мы никогда не будем знать, что мы потеряли.
Возможно, это нельзя назвать самой проработанной версией окончательного идеала, в которому стремится христианство. Однако здесь мы имеем хорошее приближение к нему. Ведь обсуждая отношение христианства к природе, я пока не обращаюсь к глубинным истокам христианской традиции. Я пытаюсь представить здесь отношение христианства в том виде, каким его знают большинство разумных людей, потому что именно в этом виде оно было движущей силой западной культуры.
Читая эти страницы, многие христиане, наверное, будут протестовать, утверждая, что они понимают отдельные аспекты христианства совсем не так. Они могут также сказать, что картина, нарисованная мной, несовершенна с теологической точки зрения. Однако я обнаружил, что когда христианские теологи вдаются в тонкости, обращаясь к мистицизму, – особенно если удается неформально построить разговор и спросить у них, что они на самом деле имеют в виду, – провести различие между их точками зрения и, скажем, ведантой практически невозможно.
Однако здесь мы обсуждаем черты, которые делают христианство уникальным, ведь большинство разумных, неравнодушных к своей религии христиан утверждают, что их религия уникальна, – даже если они никогда глубоко не изучали другие духовные традиции. Здесь мы обсуждаем прежде всего атмосферу и тип чувств, пробуждаемых христианством и оказывающих столь существенное влияние на культуру. Притягательная сила этих чувств столь велика, что на практике верующие испытывают их влияние даже в том случае, когда их интеллектуальное понимание веры очень поверхностно. Между тем христианство взывает к очень сильным чувствам – любви человека к ему подобным, глубинной ностальгии по дому и по близким людям. К этому добавляется очарование героизмом, призывы верить в окончательную победу над злом и страданием. Когда не-христианин сталкивается с такими чувствами, ему может показаться, что он чего-то не понимает в жизни, играя роль скелета на пиршестве.
Однако христианские идеалы кажутся людям убедительными, потому что глубоко в своем сердце человек действительно чувствует себя оторванным от природы, стремится к радости и избегает страданий и тоски. Ницше говорил в «Заратустре»:
Все радости жаждут вечности,
Глубокой, великой вечности.
Однако утверждать, что такие настроения являются универсальными для природы и чувств человека, означает быть сторонником довольно поверхностного самосознания и путать прививаемое в ходе общественного воспитания с тем, что человек чувствует абсолютно и неизбежно. Чем глубже человек познает себя, чем менее четко он определяет свою природу и границы своих чувств, тем больше он убеждается, что может чувствовать и осознавать неожиданным образом. Это еще более верно, когда он начинает исследовать свои отрицательные эмоции, глубоко вживается в чувство покинутости, в тоску, горе, депрессию и страх, – не пытаясь их избежать.
Во многих так называемых примитивных культурах каждый представитель племени должен пройти своеобразную инициацию во взрослую жизнь, проводя длительные промежутки времени в одиночестве в горах или лесах. Предполагается, что при этом он приобщается к одиночеству и дикой природе, с тем чтобы понять, кто он такой. Это открытие невозможно сделать, когда он находится в обществе, которое постоянно говорит ему, кто он и что он должен делать. Человек может обнаружить, например, что чувство покинутости – это всего лишь скрытый страх перед неизвестным в нем самом, а пугающие аспекты природы—всего лишь проекция на окружающий мир его собственного страха выйти за пределы стереотипов поведения. Есть многочисленные подтверждения тому, что человек, преодолевший барьер одиночества, навсегда утрачивает чувство изолированности, которое сменяется переживанием единства со вселенной. Можно называть это «природным мистицизмом» или «пантеизмом», однако не следует забывать, что такого рода чувства гораздо лучше соответствуют вселенной взаимозависимых объектов и отношений, чем миру, который построен из объектов, как из кирпичей.
Чем глубже мы понимаем переливы наших чувств, тем яснее мы постигаем их амбивалентность – странную взаимодополняемость радости и грусти, любви и ненависти, смирения и гордости, восторженности и подавленности. Мы обнаруживаем, что наши чувства являются не фиксированными, плохо связанными друг с другом состояниями, а быстро или медленно меняющимися процессами. С этой точки зрения вечная радость, например, будет столь же бессмысленна, как представление о маятнике, который может колебаться только вправо. Другими словами, именно потому, что оно статично, перманентное чувство – это не чувство. Таким образом, вечное блаженство – это всего лишь словесная абстракция, которую невозможно воображать, чувствовать, даже пожелать. Такие идеи могут серьезно рассматриваться лишь теми, кто не до конца познал природу своих чувств, реалии человеческого естества, которое они считают образом и подобием Бога.
Здесь мы видим причины, почему христианство, каким мы его знаем, столь разительно контрастирует с естественной вселенной. Христианство в значительной степени есть совокупность идей и представлений, которые были сведены воедино без учета их несоответствия миру природы. Верно, что в математике и физике имеются чисто теоретические построения и идеи, для которых у нас нет чувственных образов, – например, искривленное пространство или квант света. Однако в физике по крайней мере эти идеи соотносятся с физическим миром; их можно проверить в ходе эксперимента. Более того, физик не утверждает, что его идеи обязательно представляют конкретную реальность. Он смотрит на них как на инструменты, подобные линейке, с помощью которых можно измерять окружающую реальность. Таким образом, для физика абстракции – это полезное изобретение, а не часть мира.
Может, основные идеи христианства также подобны творческим изобретениям, как сами города, в которых они возникли? Это, разумеется, верно в отношении любой религии или философии, – если ее можно свести к совокупности идей, не подтверждаемых непосредственными переживаниями. Однако в этом отношении христианство сильно отличается от таких традиций, как, скажем, буддизм или веданта. В последних идеи играют второстепенную роль, потому что в центре находится неизреченное переживание – реальное, невербальное постижение, не являющееся идеей. Между тем в христианстве основной упор делается на веру, а не на переживание. При этом большое внимание уделяется правильной формулировке догмы, учения или ритуала. В самом начале своей истории христианство отвергло гносис, прямое переживание Бога, в пользу пистиса, волевого принятия откровения о Боге.
Поэтому дух отличается от природы как абстрактное от конкретного, а духовные сущности отождествляются с умом – с миром слов и абстрактных символов, – которые рассматриваются не как описание конкретного мира, а как его основа. «В начале было Слово». Сын Божий – это Божественная Идея, в соответствии с которой сделана вселенная. Таким образом, сфера абстракций не просто существует независимо. Она получает статус более фундаментальной реальности, чем реальность невербальной природы. Не идеи представляют природу, а природа представляет идеи, воплощенные в бренной материальной субстанции. Поэтому то, что невозможно и немыслимо в природе, оказывается возможным в мире идей. Положительное здесь может быть навсегда отделено от своего дополнения, отрицательного, а радость от своей противоположности, печали. Одним словом, чисто словесная возможность рассматривается здесь как нечто более реальное, чем физическая реальность. Нетрудно видеть, что таким образом проявляет себя мысль, убегающая от себя, теряющая над собой контроль и защищающая себя от обвинения в бессмысленности утверждением, что ее реальность первична, тогда как природа есть лишь неудачная копия этой реальности.