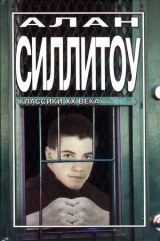
Текст книги "Бунтари и бродяги"
Автор книги: Алан Силлитоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
«Он вполне сможет стать профессиональным бегуном после того, как выйдет на свободу», – и сразу, как только он произнес это и как только смысл его слов дошел до моих ушей, я подумал о том, что такое бывает на самом деле: что можно бегать за деньги, трусить по дороге по шиллингу за каждый вдох-выдох, до изнеможения, чтобы уйти на пенсию в преклонном возрасте тридцати двух лет, когда легкие станут похожи на кружевные занавески, сердце – на пробитый футбольный мяч, а ноги со вздувшимися венами – на стручки гороха. Но зато у меня к тому времени были бы и жена, и машина, и ежедневник с расписанием часов приема, и милашка секретарша, которая отвечала бы на мешки писем от поклонниц, окружающих меня толпой, лишь стоило бы мне только отправиться в Вулворф за пачкой лезвий или просто попить чаю в кафе. Конечно, о таком будущем надо бы всерьез подумать. И начальник колонии, естественно, понимал это, когда сказал, повернувшись ко мне, как будто со мной следовало посоветоваться: «Что ты об этом думаешь, сынок?»
На меня уставился целый ряд пузатых пучеглазых типов, которые открыли свои рты с золотыми зубами и начали толкать речи, – поэтому мне пришлось дать им тот ответ, который они ожидали, ведь я твердо решил приберечь свой козырь на потом: «Все будет отлично, сэр».
«Замечательный мальчик. От отлично держится и верно мыслит. Все просто великолепно.»
«Хорошо, – сказал надзиратель. – Если ты для нас сегодня завоюешь этот кубок, я сделаю для тебя все, что будет в моих силах. Я тебя натренирую так, что на воле ты победишь любого бегуна.»
И я представил картину: я бегу и побеждаю всех на свете, оставляя их позади себя… И вот уже я бегу в одиночестве по охотничьим полям, разгоняюсь еще сильнее, когда оказываюсь средь прибрежной гальки и зарослей тростника, и вдруг слышу: ПАХ, ПАХ – это коп выстрелил в меня, спрятавшись за деревом, и пули, которые летят быстрее любого бегуна, вонзаются в мою шею. И я падаю, прервав свой быстрый бег.
Эти типы надеялись, что я изреку что-нибудь еще. «Спасибо, господа», – сказал я.
Потом мне сказали, чтобы я спустился на беговую дорожку, потому что соревнования должны были вот-вот начаться, и оба парня из Гантхорпа уже стояли на старте и были готовы помчаться вперед как два белых кенгуру. Спортивный стадион выглядел отлично: большие навесы вокруг, развевающиеся флаги и зрительские места для целых семей, которые были еще пусты, потому что папаши и мамаши не знали, что такое открытие соревнований. Спортсмены проходили отборочные соревнования в беге на сто ярдов, дамы и господа важно прохаживались от палатки к палатке, играл духовой оркестр исправительной колонии. На верхних рядах стадиона сидели парни из Хакнелла в коричневых жакетах, наши – в серых спортивных куртках, и парни из Гантхорпа в рубашках с закатанными рукавами. Синее небо сияло в солнечных лучах, стояла отличная погода и все это представление было чем-то похоже на фильм «Айвенго», который мы смотрели несколько дней назад.
«Иди сюда, Смит, – крикнул мне тренер, – ты ведь не хочешь опоздать на соревнования, не так ли? Хотя я уверен, что даже в этом случае ты их всех обгонишь».
Остальные одобрительно усмехнулись над его словами, но я не придал этому значения и стал между Гантхорпом и одним из парней из Эйлешема, опустился на колено и сорвал несколько травинок, чтобы пожевать их во время бега. Это были большие бега для тех, кто сидел на трибунах под развевающимися государственными флагами, для начальника колонии, который ждал с нетерпением, но я только надеялся, что он и вся эта остальная шайка сделали на меня ставки, сто к одному, что я выиграю, чтобы они выложили из карманов все свои денежки, чтобы позанимали под зарплату на пять лет вперед: чем больше они поставят, тем большую радость мне это доставит. Ведь они были уверены на все сто, я что горю желанием получить славный титул чемпиона и готов с улыбкой умереть за это. Мое колено упирается в холодную землю, и краем глаза я вижу, как Роуч поднял руку. Парень из Гантхорпа дернулся прежде, чем прозвучал сигнальный выстрел; кто-то с трибун закричал раньше времени; парень из Медвея наклонился вперед; затем пистолет выстрелил и я бросился вперед.
Сперва мы обежали раз вокруг поля, а потом полмили вдоль аллеи из вязов. По пути мы слышали приветственные крики, и я почувствовал, что вырываюсь вперед, когда мы выбежали за ворота и побежали по тропинке, – хотя меня это мало интересовало. Нам на пути, за все эти пять миль, встречались побеленные, сверкающие как снег на солнце воротные столбы, стволы деревьев, турникеты, камни. Через каждые полмили вдоль нашего пути стоял мальчишка с бутылью воды и аптечкой на случай, если кому-то из бегунов станет плохо и он упадет в обморок.
После первого турникета, я, не прилагая особых усилий, опередил всех бегунов, кроме одного; и, если хотите получить бесплатно хороший совет, как победить в состязаниях в беге, то слушайте: никогда не спешите и никогда не давайте вашим соперникам понять, что вы спешите, даже если это и так. Вы сможете победить только в том случае, если остальные не учуют, что вы бежите изо всех сил. Но если вы дадите нескольким бегунам опередить вас в начале, то сможете сделать хороший рывок в конце, с помощью которого вы обгоните всех, поскольку сразу не растратили силы. Я бежал размеренно, не спеша и так плавно, что мне вскоре показалось, что я не бегу вовсе. Я едва ощущал, как передвигаются мои ноги, как ритмично поднимаются и опускаются руки, а мое дыхание было совсем незаметным. Сердце у меня как будто застыло в груди после глухого удара, но это всегда у меня бывает в начале бега. Потому что я никогда не состязаюсь, я просто бегу, и если я забуду о том, что сейчас – соревнование, а буду просто бежать на этот раз как обычно, то наверняка выиграю, потому что так со мной бывает всегда. И, когда я замечу, что приближаюсь к финишу (увидев турникет или угол дома), я сделаю рывок вперед, да такой рывок, как будто до этого я не оставил позади целых пять миль и совсем не устал.
Да, я способен на это, потому что сейчас я задумался. Мне хотелось бы знать, есть ли еще бегуны, которые забывают что бегут, потому что во время бега слишком заняты своими мыслями. И мне любопытно, поступают ли так же эти парни, которые бегут вместе со мной, хотя скорей всего такая система им не известна. Я лечу как ветер вдоль мощеной беговой дорожки и изрезанной колеями равнины, более ровной, чем некошеные поля, но не настолько, чтобы помешать моим мыслям. Сегодня утром я полон сил и знаю наверняка, что никто не сможет меня победить. Но я решил на этот раз победить самого себя. Когда надзиратель говорил мне о том, что я должен быть честным (в первые дни моего пребывания в колонии), он не знал, что значит для меня это слово, ведь в таком случае я не бежал бы здесь сейчас, одетый в шорты, майку и солнечные лучи. Он отправил бы меня туда, куда мне от всей души хотелось бы отправить его, если бы мы вдруг поменялись местами: в каменоломню, рубить горную породу, пока не откинешь копыта. В конце концов похожий на Гитлера переодетый коп был честнее, чем надзиратель, потому что он хотя бы не отрицал нашу взаимную ненависть. В тот день, когда мое дело слушалось в суде, он постучал в четыре утра в нашу дверь и поднял маму с кровати, где она спала, еле живая от усталости, и напомнил ей, что она должна быть в суде как штык в половине десятого. Он был на редкость зловредным, но я мог бы назвать его честным, так же, как и мою маму. Она высказала ему все, что о нем думала и ругала его последними словами добрых полчаса за то, что тот поднял ее в такую рань, да так громко, что разбудил весь дом.
Я бежал по краю поля, окаймленного тропинкой. Вокруг пахло свежей травой и жимолостью, и мне показалось, что я произошел из породы гончих собак, которых научили бегать на задних лапах. Разве что впереди не было зайца, а у меня на шее – ошейника, чтобы держать меня на месте. Я опередил парня из Гантхорпа, чья рубашка была насквозь мокрой от пота, и мог увидеть перед собой только угол огороженного подлеска. Передо мной бежал только один человек, который в это время пересекал отметину половины пути. Затем он завернул на косу, покрытую деревьями и кустарником, и я потерял его из виду. И теперь уже не видел никого рядом с собой. Я знал, какое одиночество испытывает бегун, бегущий на длинную дистанцию по пересеченной местности, я понимал, что для меня это чувство – моя единственная правда и реальность этого мира, и что оно навсегда останется со мной. И неважно, какой мне будет временами представляться жизнь, или что мне попытаются рассказать о ней. Бегун, которого я оставил позади, сильно отстал, потому что вокруг не было слышно ни звука. Было еще тише и спокойнее, чем морозным зимним утром в пять часов. От меня даже ускользнул смысл того, зачем я здесь, я только помнил, что надо бежать, бежать, а зачем бежать, для чего пересекать поля, леса, где тебе становится страшно, зачем взбираться на холмы, не понимая, где ты – вверху или внизу, зачем перепрыгивать ручьи, боясь свернуть себе шею? И даже финишный столб не был концом этого пробега, и толпы людей, которые кричали тебе, – потому что ты будешь бежать, пока не перестанешь дышать, и конец наступит только тогда, когда ты разобьешь голову о ствол дерева, или упадешь в заброшенный колодец и останешься в темноте навечно. Так вот, я подумал: они не заставят меня стать спортсменом, я не стану бегать для того, чтобы победить, трусить по этой тропинке ради клочка синей ленты, потому что этим ничего не добьешься, хоть они клятвенно заверяют меня в обратном. Ты можешь ни о ком не думать и идти своей собственной дорогой, вдоль которой не стоят, как путевые столбы, парни с флягами воды и пузырьками йода, и которые помогут тебе, если ты упадешь и поранишься, а потом отправят бежать дальше, даже если ты этого не хочешь.
Затем, выбежав из леса, я, сам того не заметив, обогнал парня, который бежал впереди меня. Шлеп-шлеп, топ-топ, шлеп-шлеп, топ-топ-топ, – я снова бегу через просторное поле, легко, размеренно, как борзая собака, отлично понимая, что выиграю эти соревнования, хоть еще не прошел и половину пути, – выиграю! Если, конечно, захочу. Если надо, я могу бежать так еще десять, пятнадцать или двадцать миль, и упасть на финише замертво от усталости. Впрочем, то же самое произойдет в конце моей жизни, если я проживу ее так, как меня учит надзиратель. Ведь он хочет так: выиграй соревнования и будь честным; но когда я бежал, моя жизнь принадлежала только мне, и мне нравилось делать успехи, потому что это поднимало мне настроение, – и я совсем Не заботился о том, что должен не только пробежать эту дистанцию, но и выиграть. Одно из двух: или выиграть это соревнование или пробежать заданную дистанцию. Но я знаю, что могу сделать и то, и другое, потому что ноги легко несут меня вперед – срезая путь, перепрыгивая через кусты ежевики и встречные ложбинки – и они могут донести меня хоть на край света, потому что в них вместо вен словно проведены электрические провода. Однако я не выиграю этот забег, потому что в собственных глазах я стану чемпионом только в одном-единственном случае: когда ограблю самый большой банк и скроюсь от копов. И еще я твердо знаю, что победить – это совсем другое: неважно, каким образом они попытаются убить меня или надуть, неважно, что я попадусь в их белые холеные руки и они упрячут меня за высокий забор с колючей проволокой, и я до конца дней буду работать в каменоломне, ведь я буду рубить камень на свой манер, а не так, как скажут мне они.
Поступить честно я мог и по-другому: перелезть через ближайший забор и потихоньку удрать подальше от беговой дорожки и финишного столба. Я мог пробежать по дерну еще две, шесть, или десять миль, пересечь несколько больших дорог, так что они никогда бы не догадались, вдоль какой из них я побежал. И возможно, когда стемнеет, я мог бы остановить грузовик и поехать куда-нибудь на север с шофером, который не сдал бы меня полиции. Ты будешь полным кретином, если сделаешь это, сказал я себе. Тебе осталось сидеть всего полгода, да и жизнь в колонии не такая уж отвратительная, чтобы стоило оттуда убегать. Я всего лишь хочу обломать этих добропорядочных разжиревших господ, которые, сидя в своих шикарных креслах, увидят, как я проиграю соревнование, хотя готов поклясться жизнью, они в отместку будут кормить меня прелой гречкой и заставят выполнять самую грязную работу на кухне все то время, что мне осталось сидеть в колонии. Надзиратель говорил мне, что я должен быть честным, но честным на его манер, а не на мой. И если бы я стал таким, каким он хочет меня видеть, и победил в соревнованиях, эти последние шесть месяцев были бы самыми сытыми и безоблачными за всю мою жизнь. Однако мои правила игры не позволяют мне так поступить. И если я сделаю то, что задумал, то мне предстоит получить от надзирателя все возможные наказания, какие он только сможет выдумать. Но взгляните на него моими глазами: кто может его за это упрекнуть? Ведь между нами – война, я вам уже говорил. И тогда я ударю его в то единственное место, куда он рассчитывает ударить меня, то есть не завоюю этот приз, на который он столько лет возлагал все свои надежды. А он столько лет ждал, что сможет похлопать меня по плечу, когда я возьму кубок из рук лорда Ирвинга! И я наступаю на его больной мозоль, и он сделает все, чтобы мне отомстить, – в общем, око за око, зуб за зуб. Самая моя большая радость в том, что я нанес удар первым, потому что более тщательно проработал план. Почему-то мне кажется, что эта идея лучше, чем все предыдущие, и я воплощу ее в жизнь, а на остальное мне наплевать. Мне кажется, я достаточно выстрадал, чтобы до этого додуматься, потому что во всей моей бандитской жизни не было ни свободного времени, ни покоя, – а сейчас мои мысли быстро шевелятся в голове, и я не всегда могу остановить их, даже когда из-за них у меня стучит в висках и когда я должен дать передышку своим мозгам, сбегая по заросшей ежевикой тропинке. И это станет новым ударом в спину, который я нанесу типам вроде надзирателя, чтобы они поняли: в состязании, которые устраивают они, никогда не будет победителей, несмотря на то, что кто-то из парней все же невольно придет к финишу первым. Моя заветная мечта – о том, что когда-нибудь надзиратель будет сожжен, а парни вроде меня соберут остатки его обугленных костей и будут плясать как сумасшедшие вокруг развалин исправительной колонии. Впрочем, вся эта история, которую вы сейчас читаете, похожа на соревнование, которое я не стану выигрывать в угоду надзирателю. Нет, конечно, я буду «честным», следуя его словам, смысла которых сам-то он так и не понял. Но я очень сомневаюсь, что он когда-нибудь сумеет написать о себе книжку, – даже если прочтет мою и поймет, о ком в ней идет речь.
Я только что выбрался из глубокой колеи, с побитыми коленками и локтями, в синяках, в царапинах от ежевики. Расстояние пройдено на две трети, и внутренний голос говорит мне: ты уже достаточно понаслаждался ощущением того, что ты – первый человек на земле, бегая зимним морозным утром. Бегая летним полуднем, ты уяснил, что значит чувствовать себя последним человеком на земле. А вот теперь настало время почувствовать себя единственным человеком на земле и не думать о том, плохо это или хорошо, а просто бежать по утоптанной дорожке, ведь здесь ты по крайней мере не споткнешься. Сейчас слова звучали как бьющийся хрусталь, и что-то сжало меня изнутри, слева, под ребром, и я не понял, откуда эта боль, но чувствовал внутри себя что-то вроде мешка с ржавыми гвоздями, которые вонзались в меня каждый раз, как я делал шаг вперед. Я постоянно подносил правую руку к груди, как будто пытался вынуть невидимый нож, который однако, застрял там намертво. Но я решил, что об этом не стоит беспокоиться, ведь чем меньше беспокоишься из-за боли, тем быстрее она утихнет. Иногда мне кажется, что я – самый ужасный паникер в мире (как вы наверняка догадались, я отлично знаю собственный характер, потому что написал рассказ о себе самом)! Но это получается, впрочем, довольно забавно, потому что моя мама даже слова «тревога» не знает. Видно, я пошел не в нее. Зато мой папа прожил свою нелегкую жизнь в постоянной тревоге, пока не отдал концы, залив собственной кровью всю спальню.
Это произошло однажды утром, когда дома никого не было, и мне этого не забыть никогда, поскольку я был первым, кто обнаружил его труп, – и порой мне кажется, что лучше бы я его не видел совсем. Тогда я вернулся из магазина, где провел не один час у игральных автоматов. Я зашел домой, жонглируя тремя выигранными лимонами, но там стояла мертвая тишина, и сразу понял, что что-то здесь не так. Я прислонился лбом к холодному зеркалу, боясь открыть глаза и увидеть свое застывшее лицо: я знал, что оно побелело как мел, как только я зашел в дом, словно всю кровь у меня высосал вампир Дракула. И даже деньги не звенели в моих карманах.
Меня почти догнал парень из Гантхорпа. На живой изгороди из шиповника пели птички, а в колючие кусты, как молния, залетела пара дроздов. На следующем поле пшеница уже почти созрела, и скоро начнется уборка урожая. Но я старался никогда особо не рассматривать окрестности, чтобы не отвлекаться от своей задачи. Я даже решил не отдыхать в стоге сена, мимо которого бежал, несмотря на ржавые гвозди, которые вонзались мне под ребро. Теперь оба парня из Гантхорпа и птички в кустах были далеко позади. Сейчас я подходил к своим последним полутора милям, которые я, конечно, пролечу как вольная птица. Но пробегая последний отрезок пути, я внезапно почувствовал небывалое спокойствие, как будто погрузился под воду и, открыв глаза, увидел камни на дне реки. Я снова вспомнил то утро, когда увидел своего отца мертвым. Странно, ведь я не думал об этом с тех пор, как это случилось, и даже не слишком долго терзался из-за его смерти. Интересно, почему? Возможно, во время бега на длинную дистанцию мне пришла в голову идиотская мысль, что я тоже чем-то таким заболел. И теперь, когда вид отца, лежащего в луже крови, не идет из моей очумелой головы, я не уверен, что стоит об этом думать, и что прежде я, возможно, поступал правильно, что не вспоминал о нем. Я стряхнул оцепенение и продолжал бежать несмотря ни на что и клясть на чем свет стоит всех этих надзирателей и их чертовы состязания. Топ-топ, шлеп-шлеп, топ-топ-топ. Возможно, они еще одержат надо мной верх, если, например, просветят мне мозги каким-нибудь невиданным прежде чудо-рентгеном и узнают, о чем я думаю. Но что бы там не случилось, и буду так же тверд, как и мой отец, и все равно нанесу им ответный удар. И чем больше я об этом думаю, тем больше уверен, что победа в конце концов достанется мне.
Так вот, после того, как я поднялся на первую ступеньку лестницы, я старался не думать о том, в каком виде застану отца и что мне придется делать после этого. Но сейчас я прокручиваю эту сцену снова, вспоминая обо всей этой мерзкой жизни, которую мама всегда, насколько я помню, создавала отцу, изменяя ему со всеми подряд, даже когда он был еще жив-здоров. Она даже не беспокоилась, знает он об этом или нет, но чаще всего он догадывался о ее проделках; тогда он орал на нее, ругался, рвался заехать ей кулаком по лицу, – и я вынужден был становиться между ними, хотя и знал, что она все это заслужила. Вот такая у нас была жизнь. Нет, я не жалуюсь, потому что если бы я жаловался, то вполне мог бы выиграть это проклятое соревнование, хотя вовсе не собираюсь этого делать; но ведь если я не сбавлю скорость, то наверняка приду первым, даже того не заметив, и что же тогда получится?
Сейчас до меня уже доносится музыка и крики с трибун, вокруг развеваются флаги, и под ногами у меня теперь твердый грунт. Я совсем не выдохся, несмотря на эти ржавые гвозди, которые все так же вонзаются мне в утробу, и я способен сделать отличный рывок вперед, если, конечно, захочу, но все осталось под контролем. Сейчас я знаю, что во всей Англии нет более сильного и быстрого бегуна на длинную дистанцию по пересеченной местности, чем я. У нашего надзирателя, у этого старого кретина, у этого ублюдка, который едва передвигает ноги, внутри ничего нет, как в пустой цистерне для бензина.
И он хочет, чтобы я принес ему славу, чтобы наполнил его горячей кровью, которая никогда не текла в его жилах. Он хочет, чтобы его обрюзгшие приятели стали свидетелями того, как я, шатаясь и задыхаясь, первым добегу до финишного столба, чтобы он мог сказать: «Вот видите, мой подопечный добыл мне этот кубок. Я выиграл пари, потому что выгодно быть честным и стараться получить призы, которыми я награждаю своих ребят; и они знают это, они всегда это знали. Теперь они навсегда станут честными людьми, потому что я их сделал такими». И его приятели тогда подумают: «В конце концов, он правильно воспитывает своих подопечных. Он заслуживает медали, но мы сделаем его Сэром». И в этот самый момент, снова услышав птичье пение, я сказал себе: мне ровным счетом наплевать, что думают или говорят эти никудышные бесхарактерные слабаки, которые следуют закону. Они увидели меня и громко принялись кричать мне, и расставленные вокруг стадиона громкоговорители, похожие на уши слонов, сообщили знаменательную новость: я иду впереди всех и так дойду до финиша.
Я в это время все еще думал о «незаконной» смерти отца, который сказал докторам, чтобы они выметались из дома, когда те предложили ему лечь в больницу (он не подопытный кролик, крикнул он им). Он встал с постели, чтобы вытолкать их за дверь и даже преследовал их на лестнице, хоть сам уже был похож на скелет, обтянутый кожей. Они попытались узнать у него, не хочет ли он попринимать какие-нибудь обезболивающие, но он отказался, и только согласился попить болеутоляющие травы, которые мама купила у местного знахаря с соседней улицы. Я давно знал, какая у него жуткая болезнь, и когда зашел в комнату тем утром, то застал его лежащим на животе, свесив свою седую голову с кровати. В предсмертной агонии он разодрал на себе одежду. На полу под ним было столько крови, что она, казалось, вытекла из него вся, до последней капли: розовое пятно растеклось почти по всему линолеуму и ковру.
И чем дальше я бежал, тем сильнее и сильнее сжимала меня боль под ребром: казалось, ржавые гвозди не могли больше там держаться и выпадали, как из плохо сколоченной плотницкой поделки, а сердце, казалось, находилось в железных тисках. Однако вместо рук у меня как будто выросли крылья, а ноги сами были готовы отрываться от земли, – вот только мне не слишком хотелось это кому-нибудь показывать или выигрывать состязание случайно. Сейчас, подбегая к финишу, я всей грудью вдыхал жаркий полуденный воздух, пропитанный запахами горных трав, сложенных в коробы газонокосилок, которые привезли мои приятели. Я сорвал с дерева кусочек коры, сунул его в рот и стал жевать дерево вместе с пылью и, возможно, букашками, жадно сглатывая слюну, потому что внутренний голос нашептывал мне, что теперь уж для меня наступят тяжелые деньки, что за последние шесть месяцев моего пребывания в колонии мне ни разу не удастся пробежаться по гладкой тропинке, пожевать кусочек коры и насладиться запахом скошенной травы.
Мне противно вспоминать об этом, но какая-то чертова сила сдавила мне горло и я расплакался, хотя последний раз это со мной случалось, когда я был двух– или трехлетним пацаненком. Потому что как раз сейчас я замедлил бег, чтобы парень из Гантхорпа смог догнать меня, и я повернул в сторону спортивного поля, чтобы они хорошо поняли, что я делаю, особенно надзиратель и вся его шайка, сидящая на трибуне. Я стал бежать все медленнее, почти топтаться на месте. Те, кто сидел на передних местах, еще не поняли, что происходит, и продолжали кричать мне как сумасшедшие, когда я почти остановился. Мне только хотелось знать, когда этот чертов придурок из Гантхорпа меня догонит, потому что я не собирался проторчать тут целый день. Но он сошел с дистанции, и я подумал: вот невезуха, ведь следующий бегун будет здесь через добрых полчаса! Но, Богом клянусь, я не пошевельнусь, я не сдвинусь с места, чтобы пройти эти последние сто ярдов, даже если мне придется усесться по-турецки на траве, а надзирателю и его безмозглым приятелям – поднять меня и отнести за финишную черту. К тому же подобный выверт – против их правил, и, готов поклясться, они не настолько сообразительны, чтобы нарушать правила, даже те, что выдумали сами (как я бы сделал на их месте). Нет, я покажу надзирателю, что значит быть честным, даже если это будет последний поступок, который я совершу в своей жизни. Впрочем, я уверен, он никогда не поймет меня, потому что в противном случае он был бы на моей стороне, а это невозможно. Готов поклясться, я стерплю все, что со мной потом сделают, как отец, который, превозмогая боль, спустил докторов с лестницы. Ему хватило сил сделать то, а мне хватит сил сделать это. И вот я стою и дожидаюсь, пока парень из Гантхорпа или из Эйлшема пробежит по дорожке мимо меня и пересечет финишную черту. Что касается меня, то я пересеку ее только в одном единственном случае: если буду лежать мертвый, а за ней меня будет дожидаться удобный гроб. До этих пор я – бегун на длинную дистанцию по пересеченной местности, который бежит по собственной воле (пусть даже это и странно выглядит со стороны). Мальчишки из Эссекса орали мне до посинения, чтобы я двигался вперед, махали руками, вскакивали с мест и сами бежали до финишной ленты, потому что мы находились всего в нескольких ярдах от нее. Да что вы, слабаки, цепляетесь за этот финишный столб, подумал я, хотя и понимал: они не знают, что кричат, ведь они всегда были и будут на моей стороне. Они, как и я, не могут «честно трудиться», поэтому время от времени живут на казенных харчах. И теперь они вволю приветствуют меня, а надзиратель воображает, что они душой и сердцем на его стороне.
Разумеется, подобная чушь никогда бы не пришла ему в голову, будь в ней хоть немного разума.
Теперь я уже слышал, как с трибун мне кричат дамы и господа, и тоже встают с мест, и тоже машут руками: «Беги! – раздаются их вальяжные голоса. – Беги!» Но я слеп и глух, я потерял разум и не двигаюсь ни на шаг, до сих пор ощущая во рту вкус коры и рыдая как ребенок, но теперь уже от радости, ведь я в конце концов одержал над ними верх!
Но вот послышались возгласы, и я увидел, как парни из Гантхорпа размахивают плащами в воздухе, почувствовал за спиной приближающийся топот ног, внезапно меня обдал запах пота и горячие дыхание вымотанного бегуна. Он протрусил рядом со мной и побежал вперед, к этой веревке, задыхаясь как чахоточный, еле держась на ногах и шатаясь из стороны в сторону, как я буду ходить наверное, лет в девяносто, за несколько дней до того, как сыграю в ящик. Я чуть было сам не крикнул ему: «Беги вперед, беги вперед, сорви эту веревку! Повесься на этом куске ленты!» Но он уже был там, и тогда я побежал за ним до финишной линии, где свалился от изнеможения. До меня еще долетали возмущенные крики.
Сейчас время остановиться; но мне кажется, что я бегу до сих пор – неважно, по какой дорожке. Надзиратель поступил так, как я и предполагал; он не оценил мою честность. Нет, я другого от него и не ожидал, и даже не пытался ему ничего объяснить, однако, если он считает себя таким умным, он должен был сам хоть приблизительно догадаться, что значил мой поступок. Он отомстил мне по полной программе (по крайней мере, ему так казалось), и я почти каждое утро таскал с кухни на огород полные ведра помоев; каждый день полол картошку и морковку; каждый вечер натирал полы, целые тысячи квадратных метров. Но это была не такая уж плохая жизнь на оставшиеся мне полгода колонии, хотя надзиратель так и не смог этого понять. Он сделал бы мое существование еще более мрачным, если бы мог. Но мои усилия стоили того, потому что ребята в колонии поняли: я намеренно проиграл это состязание. Они были в восторге от моего поступка и ругали последними словами надзирателя (конечно, за глаза).
Работа меня не сломила; она только сделала меня сильнее, и надзиратель знал, когда я выходил на свободу, что его старания ни к чему не привели. Меня попытались забрать в армию сразу после того, как выпустили из колонии, но я не прошел медкомиссию и могу сказать вам причину этого. После этого последнего забега и шести месяцев каторжной работы я, оказавшись на воле, сразу же заболел воспалением легких, а для меня это значило, что проиграл я то соревнование в пику надзирателю не зря, потому что свое собственное выиграл дважды. Ведь я твердо уверен: если бы я тогда не одержал свою победу, то не заработал бы воспаление легких, благодаря которому меня не обрядили в военную форму, но которое не мешало моим ловким пальцам заниматься привычным для них делом.
Сейчас я на свободе и снова в бегах, но копам не удалось схватить меня, когда я совершил последнюю крупную кражу. Тогда моя добыча была шестьсот двадцать восемь фунтов, и я до сих пор живу на эти деньги, потому что пошел на дело один. Благодаря этому у меня было время спокойно написать все это, и мне хватит денег, чтобы разработать план еще более крупной кражи. Я тщательно его готовлю и Хочу, чтобы о нем не знала ни одна живая душа. Когда я натирал пол в колонии, то выработал собственную систему и продумал, где будут находиться тайники, придумал, как жить, чтобы не вызвать подозрений; я даже отточил свое мастерство, потому что знал: оно мне пригодится сразу, как я выйду на волю. Я продумал и то, что буду делать, если подлые копы снова расставят мне ловушки.
Тем временем (я встречал это выражение в тех одной-двух книжках, которые я с тех пор прочел, но которые меня ничему не научили, потому что всегда заканчиваются тем, что герой добегает до финишного столба, – и неизвестно, что он будет делать дальше), так вот, тем временем я передам эту историю одному своему другу и попрошу его, если меня посадят снова, попытаться сделать из нее что-то вроде книжки; мне очень бы хотелось увидеть физиономию надзирателя, когда он ее прочитает, если он, конечно, это сделает, в чем я сомневаюсь. Но даже если он ее прочтет, то все равно не поймет, о чем идет речь. А если меня не поймают, то этот парень никогда никому эту историю не покажет, потому что живет со мной на одной улице с тех пор, как я себя помню, и мы – старые друзья. И в этом я уверен.








