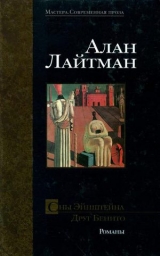
Текст книги "Друг Бенито"
Автор книги: Алан Лайтман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
~ ~ ~
Джон Лернер был всего лишь ребенком, физически хрупким, и, подобно Беннету, немногословным. Зато у него был резкий, гиеноподобный смех, узнаваемый издалека.
Беннет познакомился с Джоном, когда был в четвертом классе. Это случилось весенним днем на широкой заброшенной полосе земли по дороге из школы домой. Беннет называл ее кукурузным полем, хотя ни одного стебля кукурузы на ней видно не было. Там тесными группами росли дубовые деревья и подлесок, фиалки, синие, как небо, еще там водились змеи и черепахи – таинственные следы на земле, теряющиеся под деревьями.
У Беннета было два любимых места. Одно на холме, где земля уходила вниз и вдаль, и ветер дул с такой неизменной силой, что можно было сидеть, закрыв глаза, и представлять себе, что летишь в пространстве вместе с Землей, поворачивающейся вокруг оси. Там он сидел часами, держа в зубах травинку, раздумывая и давая времени улетать с ветром. Другое место – пруд, зеленый, темный и в теплое время кишащий головастиками. Было приятно разуться и бродить по илистому мелководью, пропуская между пальцами темную жижу. Беннет никогда отсюда не уходил, не написав на иле свои инициалы. Через несколько дней они исчезали, затянутые илом и тиной, и он писал их снова. Ему хотелось оставить что-то от себя в этом пруду навсегда.
Однажды он только успел написать на илистом берегу инициалы, как услышал смех гиены. Это был Джон, который наблюдал за ним из-под дуба, скрестив на груди руки. Он осмотрел работу Беннета, потом стал воздвигать собственные инициалы в иле – из палок. Он брал палку, заострял ее перочинным ножом и втыкал на полфута в ил. Они сложились в буквы. Дж. Л. Четко, сказал Беннет. Джон со щелчком закрыл нож, отступил и стал любоваться своим творением, потом исчез среди деревьев. Инициалы Джона остались стоять до самого лета, а потом ил высох, растрескался, и палочки сломались и попадали.
В тот первый год в последний день перед каникулами ребята чуть не сожгли кукурузное поле. Джон решил, что раз наступает лето, надо будет как-то защищаться от индейцев. И мальчики построили форт на углу кукурузного поля, ближайшего к зданию «Зирса и Роубэка». Построили его из бревен и больших камней. В форте, естественно, нужен был костер. Спички есть? спросил Беннет. Джон состроил презрительно-недовольную гримасу и вытащил из кармана лупу, которая дала огонь всего через три минуты. Однако этот огонь почти сразу вырвался из-под контроля и стал пожирать какой-то куст. Ох ты боже мой, завопил Беннет и забегал кругами. Джон тут же схватил его за плечи и взмолился, чуть не плача, только отцу моему не говори. Ох ты боже мой, орал Беннет, давай позовем на помощь. Тут есть пожарное депо, я им скажу. Он побежал изо всех сил к краю поля, а Джон болтался на его следу, как хвост за воздушным змеем. Они бежали к зданию «Зирса и Роубэка», через Поплар-авеню, увертываясь от машин, стремясь к пожарному депо на Белльмид. Нельзя, выл Джон, они поймут, что это мы. Они расскажут моему отцу. Беннет не отвечал, продолжая бежать вперед. Он влетел в дверь депо и заорал, что рядом с «Зирсом и Роубэком» пожар. Потом пулей вылетел в дверь и помчался в сторону, противоположную кукурузному полю, а Джон за ним. Они бежали без остановки, не оглядываясь, целую милю до самого Рексолла, оба запыхались и обливались потом. Через несколько минут они успокоились и плюхнулись на траву, скрестив ноги, в перепуге тараща глаза. Обещай, что не скажешь моему отцу, сказал Джон. Обещаю, сказал Беннет.
Иногда Беннет заходил после школы с какой-нибудь идеей из «Популярной науки» и находил Джона, вытянувшегося на кровати и мрачно размышляющего над своей последней серией плохих оценок. Ум Джона работал со скоростью десять тысяч оборотов в минуту, но шестеренки бесцельно вертелись в отсутствие другого разума, за который они могли бы зацепиться. Стоило Беннету упомянуть о новом проекте, пусть даже мимоходом, он вскакивал и бросался действовать: вытаскивал провода, резисторы, паяльники и вообще все, что мог счесть полезным, из разных ящиков, сваленных в комнате без всякого порядка. Потом под завывание Боба Дилана они брались за дело. За много лет своей совместной работы юные ученые сделали уоки-токи, детекторный приемник, термостат и – от начала и до конца – телескоп с автоматическим следящим устройством. Джон никогда не хранил инструкций к новым деталям, никогда не рисовал схем, и провода у него блуждали по монтажной плате, как пьяные. Но у него были волшебные руки, и когда он садился по-турецки посреди комнаты и начинал возиться со схемой, транзисторы оживали. Чуть подкрутить надо было, говорил он буднично. Просто чуть подкрутить. Ошеломленный Беннет, глядя из-за плеча друга, пытался понять, почему в комнате у Джона все приборы работают лучше, чем в его комнате, но попытки были абсолютно бессмысленны. Джон тоже ничего не объяснял. Он не растрачивал время жизни на теории.
Самым блестящим их совместным проектом был прибор связи, передававший звук с помощью света, а не электрических импульсов по проводам. Когда человек говорил в один конец устройства, от звука вибрировал надутый шар, на котором был установлен кусочек зеркала. Луч света отражался от этого зеркальца и через всю комнату попадал в приемник. Поскольку зеркальце колебалось в такт голосу человека, так же колебалась и интенсивность отраженного света, точно кодируя самые тонкие оттенки голоса скептически настроенного проверяльщика. В результате мелькающий свет, принятый на некотором расстоянии и обработанный другим устройством, можно было преобразовать в исходный голос. Это было чудо. И оно работало.
Первое испытание устройства произошло в дождливое апрельское воскресенье. Ребята какое-то время провалялись на полу в комнате Джона, обсуждая, какое сообщение должно быть передано в первом торжественном запуске. Воздух был спертый, и комната была затемнена, только желтый лучик передатчика пересекал ее из угла в угол.
Должно быть что-нибудь бессмертное, сказал Джон. Например: как-то в полночь в час угрюмый, утомившись от раздумий, задремал я над страницей фолианта одного. Беннет серьезно задумался и покачал головой – нет. Что скажут потомки, если нашим первым посланием будут какие-то стишки? Надо передать что-нибудь научное, например, первые десять знаков пи. Может быть, сказал Джон, почесывая комариный укус. Ты магнитофон подключил? Ага, ответил Беннет. Магнитофон был присоединен к выходу усилителя приемника. Беннет протянул ногу и пальцем нажал на кнопку.
В этот момент в темную комнату ворвался отец Джона и бешено заорал: где мои носки, черт возьми? Опять ты мои носки нацепил?
Джон сразу съежился, но не стал отвечать. Вместо этого он встал, подошел к магнитофону, перемотал ленту и включил воспроизведение. Все присутствующие услыхали бессмертные слова: где мои носки, черт возьми? Опять ты мои носки нацепил? достоверно переданные через всю комнату дрожащей ниткой света. Работает, сказал Джон.
Отец Джона ничего не сказал и тут же вышел в полной уверенности, что его передразнили. Как только он вышел, Джона снова захлестнула волна мрачности, и он осел на пол. Почему он со мной так разговаривает? спросил он, закрывая лицо руками. Иногда мне его убить хочется.
Пойдем пройдемся, сказал Беннет. Дождь идет, сказал Джон. Нет дождя, сказал Беннет, пойдем. Он тронул Джона за плечо, и они вышли через кухонную дверь в сырость. Даже сквозь дождь слышался сладкий запах цветущей жимолости, обвившей белые столбы изгороди. Ребята молча прошагали примерно милю, просто вдыхая напитанный жимолостью воздух, пока не промокли совсем. Наконец они остановились под фонарем у дома Джона. А ведь работает, сказал Беннет и улыбнулся. Да, работает, сказал Джон.
Через месяц они показывали свое изобретение на окружной выставке технического творчества. Накануне присуждения премий, после бесчисленных пробных испытаний на пятидесяти футах между говорящим и принимающим, что-то сломалось. Из приемника не доносилось ни звука. Даже Джон не мог понять, в чем причина. Беннет вернулся домой в страшном расстройстве и целые сутки не выходил из комнаты. На следующий день позвонил Джон и сказал, что принес устройство на выставку рано утром и втихаря соединил передатчик с приемником протянутой под столом проволокой. Беннет ахнул в трубку. Судьи дали себя обдурить и присудили им первый приз.
Другой страстью Джона был рок-н-ролл. Работая долгое время и получая финансирование от деда с бабкой, он построил лучшую в городе стереофоническую систему прямо у себя в комнате, покупая детали по почте от «Хескита». Для их тестирования он использовал собственное оборудование, и если детали не подходили, он отправлял их обратно с возмущенным письмом: Дорогой сэр, что стали позволять себе люди в наше время? Прочитайте спецификации вашей колонки верхних частот и сравните их с реальностью. Вы что, думаете, что имеете дело с каким-нибудь школьником? Беннет читал письма Джона, восхищался его нахальством, а в школе иногда сообщал, что Джон Лернер – его лучший друг.
Беннет тоже любил рок-н-ролл, но ему вполне хватало поставить альбом «Стоунз» и залечь под проигрывателем, подвешенным к потолку комнаты Джона. Джону этого было мало. Ему надо было слышать артистов живьем. Надо смотреть на их лица, Друг Бенито, говорил он. Да, но в твоей системе звук гораздо лучше, возражал Беннет. Зачем все эти хлопоты? Джон не отвечал. В залах не слышно высоких частот, резонно указывал Беннет. Все равно пойдем, говорил Джон. И как-то ему удавалось уговорить Беннета в будний день ускользнуть, когда уже надо было спать, и поехать с ним в город на Мейн-стрит и смотреть на лица музыкантов.
Комната Беннета находилась на втором этаже в конце длинного коридора. Кладовая была в другом конце коридора. По счастью, под окном Беннета росло пекановое дерево, ветви которого стелились по крыше. Вечерами своих тайных экскурсий с Джоном он выжидал полчаса после того, как погаснет свет внизу, где спали родители и братья, вылезал через окно на крышу и спускался по дереву, поражаясь и пугаясь собственной храбрости. Джон ждал его в конце дорожки, в темноте, и они шли на улицу и садились в автобус на Поплар-стрит. Приходилось идти пешком до угла Поплар и Гудлет, поскольку автобусы по вечерам из восточной части Мемфиса не ходили. Ездить на автобусе всегда было странновато. Они двое были единственными в автобусе белыми, если не считать водителя, а черные все равно сидели на задних сиденьях, хотя раздельные места для белых и черных были уже несколько лет как отменены законом.
В городе ребята слушали Джерри Ли Льюиса, поющего «Большие огненные шары» в клубе «Парадиз», Томми Берка и «Штормовой ветер» в «Ревущих шестидесятых», Руфус Томас орал «Собака и тигр». Это был Мемфис. Иногда они слышали Букера Т. и М. Г. Букера Т., у которого была группа из четырех инструментов, а сам он играл на клавишных и был больше похож на ученого, чем на музыканта. Иногда бывали ритмы и блюзы, но по большей части – рок-н-ролл.
Иногда они вылезали из автобуса возле виадука Поплар-юнион около кафе под названием «Горький лимон» и слушали «Гильотиин». «Гильотиин» часто пели старые песни «Битлз» и «Стоунз», но звучали эти мотивы по-мемфисски. И были у них свои мелодии тоже, например, «Я не верю». У них была двенадцатиструнная гитара, бас и ударные.
Когда ребята ходили в «Горький лимон», сесть обычно было негде, и потому приходилось стоять, прижимаясь к стеклянным витринам. Это был крохотный зал, ненамного больше спальни Беннета, всего шесть или семь столов, и музыка гремела так близко и громко, что видно было, как дрожит кока-кола у тебя в стакане. Но это был хороший рок-н-ролл. Джон вертел головой, выискивая такое положение, чтобы видеть музыкантов. Найдя его, он закрывал глаза и слушал. Беннет поступал так же. Со временем он понял насчет лиц.
Летом в Мемфисе воздух так тяжел и горяч, что Беннет, выходя на пять минут на улицу, чувствовал себя так, будто его под одеждой поливает дождем. Многие люди вообще отказывались выходить из кондиционированных домов на солнце. В самые влажные дни Беннет с Джоном ездили на велосипедах к озеру Мак-Келлар. Оно соединялось с Миссисипи к западу от Мемфиса. В те дни большие химические компании еще не начали сбрасывать отходы в озеро в массовом порядке, оно было чистым, и двое друзей раздевались до трусов и плыли к островку посередине озера. Эй, Друг Бенито, давай наперегонки, говорил Джон и прыгал в озеро, размахивая руками и выставляя белую впалую грудь. Беннет обычно доплывал до острова первым, он был намного сильнее Джона. Но каждый раз, когда ребята приезжали к озеру, Джон снова его вызывал: давай, Друг Бенито, поплыли наперегонки. Беннету это в нем нравилось.
Они брали с собой сандвичи в пластиковых пакетах, привязывая их к поясу. После завтрака они лежали в тени под деревом. Лежа в тени клена в густом летнем воздухе, они говорили мало. Какова окружность земли? спрашивал Беннет. Двадцать четыре тысячи миль. Каково расстояние до ближайшей звезды? спрашивал Джон. Двадцать четыре миллиона миль. Какова самая низкая возможная температура? Двести семьдесят три градуса ниже нуля, по Цельсию. Мир был полон четкости и логики, и они грелись в своем всеведении.
Они клялись друг другу, что весь остаток жизни, сколько бы они ни прожили, будут друзьями, что будут каждое лето возвращаться на этот остров, лежать под кленом и глядеть на белые кряжи и на воду, ощущая жар близкого Мемфиса.
А часто они ничего не говорили. Просто лежали в тени клена, чувствуя покой и безопасность. Иногда слышались далекие голоса людей в проплывающих лодках, но и они вскоре стихали и глохли в густом летнем воздухе. На озере было тихо, как в вате, и часы неслышно шли мимо, будто времени не существует.
Примерно десять лет после того, как они окончили школу и уехали из Мемфиса, Беннет писал Джону дважды в год. Джон отвечал редко. Наконец Беннет перестал писать. Иногда он узнавал что-нибудь о своем друге от его матери. Джон учился в колледже в Северной Каролине, потом жил в Лос-Анджелесе, в Чикаго, в Пало-Альто. Он стал инженером-электриком, основал собственную компанию и преуспевал. Джон всю жизнь прожил в мире естественных наук. И Беннет тоже – какое-то время.
~ ~ ~
После запуска ракеты на Галлоуэевском поле для гольфа Беннет начал понимать, что ему больше подходит теория, чем эксперимент. Он все время над чем-нибудь думал – это он любил. Он думал, почему небо краснеет к концу каждого дня. Он думал, почему мыльные пузыри образуют почти идеальные сферы, почему все снежинки шестиугольные. Он думал, почему наполовину опущенная в воду ложка кажется сломанной, почему мел скрипит. Почему вертящийся волчок не падает на пол, а лишь медленно поворачивается. Его интересовало, почему солнце не перегорает, и действительно ли внешнее пространство тянется бесконечно. Его интересовало, почему облака образуются высоко в воздухе, а не на земле. Его интересовало, как может сок подниматься по стволам деревьев вопреки силе тяжести, откуда получаются радуги, почему образуются темные полосы на поверхности, если наливать воду в чашку. И почему наверху обычно теплее, чем внизу.
Он лежит днем на кровати и думает. Почему фокусирующее зеркало должно иметь параболическую форму? Почему не годится плоское или сферическое зеркало? Почему? Есть логическая причина, и он должен знать, в чем она. Закрывая глаза, он представляет себе различные формы, рисует траектории световых лучей. Изгибы посеребренного стекла. Углы. Ряды воображаемых линий, перпендикулярных к поверхности, струящейся волнами через пространство. Беннет, что ты там делаешь? Желтые и золотистые лучи падают под углом к перпендикулярам, вновь отражаясь в пространство, полированное стекло гнется и искривляется. Беннет, ты слишком много времени проводишь у себя в комнате. Спускайся. Из всех возможных форм – только одна. Парабола, дуга, в которой каждая точка равноудалена от директрисы и фокуса. Воображаемые лучи падают и отражаются, сходятся в точку, в фокус. Зеркало плавно охватывает пространство. Он должен знать почему.
Мир пал на колени, когда Беннет начал впервые изучать алгебру. Ему было тринадцать. Урок начался с текстовых задач, словесных приложений арифметических правил. У Мэри три пенни. Если она даст два пенни младшему брату Генри, сколько у нее останется. Где-то в октябре задачи становятся более содержательными, например: Мэри на шесть лет старше Генри, а возраст Генри составляет две трети от возраста Мэри. Сколько лет Генри? Эти головоломки полагалось решать методом проб и ошибок. Наконец Беннета научили, как обозначать все неизвестные в задаче иксами и игреками и изображать все уравнениями. С использованием правил алгебры неизвестные могут быть найдены за один логический шаг. То, что начиналось путаным рассказом о Мэри и ее малолетнем братце, кончилось единственным изящным уравнением.
Беннету бы это понравилось куда меньше, если бы не было упоминания о Мэри и Генри. Такого рода задачи – для чистого математика: рассмотрим объект А, который на шесть единиц больше объекта В, в то время как объект В составляет две трети от объекта А. Нет, Беннет – ученый-естественник, и он хочет начинать с земли и почвы обычного физического мира. Но самое приятное – разобраться с этим миром, отфильтровать, очистить и дистиллировать его, пока не останется одно уравнение с неизбежным решением.
На уроках американской истории, даже после чтения учебника, класс может целыми днями спорить, почему началась Гражданская война. Учитель тоже принимает участие в споре, выдвигая сперва одну причину, потом другую, расхаживая при этом вдоль парт, и Беннет в конце концов делает вывод, что вообще ни одна собака не знает, почему началась Гражданская война. Точно так же с английским и с общественными науками. А вот с алгеброй по-другому. Здесь ответ всегда есть, ясный, как новенькие полдоллара. Ответ гарантируется правилами логики. И когда его найдешь, спорить уже не о чем. Ты прав, и все согласны, что ты прав.
Об уроках алгебры он помнит все. У миссис Диксон были седые волосы, которые она собирала в высокий пучок. Она носила платья с большими яркими цветами. Пол был покрыт линолеумом с шахматной клеткой. Сразу за дверью слева была гардеробная с медными крючками. Если ученик плохо вел себя в классе, он изгонялся в гардеробную, и вскоре было слышно, как он меряет чужие пальто. Над классной доской висели большие красные часы, похожие на глаз, сообщавшие ученикам, сколько времени до конца урока. У парт были откидные крышки с бороздками для карандашей. Миссис Диксон требовала, чтобы у всех были в этих бороздках остро отточенные карандаши. Ученикам не разрешалось вставать с места ни под каким видом, даже для выхода в туалет. Единственное исключение – чтобы поточить карандаши на точилке в конце класса.
Беннет не мог дождаться конца уроков, чтобы обсудить с Джоном каждый новый метод этой высшей математики. Джон нетерпеливо говорил: да-да, знаю я все это, а потом доставал какой-нибудь разрезанный глаз кальмара или электрическую схему, над которой работал.
Раннее утро, еще до завтрака. Беннет стоит у себя в комнате в пижаме, лениво глядя в окно на соседний дом семьи Талья. Дома разделены кедровым забором. Над ним растут магнолии. Но Беннету из окна видно поверх магнолий. По дорожке идет дряхлый старик за утренней газетой. Это дед, он по-английски не говорит. Иногда он бормочет что-то себе под нос по-итальянски. При ходьбе он кренится налево и поднимает с трудом каждую ногу, будто она прилипает к асфальту. Он крошечного роста, худ как палка, и каждое утро медленно хромает по дорожке мимо кленов, чтобы взять газету. Сегодня хорошая погода, но старик ходит за газетой в любую погоду. Беннет наблюдает за этим уже много лет. Сегодня он оценивает длину дорожки, засекает скорость движения старика и рассчитывает, сколько времени у него уйдет на поход до Луны.
Одноклассники Беннета текстовые задачи не любили. Разумеется, они вообще не любили математику, но предпочли бы пломбировать зубы, чем сидеть и решать текстовые задачи. А Беннет ценил текстовые задачи на уровне пекановых пирогов Флориды. Они были восхитительны. Он их просто глотал. Он уговорил пораженную миссис Диксон давать ему дополнительные задачи помимо общего задания, и когда у нее кончились задачи, он сам себе их придумывал. После школы, когда другие ребята играли в баскетбол или слонялись за аптекой «Рексолл», покуривая и обсуждая девиц, Беннет уходил домой, в свою комнату, к текстовым задачам.
Мать выходила из своей комнаты, где отдыхала, в бледно-желтом халате, и останавливалась внизу лестницы. Беннет, что ты там делаешь? вежливо обращалась она к нему. Ничего, отвечал он. Потом слышался шепот, и Марти или Филипп поднимались до половины лестницы и спрашивали, как им было сказано: Беннет, что ты там делаешь у себя в комнате? Мастурбирую, отвечал Беннет, не входи. После паузы мать снова звала снизу: Сэмми Абрамс такой хороший мальчик, и он тебя приглашал поиграть. Я не люблю Сэмми Абрамса, отвечал Беннет из-за закрытой двери. А Майкл Солмсон? спрашивала мать. Такой чудный мальчик. Я не люблю Майкла Солмсона, снова отвечал Беннет. И наконец, мать говорила: ты эгоист и вырастешь несчастным, без друзей. Как дядя Мори.
Беннет не понимал, почему мать зовет его эгоистом за то, что он сидит у себя в комнате. В те годы, и еще много лет потом слова других людей ставили его в тупик. Однажды осенью его карманные деньги сократились до двадцати пяти центов в неделю. Мать объяснила, что дела семьи идут хорошо, и сейчас самое время откладывать деньги, а не тратить. В другой раз его кузина Лаура, чуть старше двадцати лет, объявила, что порывает со своим женихом, потому что слишком сильно его любит. Действительно ли она это хотела сказать? Беннет научился скрывать свое недоумение и просто кивать. Потом он уходил к себе в комнату решать текстовые задачи. И думал, что каждому стоило бы научиться это делать.
Час ночи. Старик Талья ковыляет по двору, никем не наблюдаемый. Темный дом спит. Он медленно хромает в лунном свете. А вот еще откуда-то свет. Старик глядит налево, в окно второго этажа. Che diavolo, ci risiamo [1]1
Дьявол тебя побери ( ит.).
[Закрыть], бормочет он и идет дальше по дорожке.
Беннет сидит за столом. Они такие красивые, уравнения. Даже с виду красивые, но в уме красивее всего. Их точность и сила красивы, и Беннет, начиная понимать уравнение, испытывает то же чувство, что и при виде восходящей над деревьями луны. У него в уме сначала темно и тихо, а потом верхушки дальних деревьев начинают слегка светиться, бело и приглушенно, и белизна становится ярче, очерчивая силуэты деревьев, а потом появляется кусочек луны, и математика открывается как есть и сияет в своем совершенстве. Час ночи, но он еще не устал. Он черпает силы в себе самом. Ему не надо идти в библиотеку, не надо искать информации и помощи у товарищей или взрослых. Он просто может сидеть себе голым за столом, где лежит чистая белая бумага, и работать с абсолютной уверенностью, в одиночестве, в совершенстве. Мысленно скользя по миру, он не переживает из-за своего маленького роста, или прыщей, или трудностей в разговоре, или недоумения от чужих слов. Это мир без тел. Это мир чистой логики и изящества. Это лучшая часть одиночества – та, в которой нет печали.








