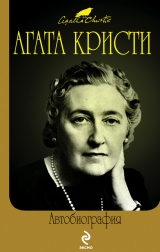
Текст книги "Автобиография"
Автор книги: Агата Кристи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Глава вторая
Меня вдруг пронзило ужасное подозрение: насколько богатыми можем показаться и я, и все мое окружение. Ведь в наши дни только богатым по карману вести такой образ жизни, между тем как все мои друзья происходили из семей самого скромного достатка. Ни у кого из них, естественно, не было ни выезда, ни лошадей, не говоря уже об истинном свидетельстве богатства – автомобилях, о которых мы не смели мечтать.
У девушек, как правило, было не больше трех выходных платьев, и они носили их несколько лет. Шляпы каждый сезон подкрашивали специальной краской из бутылочки за один шиллинг. Мы ходили на вечеринки, теннисные соревнования, хотя, чтобы отправиться на танцы за город, приходилось нанимать кэб. В Торки частные приемы устраивались не слишком часто, в основном на Рождество и Пасху. В августе приглашали погостить по случаю регаты и потом уже остаться на заключительный бал; в нескольких богатых домах тоже обычно устраивали балы в это время. В июне и июле я несколько раз ездила танцевать в Лондон – не слишком часто, потому что в Лондоне у нас было не так уж много знакомых. Впрочем, можно было поехать на так называемые танцы по записи, начинавшиеся обычно в шесть часов. Все это не требовало больших расходов.
Проводились приемы и в загородных домах. Помню, как впервые, изрядно нервничая, я отправилась в Уорвикшир, к друзьям, заправским охотникам. Констанс Рэлстон Патрик, жена хозяина, не охотилась сама; в запряженной пони коляске она объезжала всех гостей, а я сопровождала ее. Мама строжайше запретила мне заниматься верховой ездой.
– Ты совершенно не умеешь ездить верхом, – заметила мне мама. – Страшно подумать, если ты покалечишь чью-нибудь дорогую лошадь.
Так или иначе, но никто и не предлагал мне сесть на лошадь. Оно и к лучшему.
Мой опыт верховой езды и охоты ограничивался Девонширом и заключался в том, чтобы вскарабкаться на какой-нибудь холм верхом на взятой напрокат лошади, привычной к неопытным наездникам. Она понимала куда больше меня, и я с удовольствием вверяла себя постоянной лошадке – чалой Крайди, неплохо справлявшейся с пологими холмами Девона. Само самой разумеется, я сидела в седле боком – едва ли кто-нибудь из женщин садился тогда на лошадь по-мужски. Сидеть по одну сторону луки седла было гораздо безопаснее. В первый раз, когда мне пришлось оседлать лошадь по-мужски, я испытала страх, о котором даже не подозревала.
Семейство Рэлстон Патрик было очень добрым ко мне. Они называли меня почему-то Розанчиком – наверное, потому, что вечером я обычно надевала платье розового цвета. Робин очень любил подразнить Розанчика, а Констанс давала мне материнские советы с дьявольским блеском в глазах. Когда я впервые приехала погостить к ним, их очаровательной маленькой дочери было три или четыре года, и я подолгу играла с ней. Констанс была прирожденной свахой, и теперь я понимаю, почему во время моих визитов она собирала самое изысканное мужское общество. Иногда я под шумок совершала верховые прогулки. Помню, однажды я носилась по полям с двумя друзьями Робина. Так как мы решили пуститься в эту прогулку в последний момент, у меня не оказалось времени даже надеть амазонку. Я была в легком летнем платье, с неподобранными волосами. Как и все девушки, я продолжала носить шиньон. Когда мы возвращались домой по проселочным улицам, прическа совершенно растрепалась, и при каждом шаге лошади я теряла один за другим свои локоны. Мне пришлось слезть, пойти обратно и подобрать их. Неожиданно это происшествие произвело самое благоприятное впечатление. Позднее Робин сказал мне, что один из самых знаменитых охотников Уорвикшира, звезда, одобрительно отозвался обо мне:
– Прекрасная девчушка гостит у вас. Мне понравилось, как она вела себя, когда потеряла все свои фальшивые локоны: как ни в чем не бывало. Вернулась назад и подобрала их совершенно спокойно, при этом умирала от смеха. Вот это спортсменка!
Поистине никогда не угадаешь, что может понравиться людям.
Другим источником наслаждения у Ралстон Патриков был принадлежавший им автомобиль. Не могу передать то чувство волнения, которое он вызывал в 1909 году. Сокровище и предмет любви Робина своими капризами и неполадками только еще больше усиливал страсть хозяина. Помню нашу экскурсию в Бэнбери. Мы снаряжались в эту поездку, по меньшей мере, так, как если бы отправлялись в экспедицию на Северный полюс. Большие меховые одеяла, обмотанные вокруг головы теплые шарфы, корзинки с провизией и так далее. Членами экспедиции были брат Констанс Билл, Робин и я. Мы нежно простились с Констанс; она поцеловала каждого из нас, настоятельно просила соблюдать осторожность и сказала, что если мы вернемся, нас будет ожидать горячий суп и всевозможные домашние радости. Бэнбери, должна заметить, находился в двадцати пяти милях от дома, но рассматривался как противоположная точка земного шара.
Семь миль мы проехали благополучно, не превышая скорости двадцать пять миль в час. Но это было только начало. Наконец мы прибыли в Бэнбери, сменив по дороге колесо и тщетно пытаясь найти где-нибудь гараж, поскольку гаражи в то время были большой редкостью. К семи часам вечера мы возвратились домой, измученные, продрогшие до костей и чудовищно голодные, так как расправились со своей провизией давным-давно. Я до сих пор думаю, что это был один из самых рискованных дней в моей жизни! Большую часть пути я провела, сидя у дорожной обочины на ледяном ветру, воодушевляя уткнувшихся в инструкцию Робина и Билла на борьбу с шинами, колесами, домкратом и прочими механическими приспособлениями, о которых они не имели ни малейшего понятия.
Однажды мы с мамой отправились в Сассекс обедать с Бартлотами. Брат леди Бартлот, мистер Анкател, тоже обедал с нами – у него был огромный и мощный автомобиль, запечатлевшийся в моей памяти как нечто очень длинное с торчащими во все стороны трубками. Завзятый автомобилист, мистер Анкател предложил отвезти нас обратно в Лондон.
– Нет никакого смысла ехать на поезде, – сказал он. – Что за гадость эти поезда. Я отвезу вас сам.
Я была на седьмом небе. Леди Бартлот дала мне одно из новшеств – специальную автомобильную фуражку – нечто среднее между шапочкой для яхтсменов и головным убором немецких офицеров времен империи, державшуюся на голове с помощью косыночки, завязанной под подбородком. Мы залезли в это чудовище, прикрылись пледами и полетели как ветер. В то время все машины были открытыми. Чтобы наслаждаться ездой, нужно было обладать изрядной смелостью. Впрочем, мужество требовалось и в других случаях – например, для занятий на фортепиано в разгар зимы в нетопленой комнате, после которых не страшен никакой ледяной ветер.
Мистер Анкател не удовольствовался скоростью двадцать миль в час, которая считалась относительно безопасной; думаю, мы мчались по дорогам Сассекса, делая сорок или пятьдесят. В какой-то момент он вдруг подскочил на своем сиденье и завопил:
– Нет, вы только посмотрите, только посмотрите туда, за изгородь! Видите парня, который там прячется? Ах ты, негодяй! Ах, мерзавец! Полицейская ищейка! Они всегда так делают: прячутся за изгородью, а потом выскакивают оттуда и штрафуют за превышение скорости.
С пятидесяти миль наша скорость резко упала до десяти, и так мы проехали всю остальную дорогу, под несмолкающие взрывы хохота и возгласы мистера Анкатела:
– Ну что, получил? Подавился?
Я находила мистера Анкатела несколько опасным субъектом, но его автомобиль обожала: ярко-красный, наводящий ужас монстр!
Позже я приехала к Бартлотам, чтобы посмотреть Гудвудские скачки. Кажется, это была единственная поездка на лоно природы, которая не доставила мне удовольствия. Я оказалась среди всецело поглощенной скачками толпы, говорящей на «беговом» языке со специфической терминологией, совершенно недоступной моему пониманию. Мое присутствие на скачках свелось к необходимости простоять немало часов в немыслимой, огромной, украшенной цветами шляпе, приколотой к волосам булавками, чтобы сие сооружение не унес ветер, в узких туфельках на высоченных каблуках, с распухшими от жары лодыжками. Время от времени я должна была изображать высшую степень энтузиазма, присоединяясь к воплям: «Вперед! Пошел!» – и подниматься на цыпочки, чтобы посмотреть, как четвероногие скрываются из вида.
Один из мужчин любезно предложил мне поставить за меня на какую-нибудь лошадь. Я страшно перепугалась. Но сестра мистера Анкатела, как истинная хозяйка, моментально одернула его.
– Не глупи, – сказала она, – девушки не должны делать ставки. – Потом она ласково обернулась ко мне: – Вот что я вам скажу. Вы будете получать пять шиллингов со всех моих ставок. И не обращайте ни на кого внимания.
Когда я обнаружила, что они ставят каждый раз по двадцать или двадцать пять фунтов, у меня в буквальном смысле волосы встали дыбом! Но хозяйки всегда проявляли щепетильность в вопросах, касающихся девичьих денег. Они знали, что мало у кого из девушек имелись лишние, чтобы выбрасывать их на ветер, – даже самые богатые получали на карманные расходы не больше пятидесяти или ста фунтов в год. Поэтому хозяйки не спускали с девушек глаз. Если их приглашали играть в бридж, то только при том условии, что кто-то ручался за них и брал на себя уплату долгов в случае проигрыша. Таким образом дебютанткам создавали ощущение вовлеченности в происходящее и освобождали от страха оказаться в долгу.
Первое посещение скачек отнюдь не воодушевило меня. Вернувшись домой, я сказала маме, что надеюсь никогда больше не услышать: «Вперед! Пошел!»
Но минул год, и я превратилась чуть ли не в болельщицу на бегах, начав кое в чем разбираться. Позднее вместе с семейством Констанс Рэлстон Патрик я бывала в Шотландии, где отец Констанс держал небольшой манеж; там я понемногу стала входить во вкус, меня брали на некоторые не слишком крупные скачки, которые мало-помалу увлекли меня.
Гудвуд, конечно, походил больше на праздничные гуляния, я бы сказала даже, на праздничный разгул: к некоторым развлечениям, розыгрышам и другим проказам определенного сорта я была непривычна. Гуляки врывались друг к другу в комнаты, выкидывали из окон вещи и визжали от смеха. Других девушек не было; на бегах встречались разве что молодые замужние женщины. Как-то ко мне в комнату вломился один старый полковник лет шестидесяти с воплями:
– А ну-ка, поиграем чуть-чуть с ребеночком! – выхватив из шкафа одно из моих вечерних платьев (оно в самом деле было похоже на детское – розовое в оборочках), он выкинул его из окна, приговаривая: – Ловите, ловите, трофей от самой молодой участницы!
Я ужасно расстроилась. Вечерние платья очень много значили для меня: я тщательно вешала их, всячески оберегала, холила и лелеяла, и вот одно вышвыривают из окна, как футбольный мяч. Сестра мистера Анкатела и еще одна дама бросились мне на помощь и приказали полковнику перестать издеваться над бедным ребенком. Я была по-настоящему счастлива покинуть этот праздник, хотя и вынесла из него кое-какие уроки для себя.
Среди других домашних праздников я вспоминаю грандиозный загородный прием в доме, который снимали мистер и миссис Парк-Лайл, – мистера Парк-Лайла обычно представляли как «сахарного короля». С миссис Парк-Лайл мы познакомились в Каире. Думаю, ей было тогда лет пятьдесят-шестьдесят, но даже вблизи она выглядела как двадцатипятилетняя красавица. До той поры мне еще никогда не приходилось встречать такого искусного макияжа; миссис Парк-Лайл, со своими темными, красиво уложенными волосами, изысканными чертами лица (сравнимого разве что с лицом королевы Александры), в одежде розовых и бледно-голубых тонов, всем своим обликом являла триумф искусства над природой. Полная обаяния, она наслаждалась обществом окружавших ее молодых людей.
Один из них, впоследствии убитый во время войны 1914 – 1918 годов, до известной степени завоевал мою симпатию. Хотя он уделял мне самое скромное внимание, я надеялась познакомиться с ним поближе. Тем временем я оказалась объектом преследования другого воина, отличного стрелка, который неизменно оказывался поблизости, настоятельно предлагая мне партнерство в теннисе, крокете и во всем остальном. День за днем во мне нарастало раздражение. Я позволяла себе иногда быть с ним грубой, он этого не замечал и продолжал спрашивать меня, читала ли я ту или иную книгу, не прислать ли мне ее. Не собираюсь ли я в Лондон? Не пойти ли нам посмотреть поло? Отказы нисколько не обескураживали его. Когда наступил день отъезда, я собиралась выехать самым ранним поездом, чтобы в Лондоне успеть на пересадку в Девон. После завтрака миссис Парк-Лайл сказала мне:
– Мистер С. (не могу сейчас припомнить его имени) хочет отвезти вас на станцию.
К счастью, это было совсем недалеко. Я бы, конечно, предпочла поехать на автомобиле Парк-Лайлов (разумеется, им принадлежал целый автомобильный парк), но, думается, мистеру С. дала совет предложить мне свои услуги сама хозяйка, желая, видимо, доставить мне удовольствие. Как она ошибалась!
Так или иначе, мы приехали на станцию, прибыл поезд, и мистер С. усадил меня в уголке пустого купе второго класса. Я самым дружеским образом попрощалась с ним, испытывая облегчение от того, что теперь долгое время не увижу его. Но не успел поезд тронуться, как ручка повернулась, дверь открылась, и он возник в проеме, тщательно закрыв за собой дверь.
– Я тоже еду в Лондон, – сказал он.
Я смотрела на него, открыв рот от изумления.
– Но ведь у вас нет никакого багажа.
– Да, но это совершенно неважно. – Он сел напротив меня, склонился вперед, положил руки на колени и впился в меня страстным яростным взором. – Я хотел отложить все до нашей встречи в Лондоне, но понял, что не могу больше ждать. Я должен сказать вам все сейчас. Я безумно влюблен. Вы обязаны выйти за меня замуж. С самого первого мгновенья, как я вас увидел, спустившись обедать, я понял, что на свете для меня не существует женщин, кроме вас.
Прошло некоторое время, прежде чем мне удалось остановить поток слов и произнести ледяным тоном:
– Это очень любезно с вашей стороны, мистер С., я в самом деле польщена и ценю ваше отношение, но, боюсь, ответом будет «нет».
Около пяти минут он протестовал, настаивая хотя бы на том, чтобы отложить решение, оставаться до времени друзьями и продолжать встречаться.
– Было бы намного лучше, – ответила я, – совсем больше не встречаться. Я не изменю своего решения.
Нахмурившись, он откинулся назад. Вы можете себе представить более неловкую ситуацию? Мы оказались запертыми вдвоем в пустом купе – в те времена в вагонах не было коридоров, и нам предстояло вместе провести по меньшей мере два часа пути до Лондона, хотя тема разговора была исчерпана.
Вспоминая мистера С., я до сих пор испытываю к нему острую неприязнь, и у меня не возникает даже тени признательности, которую, согласно одной из максим Бабушки, должна чувствовать девушка в ответ на любовь порядочного человека. Уверена, он был порядочным человеком, и, быть может, именно от этого столь унылым.
Еще один выезд за город, который я совершила, тоже был связан со скачками. На этот раз я отправилась погостить к старым друзьям моей крестной матери в Йоркшир, мистеру и миссис Мэтьюз. Миссис Мэтьюз отличалась чрезвычайной словоохотливостью, довольно, надо сказать, утомительной. К тому времени, как у них затевался праздник, я уже достаточно освоилась на бегах и даже начала получать удовольствие от них. Более того, – совсем уж глупо упоминать об этом, но именно такие пустяки обычно лезут в голову, – мне купили новый костюм (жакет и юбку) для верховой езды. Я безумно нравилась себе в нем: он был сшит из зеленовато-коричневого твида отменного качества у одного из лучших портных. Мама сказала, что в таких случаях не надо экономить деньги, так как вещи прослужат долго. Костюм оправдал возложенные на него надежды; я проносила его не меньше шести лет: длинный жакет с бархатными отворотами и хорошенькая маленькая шляпка, в тон бархату, с птичьим перышком. Фотографий, запечатлевших меня в этом костюме, не сохранилось; а если бы и сохранились, то теперь я, наверное, показалась бы себе смешной, но тогда я чувствовала себя привлекательной, спортивной и прекрасно одетой!
Я оказалась наверху блаженства во время пересадки (наверное, на обратном пути из Чешира от Мэдж). Дул пронизывающий ветер, и вокзальный смотритель подошел и предложил мне подождать поезд у него в доме.
– Может быть, вашей служанке было бы спокойнее занести сюда вашу шкатулку с драгоценностями?
Естественно, я никогда в жизни не путешествовала со служанкой и не собиралась, – не было у меня в помине и ларца с драгоценностями, но я была без ума от такого обращения, объяснявшегося исключительно красотой моей шляпки. Я ответила, что на этот раз путешествую без служанки, – я была просто не в силах не произнести «на этот раз», потому что иначе неизбежно упала бы в его глазах, – но с большой благодарностью приняла любезное предложение и села у прекрасного камина, обмениваясь с хозяином разными банальностями, касающимися погоды. Пришел поезд, и меня с большими церемониями проводили на место. Конечно же дело было только в костюме и шляпе, потому что я ехала вторым классом, и ничто, кроме моего костюма, не могло навести на мысль о возможном богатстве или влиятельности.
Мэтьюзы жили в доме под названием Торп Арч-Холл. Мистер Мэтьюз, значительно старше своей жены, должно быть, лет семидесяти, – о, он был изумительный, со своей копной абсолютно седых волос! – страстно любил скачки, а в свое время и охоту.
В высшей степени преданный своей жене, он временами приходил в крайнее раздражение. Вспоминая его, сразу слышу, как он говорит:
– Черт побери, оставь меня в покое, черт, черт, оставь меня в покое, Эдди!
Миссис Мэтьюз была олицетворением бесцеремонности и неугомонности, она трещала и суетилась с утра до ночи. Несмотря на свою доброту, она порой становилась невыносима и в конце концов до того заговорила бедного старого Томми, что он пригласил постоянно жить с ними своего старого друга – полковника Валленстайна. Злые языки в графстве любили посудачить на эту тему и называли его не иначе, как «другим мужчиной» или любовником жены мистера Мэтьюза. Полковник оказался глубоко ей преданным, – думаю, это была главная страсть всей его жизни, – Эдди Мэтьюз всегда держала его в повиновении, позволив оставаться удобным платоническим другом с романтической подоплекой. Так или иначе, но она жила счастливейшей жизнью в окружении двух преданных мужчин. Они оба потворствовали ей, льстили и всегда во всем угождали.
Именно во время своего пребывания в этой семье я познакомилась с Ивлин Кокрэн, женой Чарльза Кокрэна, прелестным миниатюрным созданием, вылитой пастушкой дрезденского фарфора, с большими голубыми глазами и золотыми волосами. Она ходила в изящных, совершенно не подходящих для сельской жизни туфельках; о чем Эдди не позволяла забыть ей ни на минуту, упрекая Ивлин с утра до вечера:
– В самом деле, Ивлин, дорогая, как же вы не захватили с собой подходящих туфель?! Вы только посмотрите на эти тонюсенькие подошвы, здесь же не Лондон!
Ивлин печально смотрела на нее своими голубыми глазами. Большую часть жизни она проводила в Лондоне, совершенно поглощенная своей актерской профессией. Я узнала от нее, что в свое время она выпрыгнула из окна, чтобы убежать с Чарльзом Кокрэном, которого ее семья категорически не одобряла.
Она обожала его – такое обожание редко встретишь. Если она уезжала, то писала ему каждый божий день. Уверена, что несмотря на изрядное количество приключений, он тоже всегда любил ее. Ей пришлось очень много страдать, потому что при такой любви муки ревности поистине невыносимы. Но так любить всю жизнь одного человека – это привилегия, и неважно, если приходится расплачиваться долготерпением.
Своего дядю, полковника Валленстайна, Ивлин терпеть не могла. Не выносила она и Эдди Мэтьюз, зато находила достаточно очарования в старом Томе Мэтьюзе.
– Никогда не любила дядю, – призналась она мне, – такой зануда. Что до Эдди, то это самая невыносимая и глупая женщина на свете. Она не в состоянии никого оставить в покое – брюзжит, руководит, наставляет – не дает жить.
Глава третья
Ивлин пригласила меня приехать к ней в Лондон. Робея, я поехала и неописуемо разволновалась, оказавшись в самой гуще театральных пересудов.
Наконец я начала немного разбираться в живописи и увлекаться ею. Чарлз Кокрэн страстно любил живопись. Когда я впервые увидела у него балерин Дега, во мне шевельнулось чувство, о существовании которого я и не подозревала.
Обычай водить девочек в картинные галереи в обязательном порядке в слишком юном возрасте достоин самого серьезного осуждения. Он не приносит желаемого результата, если только художественные склонности не заложены от природы. Более того, на новичка либо на человека, лишенного художественного чутья, сходство друг с другом великих мастеов производит гнетущее впечатление. Мне навязывали искусство, сначала заставляя изучать рисунок и живопись, когда мне это не доставляло ни малейшего удовольствия, а потом накладывая на меня некое моральное обязательство приходить в восторг от того, что мне показывали.
В Лондон периодически наезжала моя близкая приятельница из Америки, племянница моей крестной матери, миссис Салливэн, и Пирпонта-Моргана – страстная поклонница живописи, музыки и всех прочих видов искусства. Очаровательная Мэй страдала от ужасного недуга: у нее был зоб. Во времена ее молодости – впервые я встретила Мэй, когда ей было уже около сорока лет, – против зоба не существовало никаких средств: хирургическое вмешательство считалось опасным для жизни. Однажды, приехав в Лондон, Мэй сказала маме, что собирается в Швейцарию оперироваться.
Она уже договорилась обо всем. Знаменитый хирург, специализировавшийся на операциях щитовидной железы, сказал ей:
– Мадемуазель, я бы никогда не предложил этой операции ни одному мужчине: ее можно делать только с местным обезболиванием, потому что во время операции больной должен все время говорить. Мужские нервы не выдерживают такого испытания, но у женщин хватает мужества. Операция продолжается больше часа, и все это время вы должны говорить. Сумеете ли вы выдержать?
Мэй подумала минуту или две, а потом, глядя ему в глаза, твердо сказала, что сумеет.
– Думаю, Мэй, вы приняли правильное решение, надо попытаться, – сказала мама. – Вам предстоит немало помучиться, но если операция пройдет с успехом, ваша жизнь изменится настолько, что померкнут все страдания.
Через некоторое время из Швейцарии пришло письмо от Мэй: операция прошла успешно. Она уже вышла из больницы и теперь находится в семейном пансионе во Фьезоле, рядом с Флоренцией. Здесь ей предстоит пробыть около месяца, а затем она снова отправится в Швейцарию на обследование. Мэй просила маму разрешить мне провести с ней это время, посмотреть Флоренцию – скульптуру, живопись, архитектуру. Мама согласилась и предприняла соответствующие шаги для моего отъезда. Я была очень взволнованна, – конечно, мне было всего шестнадцать.
При посредничестве агентства Кука меня поручили некоей даме, которая вместе со своей дочерью отправлялась с вокзала Виктория этим же поездом. Мне повезло, потому что мои попутчицы не выносили езды против хода поезда. И поскольку мне это было совершенно безразлично, я получила в свое распоряжение всю противоположную сторону купе и могла спокойно вытянуться на своей полке. Никому из нас не пришла мысль о разнице во времени, и посему, когда на рассвете мне надо было делать пересадку, я спала глубоким сном. Кондуктор выволок меня на платформу под прощальные выкрики матери и дочери. Схватив свой багаж, я помчалась на другой поезд и покатила среди гор Италии.
Служанка Мэй, Стенджел, встретила меня во Флоренции, и мы с ней сели на трамвай, идущий во Фьезоле. Был чудесный день. Цвели миндаль и персиковые деревья, их голые ветви были сплошь покрыты нежными белыми и розовыми цветами. Мэй ждала нас на вилле и вышла навстречу, сияя лучезарной улыбкой. Никогда не приходилось мне видеть женщину, которая выглядела бы такой счастливой. Странно, под ее подбородком уже не висел этот уродливый кусок плоти. Как и предупреждал доктор, ей пришлось проявить незаурядное мужество. Час двадцать, рассказывала мне Мэй, она провела на операционном столе, со связанными и поднятыми выше уровня головы ногами, а хирурги в это время кромсали ей горло, и она разговаривала с ними, отвечая на вопросы с искаженным от боли лицом. После операции доктор поздравил Мэй: он сказал, что она относится к числу самых отважных женщин из всех, кого он видел в жизни.
– Но, месье, – ответила ему Мэй, – должна признаться вам, что я еле-еле выдержала, в конце мне хотелось кричать, биться в истерике, плакать и просить прекратить все это немедленно, я уже не могла больше.
– Да, – сказал доктор, – но вы не сделали этого. Вы отважная женщина, говорю вам.
Мэй была теперь невероятно счастлива и горела желанием сделать мое пребывание в Италии как можно более приятным. Иногда она отправляла со мной Стенджел, но чаще за мной во Фьезоле приезжала молодая итальянка, специально для этого нанятая Мэй. В Италии сопровождать молодых девушек считалось еще более обязательным, чем во Франции. И в самом деле, я испытывала определенный дискомфорт, зажатая в трамвае между пламенными итальянскими юношами, – и правда не так уж приятно. Именно тогда мне и вкатили огромную дозу картинных галерей и музеев. Но я, как истинная сладкоежка, всегда больше всего была озабочена трапезой, которая предстояла мне в patisserie перед возвращением во Фьезоле.
К концу моего пребывания Мэй тоже нередко сопровождала меня в художественном паломничестве, и я прекрасно пом-ню, что в последний день перед моим возвращением в Англию она категорически настаивала на том, чтобы я посмотрела потрясающую «Екатерину Сиенскую», только что отреставрированную. Кажется, это было в Уффици, и мы с Мэй промчались по всем залам галереи в тщетных попытках найти ее. «Святая Екатерина» не слишком занимала меня. Я уже по горло была сыта Святыми Екатеринами и бесчисленными Святыми Себастьянами с их пронзенным стрелой бедром. Я уже не знала, куда деваться от всех этих святых и их неприятной манеры принимать смерть. Я объелась также самодовольными Мадоннами, в особенности Рафаэля.
Честно признаюсь, что теперь, когда я пишу эти строки, мне страшно стыдно за то, какой дикаркой я была тогда: вкус к старым мастерам приходит со временем, это бесспорная истина. Пока мы носились в поисках Святой Екатерины, беспокойство во мне нарастало. Останется ли время, чтобы пойти в patisserie и поесть наконец изумительные шоколадные пирожные со взбитыми сливками и великолепные gateais. Я все время говорила:
– Честное слово, Мэй, мне это не так уж важно, не будем больше искать. Я видела уже столько картин со Святой Екатериной!
– Но эта особенная, Агата, дорогая моя, – когда ты ее увидишь, ты поймешь. И будет ужасно печально, если мы не найдем ее.
Я знала, что не пойму, но стеснялась сказать об этом Мэй. Однако фортуна мне благоприятствовала. Выяснилось, что картина будет выставлена только через несколько недель. Времени оставалось ровно столько, чтобы я успела набить рот шоколадом и пирожными перед тем, как сесть в поезд. Мэй без конца разглагольствовала о знаменитых шедеврах, и я горячо соглашалась с ней с полным ртом.
При такой бешеной любви к сладостям я должна была бы походить на раскормленного поросенка с толстыми щеками и заплывшими жиром глазками – вместо этого я представляла собой эфирное создание, хрупкое и невесомое, с большими мечтательными глазами. Увидев меня, можно было с легкостью предсказать раннюю смерть в состоянии духовного экстаза – точь-в-точь, как у героини викторианского романа. У меня все же хватило совести, чтобы оценить усилия Мэй в области моего художественного воспитания. На самом же деле мне очень понравился Фьезоле, но главным образом цветущий миндаль, и я вдоволь насладилась общением с Дуду, крошечной померанской собачкой, которая повсюду сопровождала Мэй и Стенджел. Дуду – маленький и очень умный песик. Мэй часто брала его с собой в Англию. В этих случаях его помещали в хозяйкину муфту, и, никем не замеченный, он благополучно пересекал границу.
На обратном пути в Нью-Йорк Мэй заехала в Лондон и продемонстрировала безупречную теперь шею. Мама и Бабушка беспрестанно рыдали и покрывали ее поцелуями; Мэй рыдала вместе с ними – невозможно было поверить, что ее мечта сбылась. Только после ее отъезда в Нью-Йорк мама сказала Бабушке:
– Как грустно, как невыразимо грустно понимать, что она могла сделать эту операцию пятнадцать лет тому назад. Эти нью-йоркские врачи давали ей плохие советы.
– Да, боюсь, что теперь уже слишком поздно, – задумчиво сказала Бабушка. – Она уже никогда не выйдет замуж.
Но, замечу с радостью, тут-то она и ошиблась.
Думаю, что Мэй печально примирилась с одиночеством и уж тем более и мысли не допускала, что выйдет замуж так поздно. Но несколько лет спустя она снова появилась в Англии в сопровождении духовного лица, регента одной из главных епархиальных церквей Нью-Йорка, отличавшегося глубокой искренностью и яркой индивидуальностью. Его предупредили о том, что ему осталось жить всего лишь год, но Мэй, всегда славившаяся своим религиозным рвением, неутомимая его прихожанка, выхлопотала для него разрешение показаться врачам в Лондоне. Она сказала Бабушке:
– Знаете, я просто уверена в том, что он выздоровеет. В нем очень нуждаются, очень. Он выполняет в Нью-Йорке потрясающую миссию. Ему удается обращать в истинную веру гангстеров и картежников, он не боится посещать самые зловещие и опасные места, публичные дома, он не страшится ни общественного мнения, ни побоев, и ему удается склонить на свою сторону самые неисправимые натуры.
Однажды Мэй привезла его на обед в Илинг. Во время следующего визита Бабушка, прощаясь с ней, сказала:
– Вы знаете, Мэй, этот человек влюблен в вас.
– Что вы такое говорите, тетушка, – воскликнула Мэй, – как это только могло прийти вам в голову?! Он и не помышляет о браке. Он убежденный холостяк.
– Может, он и был таким раньше, – сказала Бабушка, – но не думаю, чтобы остался. И что это за ерунда насчет холостяцких убеждений. Он не католик. Вы нравитесь ему, Мэй.
Мэй казалась совершенно шокированной.
Однако через год она написала нам, что Эндрю выздоровел и что они собираются пожениться. Это был на редкость счастливый брак. Нельзя даже представить себе, чтобы нашелся человек, который был бы добрее, ласковее и внимательнее к Мэй.








