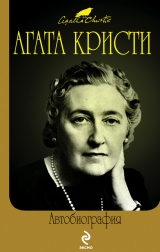
Текст книги "Автобиография"
Автор книги: Агата Кристи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Часть вторая
«Пора не пора – иду со двора»
Глава первая
Не задумавшись над прошлым, никогда не восстановишь правильного представления о необыкновенном взгляде на мир, свойственном ребенку. По сравнению со взрослым он смотрит на окружающее совсем под другим углом зрения.
Дети способны на проницательные оценки происходящего, точные суждения о характерах, но понятия «как» и «почему» ускользают от них полностью.
Наверное, мне было около пяти лет, когда папа впервые столкнулся с финансовыми трудностями. Сын богатого человека, он пребывал в уверенности, что регулярный доход обеспечен ему навсегда. Дедушка осуществил ряд сложных операций по размещению капитала. Распоряжения входили в силу после его смерти. Из четырех опекунов имущества один был очень стар и, я думаю, давно уже отошел от дел, другой попал в психиатрическую больницу, а двое оставшихся, находясь в весьма почтенном возрасте, умерли вскоре после дедушки. Предусматривалось и право сына распоряжаться собственностью. Не знаю, что послужило причиной дальнейшего – абсолютная неумелость или то, что в ходе перемещения капитала кому-то удалось обратить его в свою пользу. В любом случае финансовая ситуация становилась хуже с каждым днем.
Папа, озадаченный и подавленный, не будучи деловым человеком, совершенно не знал, что делать. Он писал одному «дорогому старине» Такому-то и другому «дорогому старине» Такому-то, и они отвечали ему, то успокаивая, то ссылаясь на ухудшение положения на бирже, обесценивание бумаг или еще что-то в этом роде. В это время папа получил наследство от старой тетушки и, насколько я понимаю, оно выручило его года на два, между тем как законный доход так и уплыл.
Примерно в это же время стало ухудшаться и его здоровье. Папа уже давно страдал так называемыми сердечными приступами – весьма общее понятие, под которым может скрываться все что угодно. Думаю, угроза разорения подорвала его организм. В качестве безотлагательных мер было принято решение экономить. Испытанным средством в те далекие времена считалась поездка на некоторое время за границу. И вовсе не из-за налогов, как теперь; насколько я понимаю, налоги составляли шиллинг с фунта – просто за границей жизнь была гораздо дешевле. Смысл отъезда состоял в том, чтобы сдать дом вместе со слугами за хорошие деньги, уехать на юг Франции и поселиться в скромном отеле.
Если память мне не изменяет, это переселение произошло, когда мне было шесть лет. Эшфилд сдали, кажется, американцам, за внушительную сумму, и семья начала готовиться к отъезду.
Нам предстояло переехать на юг Франции, в По. Естественно, я была в восторге от этой перспективы. Мы поедем, говорила мне мама, в такое место, где увидим горы. Я задавала кучу вопросов. «Они очень-очень высокие? Выше, чем колокольня церкви святой Марии?» – спрашивала я с огромным интересом. Выше колокольни святой Марии я ничего не видела. Да, горы гораздо, гораздо выше. Они поднимаются на сотни, тысячи футов. Я убегала в сад с Тони, захватив с собой огромную горбушку хлеба, выклянченную в кухне у Джейн, и, не переставая грызть ее, принималась обдумывать все это, пытаясь представить себе горы. Я запрокидывала голову и смотрела в небо. Вот какие будут горы – вверх, вверх, вверх, пока не утонут в облаках. От этой мысли все во мне замирало. Мама любила горы. «К морю я совершенно равнодушна», – часто слышали мы. Горы, конечно же, думала я, станут чем-то великим в моей жизни.
Единственным, что омрачало будущую поездку за границу, была предстоящая разлука с Тони. Само собой разумеется, Тони не собирались оставить дома; его доверяли бывшей горничной по имени Фрауди, которая вышла замуж за плотника, жила неподалеку от нас и выразила полную готовность взять Тони. На прощание я покрыла Тони поцелуями, а он со всей неистовостью облизал мне лицо, шею и руки.
Путешествие за границу в те времена по сравнению с теперешними происходило невероятно просто. Естественно, не было никаких паспортов, и не нужно было ничего заполнять. Вы покупали билеты, резервировали места в спальном вагоне, и все. Проще простого. Но Сборы! (заглавная буква должна дать некоторое представление о том, что это обозначало). Не знаю, из чего состоял багаж остальных членов семьи; я хорошо помню, что брала с собой мама. Начнем с трех огромных сундуков с выпуклыми крышками. Самый большой, высотой в четыре фута, был внутри двухэтажным. Далее шли шляпные коробки, гигантские квадратные кожаные чемоданы, три дорожных баула американского происхождения, которые в те времена часто можно было увидеть в коридорах отелей. Они тоже были огромные и, подозреваю, чрезвычайно тяжелые.
По меньшей мере за неделю до отъезда мамину спальню уже загромождали сундуки. Так как мы были недостаточно богаты для того, чтобы мама имела собственную горничную, она занималась приготовлениями к отъезду сама. Но прежде чем начать собираться, мама должна была произвести некое предварительное мероприятие: все разобрать. Шкафы стояли с распахнутыми дверцами, комоды с выдвинутыми ящиками; среди них сновала мама, «разбирая» и сортируя искусственные цветы и великое множество разрозненных предметов, которые она называла «мои лоскутки» и «мои драгоценности». На то, чтобы уложить все это в соответствующие отделения, уходила уйма времени.
Теперь мы называем драгоценностями несколько «настоящих» (две-три) и массу побрякушек. В те времена подделки считались свидетельством дурного вкуса, разве что это была случайная, редкая старинная брошка. Настоящие драгоценности мамы состояли из «моей бриллиантовой пряжки, моего бриллиантового полумесяца и моего бриллиантового обручального кольца». Остальные украшения тоже были «настоящие», но сравнительно недорогие. Тем не менее они возбуждали в нас напряженный интерес. Там было «мое индийское ожерелье, мой флорентийский гарнитур, мое венецианское колье, моя камея» и т. д., не говоря о шести брошках, которые в особенности привлекали наше с Мэдж внимание: рыбки – пять маленьких бриллиантовых рыбок, омела – маленький бриллиант, оправленный жемчужинами, пармская фиалка – эмалевая брошь в форме фиалки, «моя роза шиповника», тоже в форме цветка – из розовой эмали, окруженная бриллиантовыми листиками, и, наконец, самая любимая, «ослик», жемчужина неправильной формы, оправленная в бриллианты в виде ослиной головки. Каждая была уже предназначена в будущем кому-то из нас, согласно маминому завещанию. Мэдж должна была получить пармскую фиалку (ее любимый цветок), бриллиантовый полумесяц и ослика. Мне же достанутся роза, бриллиантовая пряжка и омела. Эти посмертные дары совершенно спокойно обсуждались в нашей семье и не вызывали никаких печальных ассоциаций со смертью – лишь горячую признательность.
Эшфилд буквально ломился от написанных маслом картин, купленных папой. В те дни было модным как можно более тесно увешать картинами стены. Одна была выделена мне: огромное полотно, изображающее море и молодую жеманную даму, поймавшую в сети мальчика. Я воспринимала ее как высшее воплощение красоты, и сейчас, когда пришло время сортировать картины для продажи, мне очень грустно думать о том, насколько жалкими были мои представления о прекрасном. Даже из сентиментальных соображений оставить что-нибудь на память я не сохранила ни одной. Вынуждена констатировать, что у папы всегда был очень плохой вкус в живописи.
С другой стороны, вся мебель, которую он покупал, – это просто чудо. Папа был одержим любовью к старинной мебели, и шератоновские столы, и стулья в стиле чиппендейл, которые он покупал по дешевке, радовали душу и тело и впоследствии так возросли в цене, что после папиной смерти мама успешно боролась с угрозой нищеты, продавая в немалом количестве лучшие предметы обстановки.
И папа, и мама, и Бабушка со всей страстью коллекционировали фарфор. Когда Бабушка переехала жить к нам, она привезла с собой свой дрезденский и итальянский фарфор Капо ди Монте. Наши буфеты и так ломились от посуды, поэтому пришлось заказать новый, чтобы разместить в нем бабушкины сервизы. Семья, без всяких сомнений, состояла из коллекционеров, и я унаследовала эту черту. Неприятность заключается в том, что если вы унаследовали коллекцию фарфора или мебели, это лишает вас радости начать коллекционировать. Как бы то ни было, страсть коллекционера нуждается в удовлетворении, и я собрала внушительный ассортимент вполне красивой мебели из папье-маше и безделушки, которых не было в коллекциях моих родителей.
В день отъезда я так разволновалась, что едва не заболела, при этом не проронила ни слова, как будто набрала в рот воды. Когда происходит что-то действительно захватывающее, я обычно теряю дар речи. Первое, что я отчетливо вспоминаю об этой поездке за границу, – это как мы вступаем на борт корабля в Фолкстоуне. Мама и Мэдж отнеслись к переправе через Ла Манш со всей серьезностью. Ни та ни другая не переносили морских путешествий. Они немедленно удалились в дамский салон, легли и закрыли глаза, лелея надежду пересечь воды, отделяющие их от Франции, избежав самого страшного. Я же, несмотря на достаточно печальный опыт со шлюпкой Монти, была убеждена в том, что покажу себя хорошим моряком. Папа подбадривал меня, укрепляя в этой вере, и я осталась с ним на палубе. Плавание прошло наилучшим образом, но заслуга здесь принадлежала мне, а не морю; я оказала качке достойное сопротивление. Мы прибыли в Булонь, и так приятно было услышать, как папа сказал:
– Агата – великолепный моряк.
Следующее волнующее событие – это ночь, проведенная в поезде. Мы с мамой ехали в купе вдвоем, и я забралась на верхнюю полку. Мама всегда питала страсть к свежему воздуху, и поэтому жара в спальном вагоне была для нее истинной пыткой. Помнится, ночью я проснулась и увидела, как мама, опустив вагонное стекло, жадно вдыхает ночной воздух.
Ранним утром мы приехали в По. Нас уже ждал омнибус отеля «Босежур», и мы забрались туда; наш восемнадцатиместный багаж следовал отдельно. И вот мы в отеле. Большая терраса выходила на Пиренеи.
– Вот! – сказал папа. – Видишь? Это Пиренеи. Со снежными вершинами.
Я посмотрела. Меня ждало одно из самых тяжелых разочарований в жизни, этого чувства я никогда не забуду. Где же эти громады, взмывающие вверх, вверх, вверх, до самого неба? Высь над моей головой – за пределами видимого или постижимого? Вместо этого я увидела на горизонте нечто напоминающее торчащие зубы, в лучшем случае поднимающиеся на один или два дюйма над уровнем земли. Это «это»? Это горы? Я ничего не сказала, но до сих пор ощущаю это чудовищное разочарование.
Глава вторая
Нам предстояло провести в По около шести месяцев. У меня началась совершенно новая жизнь. Папа, мама и Мэдж немедленно погрузились в лихорадочную деятельность. У папы оказалось немало американских друзей в этих местах. К тому же он завел многочисленные знакомства в отеле, и мы привезли с собой рекомендательные письма в разные другие отели и pensions.
Чтобы присматривать за мной, мама пригласила приходящую гувернантку – девушка была англичанкой, но всю жизнь прожила в По и говорила по-французски так же хорошо, как по-английски, если не лучше. Планировалось, что с ее помощью я выучу французский. Но из этого ничего не вышло. Мисс Маркхем приходила за мной каждое утро, вела меня на прогулку и всячески привлекала мое внимание к вывескам, которые встречались по дороге.
Я послушно повторяла все эти слова, но когда мне нужно было что-нибудь спросить, я задавала вопрос на английском языке, и мисс Маркхем отвечала мне тоже по-английски. Насколько я помню, эти долгие прогулки тяготили меня: бесконечное хождение в обществе мисс Маркхем, милой, ласковой, добросовестной, но очень скучной.
Мама немедленно решила, что с мисс Маркхем толка не получится и мне нужно регулярно заниматься с француженкой, которая будет приходить каждый день. Новое приобретение называлось мадемуазель Моура. Это была высокая крепкая особа, увешанная множеством коричневых пелеринок.
Как полагалось в те времена, все комнаты, в том числе в отеле, ломились от мебели и разных безделушек. Всего этого было слишком много. Мадемуазель Моура отличалась неуклюжестью. Она неловко передвигалась по комнате, дергала плечами, жестикулировала и рано или поздно неизбежно задевала какую-нибудь вазочку, которая падала и разбивалась. Шуткам и веселью по этому поводу не было конца. Папа говорил:
– Она напоминает мне птичку, которая у тебя была, Агата, Дафну. Большая, неловкая – помнишь? – она всегда опрокидывала свою кормушку.
Мадемуазель Моура, невероятно словоохотливая, изливала на меня стремительный поток своих чувств и вызывала робость. Мне становилось все более тягостно отвечать на ее бесконечные взвизгивания: Oh, la ch'ere mignonne! Quelle est gentille cette petite! Oh, la ch'ere mignonne! Nous allons prendre des lecons tr'es amusantes, n'est-ce pas?
В ответ я молча и холодно смотрела на нее. Потом, под требовательным взглядом мамы с трудом выдавливала: «Merci», чем и ограничивался мой французский язык на то время.
Уроки тем не менее протекали в приятной атмосфере. Как всегда, я отличалась одновременно прилежностью и тупостью. Мама, любившая быстрые результаты, была не удовлетворена моими успехами.
– Она совершенно не продвигается так, как могла бы, Фред, – жаловалась мама папе.
Папа, неизменно доброжелательный, отвечал:
– О, Клара, дай ей время, дай ей время. Эта женщина здесь всего десять дней.
Но терпение не принадлежало к числу маминых добродетелей. Кульминация наступила, когда я заболела какой-то легкой детской болезнью, сперва, видимо, подхватив местный грипп. У меня поднялась температура, я была в плохом настроении; и даже потом, уже идя на поправку, – у меня оставалась лишь небольшая температура – я совершенно не могла выносить мадемуазель Моура.
– Пожалуйста, – просила я, – пожалуйста, не надо сегодня урока, я не хочу.
Когда на то были серьезные причины, мама всегда шла на уступки. Она согласилась. В обычный час явилась мадемуазель Моура, во всех своих пелеринах и с прочими атрибутами. Мама объяснила, что у меня еще держится жар, я не выхожу из дому, и было бы лучше отменить урок. В тот же миг мадемуазель бросилась ко мне, заколыхалась надо мной, дергая локтями; пелерины развевались, она дышала мне в шею:
– О, бедная моя крошка! Бедная крошка!
Она предложила мне почитать, рассказать что-нибудь интересное – надо же развлечь «это бедное дитя».
Я бросила на маму отчаянный взгляд. Ни минуты больше я не могла этого вынести. Мадемуазель Моура кудахтала вовсю – голос ее звучал уже на самых высоких нотах. «Уведите ее, – молила я взглядом, – ради всего святого, уведите ее!» Не допуская никаких возражений, мама, взяв мадемуазель Моура под руку, увлекла ее к двери.
– Думаю, будет лучше, если Агата отдохнет сегодня.
Проводив француженку, мама вернулась и погрозила мне пальцем:
– Все это очень мило, но совершенно незачем было строить такие ужасные гримасы.
– Какие гримасы?
– Да ты все время обезьянничала, глядя на меня. Мадемуазель Моура прекрасно поняла, что тебе хотелось, чтобы она ушла.
Я расстроилась. Мне совсем не хотелось прослыть невежливой.
– Но, мамочка, – возразила я, – я же строила гримасы не по-французски, а по-английски!
Мама рассмеялась и начала объяснять, что, когда корчишь рожицы, то говоришь на неком едином международном языке и понять его может кто угодно. Тем не менее отцу она сообщила, что я не очень-то преуспела в своих занятиях с мадемуазель Моура и она начинает подыскивать ей замену. Папа согласился, что это избавит нас в будущем от многих неприятностей. «На месте Агаты, – добавил он, – я бы не смог вынести эту женщину».
Избавившись от забот мисс Маркхем и мадемуазель Моура, я начала развлекаться сама. В нашем отеле жила миссис Селвин, вдова или, может быть, невестка епископа Селвина, с двумя дочерьми, Дороти и Мэри. Дороти (Дар) была на год старше меня, а Мэри на год младше. Вскоре мы стали неразлучны.
Предоставленная себе, я всегда вела себя хорошо и слушалась взрослых, но, оказываясь в компании детей, проявляла полную готовность к любым шалостям. Особенно мы втроем досаждали несчастным официантам во время table dhоte. Однажды мы заменили соль на сахар во всех солонках. В другой раз вырезали из кожуры апельсинов поросят и положили всем в тарелки как раз перед тем, как позвонили к табль-доту.
Никогда в жизни я больше не встречала таких добрых людей, как французские официанты. В особенности наш Виктор, квадратный маленький человечек с длинным подергивающимся носом. От него исходил чудовищный запах (мое первое знакомство с чесноком). Несмотря на все наши проказы, он нисколько не сердился и все прощал. Не говоря уже о том, что Виктор вырезал нам из редиски восхитительных мышек. И если нам ни разу не влетело как следует за все наши проделки, то только благодаря Виктору, который никогда не жаловался на нас ни хозяевам, ни родителям.
Дружба с Дар и Мэри значила для меня гораздо больше, чем прежние отношения со сверстниками. Наверное, я как раз достигла того возраста, когда играть вместе стало несравненно интереснее, чем одной. Мы с наслаждением проказничали всю зиму.
Конечно, номера, которые мы постоянно откалывали, не проходили безнаказанно, но только один раз мы испытали праведный гнев по поводу последовавшего наказания.
Как-то мама и миссис Селвин сидели вместе и весело разговаривали, когда горничная принесла им записку. «С почтением от бельгийской леди, которая живет в другом крыле отеля. Известно ли миссис Селвин и миссис Миллер, что их дети ходят по карнизу на четвертом этаже?»
Вообразите себе чувства двух матерей, которые поспешили во двор, посмотрели наверх и увидели три беззаботных фигурки, шатко балансирующие друг за другом на карнизе не больше фута в ширину. Нам и в голову не приходило, что это занятие было сопряжено с какой-то опасностью. Мы немножко перестарались, поддразнивая одну из горничных, и ей удалось заманить нас в кладовую, захлопнуть дверь и торжествующе повернуть ключ в замке. Мы страшно возмутились. Что мы могли сделать? В чулане было крошечное окошко, и, просунув в него голову, Дар сообщила, что, если удастся вылезти через него, то по карнизу можно дойти до угла, повернуть и добраться до какого-нибудь открытого окна. Сказано – сделано. Дар пролезла первой, за ней – я, за мной – Мэри. К нашему общему удовольствию, мы нашли, что ходить по карнизу абсолютно легко. Смотрели ли мы вниз с высоты четвертого этажа, я не помню, но даже если и посмотрели бы, полагаю, у нас бы не закружилась голова и мы не подумали бы, что можем упасть. Меня всегда поражало, с какой непринужденностью дети могут стоять на самом краю пропасти и не испытывать при этом ни малейшего головокружения.
Нам не пришлось идти слишком долго. Первые три окна, насколько я помню, были закрыты, но следующее, из ванной комнаты, оказалось открытым, и мы влезли в него, чтобы, к нашему удивлению, услышать приказ немедленно явиться в гостиную миссис Селвин. Обе мамы были вне себя. Мы не понимали почему. Нас отправили в постель на весь оставшийся день. Никакие доводы в защиту не принимались во внимание; нас даже не захотели выслушать. И напрасно.
– Но вы никогда не говорили нам, – наперебой пытались сказать мы, – вы никогда не говорили нам, что нельзя ходить по карнизу.
Тем временем мама по-прежнему была озабочена проблемой моего образования. Они с сестрой шили платья у городской портнихи, довольно строптивой дамы, и однажды во время примерки мама обратила внимание на ее помощницу, молодую женщину, обязанности которой состояли в том, чтобы держать, подавать и забирать иголки. Мама заметила терпеливую и приветливую помощницу и решила понаблюдать за ней. Она присматривалась к ней во время следующих двух примерок и наконец вступила в беседу. Помощницу звали Мари Сиже, ей было двадцать два года. Отцу Мари принадлежало маленькое кафе, у нее были старшая сестра, тоже портниха, два брата и младшая сестра. Мама страшно удивила девушку, когда как бы вскользь спросила, не хочет ли она поехать в Англию. У Мари перехватило дыхание от неожиданности и радости.
– Конечно, я должна прежде поговорить об этом с вашей матерью, – заметила мама. – Вполне возможно, ей не захочется, чтобы дочь уезжала так далеко.
Договорились о встрече, мама навестила мадам Сиже, и они подробно обсудили вопрос. Только после этого мама обратилась к папе:
– Но, Клара, – запротестовал папа, – ведь эта девушка вовсе не гувернантка, ничего общего с гувернанткой.
Мама ответила, что, по ее мнению, Мари – как раз то, что мне нужно.
– Она совершенно не знает английского языка, ни полслова. Агата будет вынуждена выучить французский. У девушки чудесный характер, она веселая. Из приличной семьи. Ей хочется поехать в Англию, и она может обшивать всю семью.
– Ты уверена, Клара? – выразил сомнение папа.
Мама всегда была уверена.
– Как раз то, что нужно, – повторила она.
Как это часто бывало с бесчисленными мамиными прихотями, эта тоже осуществилась. Закрывая глаза, я вижу перед собой милую Мари. Круглое розовое личико, маленький вздернутый носик и темные волосы, собранные в пучок. Отчаянно робея, как она рассказывала мне потом, Мари вошла утром в мою спальню, вызубрив перед этим английскую фразу, которой должна была приветствовать меня:
– Доброе утро, мисс. Надеюсь, у вас все хорошо.
К сожалению, Мари говорила с таким акцентом, что я ничего не поняла. Я недоверчиво посмотрела на нее. В первые дни мы вели себя как две собаки, которые только что познакомились. Мы почти ничего не говорили и присматривались друг к другу. Мари попыталась причесать меня – мои длинные льняные локоны, – но так боялась случайно дернуть и причинить мне боль, что едва дотрагивалась до волос щеткой. Я хотела объяснить ей, что она может расчесывать волосы смелее, но, разумеется, это было невозможно, так как я не могла подобрать нужных слов.
Как получилось, что меньше чем через неделю мы с Мари уже могли разговаривать друг с другом, я не знаю. При этом мы объяснялись по-французски. Одно слово, за ним другое, подхваченное на лету, и я начала понемногу понимать французскую речь. А через неделю мы были уже настоящими друзьями. Радостью стало все – гулять с ней, делать все что угодно. Так сложился наш счастливый союз.
В июне в По наступила сильная жара, и мы поехали на неделю в Аржель, на другую – в Лурд, а потом – в Котре, чудное место у самого подножия Пиренеев. (Здесь я отчасти преодолела свое разочарование горами. Впрочем, хотя местоположение Котре было с этой точки зрения гораздо более удовлетворительным, увы, и здесь не все горы упирались в небо.) Каждое утро мы отправлялись в долгую прогулку по горной дороге, которая приводила нас к минеральному источнику, где мы выпивали по стакану воды отвратительного вкуса. Укрепив таким образом здоровье, мы покупали леденцы. Мама предпочитала анисовые, которые я терпеть не могла. На извилистых дорожках близ отеля я вскоре открыла для себя новый восхитительный спорт. Сидя прямо на сосновых иголках вместо саней, я с бешеной скоростью съезжала вниз. Мари не очень одобряла меня, но я с горечью должна признаться, что Мари никогда не пользовалась у меня никаким авторитетом. Мы были друзьями, товарищами по играм, но мне и в голову не приходило слушаться ее.
Авторитет – странная штука. Мама обладала им в полной мере. Она редко сердилась, разве что едва повышала голос, но стоило ей мягко произнести просьбу, как она немедленно выполнялась. Мама очень удивлялась, что не у всех есть эта способность.
Когда я в первый раз вышла замуж и у меня уже был ребенок, мама приехала пожить со мной; я как-то пожаловалась ей, что мне очень досаждают соседские ребятишки, которые постоянно лазают через забор. И сколько бы я ни просила их не делать этого, они и в ус не дуют.
– Как странно, – сказала мама, – почему же ты просто не скажешь им, чтобы они шли прочь?
– Что ж, попробуй, – предложила я. Как раз в этот момент появилось двое мальчишек, готовых прокричать свое обычное: «Эй! А мы не уйдем» – и начать кидать камешки на газон. Один уже начал карабкаться на дерево. Мама обернулась.
– Роналд, – сказала она. – Тебя ведь, кажется, так зовут?
Роналд кивнул.
– Пожалуйста, не играй так близко от нас. Я не люблю, когда меня беспокоят. Пожалуйста, отойди немного подальше.
Роналд посмотрел на нее, свистнул своему брату, и они тотчас исчезли.
– Видишь, дорогая, – сказала мама, – это абсолютно просто.
Действительно, для нее это было просто. Я совершенно уверена, что мама без всяких затруднений справилась бы с колонией малолетних преступников.
В отеле в Котре жила тогда девочка гораздо старше меня, Сибил Паттерсон; ее мама дружила с семьей Селвин. Сибил была предметом моего обожания. Я находила ее красавицей, но больше всего меня восхищала расцветающая в ней женская прелесть. В те времена пышные формы были в большой моде, особенно бюст – предмет особых забот. У Бабушки Б. и Тетушки-Бабушки возникали серьезные трудности при попытке обменяться сестринским поцелуем, поскольку прежде сталкивались их выступающие вперед, как буфетные полки, огромные бюсты. Я считала бюст привилегией взрослых, и поэтому появление у Сибил намеков на развивающуюся грудь вызвало во мне ревнивую зависть. Сибил было четырнадцать лет. Сколько же мне еще надо ждать, пока я не начну тоже так восхитительно развиваться? Восемь лет? Восемь лет быть плоской, как доска? Я торопилась, мне хотелось скорее обзавестись этими свидетельствами женской природы. Увы, единственным выходом было терпение. Мне оставалось только терпеть. И через восемь лет, или, может быть, через семь, если повезет, две округлости чудесным образом скрасят мой тощий силуэт. Я могу только ждать.
Семья Селвин жила в Котре не так долго, как мы. После их отъезда я выбрала себе двух других подружек: маленькую американку, Маргерит Престли, и другую – англичанку Маргарет Хоум. Мои родители дружили с родителями Маргарет Хоум и, конечно, надеялись, что и мы с Маргарет станем друзьями и будем проводить время вместе. Как всегда бывает в таких случаях, я отдала предпочтение Маргерит Престли, сыпавшей необыкновенными фразами и удивительными словами, которых я до сей поры в жизни никогда не слышала. Мы рассказывали друг другу истории, и в одной из историй Маргерит речь шла об опасности, грозящей при встрече со «скаррапином», что совершенно завораживало меня.
– Но что такое скаррапин? – спрашивала я.
У Маргерит была няня по имени Фанни, говорившая на протяжном южном диалекте, – как правило, я ничего не понимала из ее речи, Фанни тщетно попыталась дать мне короткое описание этого страшного создания. Я обратилась с вопросом к Мари, но она понятия не имела о скаррапинах. Наконец я взялась за папу. Он тоже сначала несколько затруднялся с ответом, но по дальнейшем размышлении догадался и сказал:
– Думаю, что ты имеешь в виду скорпиона.
Почему-то волшебство сразу улетучилось. Скорпион вовсе не казался таким страшным, как воображаемый скаррапин.
Мы с Маргерит горячо спорили и по поводу того, как появляются на свет дети. Я уверяла Маргерит, что детей приносят ангелы. Сведения были получены от Няни. Маргерит, со своей стороны, была совершенно убеждена, что детей находили среди медицинских инструментов, и доктора приносили их в своих черных сумках. Когда наш ожесточенный спор достиг уже опасной стадии, Фанни внесла ясность:
– Нет ничего проще, дорогие мои, – сказала она. – Американских детей приносит доктор в черной сумке, а английских – ангелы. И все дела.
Ссора тотчас прекратилась – мы были удовлетворены объяснением.
Папа и Мэдж часто совершали верховые прогулки и однажды в ответ на мои настойчивые мольбы пообещали на следующее утро взять меня с собой. Я несказанно обрадовалась. Мама попыталась возражать, но папа успокоил ее:
– С нами едет опытный гид, – сказал он, – часто сопровождающий детей и умеющий следить за тем, чтобы они не упали.
Утром подали трех лошадей, и мы тронулись в путь. Мы неслись по извилистой дороге над пропастью, и я была вне себя от восторга, сидя верхом на огромном, как мне казалось, коне. Мы поднимались к вершине вслед за гидом, и время от времени он собирал небольшие букетики цветов, протягивал их мне, а я засовывала их за ленту шляпы. До поры все шло как нельзя лучше, но когда мы добрались до вершины и стали готовиться к обеду, гид превзошел самого себя: он исчез на некоторое время, а потом вернулся бегом, держа великолепную бабочку, которую ему удалось поймать. «Для маленькой мадемуазель», – воскликнул он. Вытащив из лацкана булавку, он проткнул бабочку и прикрепил ее к моей шляпе! О, ужас этого мгновения! Сознание, что несчастная бабочка отчаянно машет крылышками, пытаясь избавиться от булавки. Агония, которая выражается в этих взмахах. Конечно же я ничего не могла сказать. Во мне боролись противоречивые чувства. Ведь со стороны гида это было проявлением любезности. Он принес мне бабочку. Он преподнес ее мне как особый дар. Разве я могла оскорбить его чувства, сказав, что такой дар мне не нравится? И вместе с тем как же мне хотелось избавиться от него! А бабочка тем временем трепетала, умирая, я слышала, как бьются о мою шляпу ее крылья. В таких обстоятельствах у ребенка есть только один выход. Я заплакала.
– В чем дело? – спросил папа. – У тебя болит что-нибудь?
– Наверное, она боится ездить верхом, – предположила сестра.
– Ничего подобного, – сказала я. – Я нисколько не боюсь, и у меня ничего не болит.
– Устала, – предположил папа.
– Нет.
– Что же тогда с тобой?
Но я не могла ответить. Конечно же не могла. Гид стоял рядом, не сводя с меня внимательного и озабоченного взгляда. Тогда папа сказал довольно сердито:
– Она еще слишком мала. Нечего было брать ее с собой.
Я зарыдала с удвоенной силой. Я испортила день им обоим, и папе и сестре, но не могла остановиться. Единственное, чего я желала и на что надеялась, это чтобы папа или сестра догадались, в чем дело. Неужели они не видели эту бабочку? Конечно, видели и могли бы сказать: «Может быть, ей не нравится бабочка на шляпе?» Если бы только они сказали это, все бы уладилось. Но я не могла ничего объяснить им. Ужасный день! Я отказалась от обеда, сидела и плакала, а бабочка хлопала крыльями. В конце концов она перестала шевелиться. Тут бы мне почувствовать облегчение. Но к этому времени я пришла уже в такое истерическое состояние, что никак не могла успокоиться.
Мы поехали обратно, сердитый папа, сестра в плохом настроении, гид – по-прежнему любезный, доброжелательный и озадаченный. К счастью, ему не пришло в голову во второй раз облагодетельствовать меня бабочкой. Мы вернулись в расстроенных чувствах и нашли маму в гостиной.








