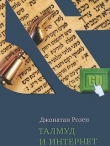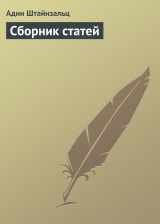
Текст книги "Сборник статей"
Автор книги: Адин Штайнзальц
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Месяц праздников
Первый месяц еврейского года – тишрей, в котором больше праздников, чем в любом другом месяце. И так же, как голова человека руководит жизнедеятельностью всего тела, так и праздник Рош hа-шана (буквальный перевод с иврита – «Глава года») определяет ход всего годичного цикла. Мы надеемся, что будущее принесет нам больше радости, чем прошлое, и просим об этом Всевышнего, Царя вселенной. Просят все – и взрослые, и дети. Если много людей одновременно молят Царя о чем-то, Он наверняка услышит. Не все знают слова молитв, но каждый верит и надеется, что просьба его сердца будет исполнена.
Если мысли лучше всего выражать словами, то чувства – музыкой. В Рош hа-шана звучит особая музыка: трубный глас шофара, бараньего рога. Шофар мы услышим еще раз – он возвестит о завершении поста Йом Кипур.
Обратим внимание на внутреннее противоречие, кроющееся в словосочетании Рош hа-шана (Новый год). Год, как известно, – это смена сезонов: осень, зима, весна, лето. Короткие дни сменяются долгими, дожди – сушью, холод – жарой; этот цикл повторяется из года в год. Жизнь человека, как и смена времен года, представляет собой цикл, хотя и не замкнутый, а линейный. Мы все очень похожи: даже потрясения переживаем настолько одинаково, будто все представляем собой одного человека, только многократно репродуцированного.
Все мы ожидаем Новый год в надежде на изменения. Те религиозные евреи, которые живут напряженной духовной жизнью, имеют возможность пережить то, что ощущали наши предки, стоявшие у горы Синай. Мы часто слышим: "Счастливы те, кто верит". А возможна ли в наше время истинная вера или она осталась в ушедших в небытие местечках, у старшего поколения выходцев из Марокко, в замкнутых хасидских общинах?
Какое бы светское образование ни получили люди, они стремятся к вере, однако вера религиозного человека нередко воспринимается окружающими как нечто абстрактное, оторванное от реальности. Но ведь само слово "вера" имеет на иврите общий корень со словами "педагог", "опекун" – тот, кто воспитывает ребенка и заботится о нем. Необходимо взрастить и раскрыть эту веру, дать ей возможность выразить себя, достичь воплощения.
Год уходит за годом, и человек зачастую воспринимает свою жизнь как бесконечно повторяющийся сон – замкнутый круг, из которого невозможно вырваться.
Рош hа-шана достигает своего пика в тот момент, когда раздаются звуки шофара. Резкие и отрывистые, как крик, не ласкающий ухо, они выражают то, что вообще нельзя передать словами. Каждый человек интерпретирует их по-своему.
Длинный трубный звук, короткий надрывный стон, захлебывающиеся рыдания… Шофар предупреждает человека о том, что тот может осложнить свою жизнь, навлечь на себя несчастья, но и напоминает ему о возможности победить в себе злое начало и очиститься. Ведь сегодня – Новый год, врата надежды. Шофар никогда не был для евреев просто музыкальным инструментом. Его звуки пробуждают от духовной спячки, как сказал Рамбам: "В звуках шофара содержится скрытый намек: спящему – пробудиться, дремавшему – встрепенуться, забывшему правду в суете – всмотреться в свою душу,
выправить свои пути".
Звук шофара освобождает людей от пут повседневности, обращает к тшуве – раскаянию, которое должно привести к обновлению. Вся система религиозного мировоззрения противоречит рутине, ведь ее цель – разрыв завесы повседневности, – хотя со стороны может показаться, что повседневная жизнь верующего еврея представляет собой сплошную рутину.
Один праведник, комментируя слова Торы: "Так, как знаю я, что велик Всевышний…" – сказал, что никто другой, кроме самого человека, не может приблизить его к пониманию величия Всевышнего. Чужое знание, хотя бы и более глубокое, цельное и всеохватывающее, все равно останется чужим; экзистенциальное переживание невозможно передать никому другому, подобно тому, как человек не может точно описать вкус съеденного им плода.
Так кто же может вкусить от плода Древа жизни? Для этого не надо обладать жизненным опытом, отличаться особой душевной чистотой или выдающимися способностями. Где источник той самой веры, которую, как говорилось выше, необходимо взрастить в себе? Не на небесах и не за морями – на твоих устах, в твоем сердце. Часто уста человека говорят языком правды и веры, однако он не отдает себе отчета в том, что именно произносит, не слышит голос своего сердца. И обыденная, немудреная фраза порой несет утешение плачущему, придавая ему уверенность в том, что, несмотря на все преграды, можно пройти по жизни, не теряя собственного достоинства.
Свет в еврейской традиции
Первое из сотворенного Всевышним – свет, ставший символом всего, что хорошо и красиво. «И сказал Всесильный: ‘Да будет свет’… – и отделил Всесильный свет от тьмы», – говорит о том Тора («Брейшит», 1:3,4). Царь Шломо (Соломон) сказал: «И увидел я, что есть преимущество у мудрости перед глупостью, – как у света перед тьмой» («Коhелет» – «Екклесиаст», 2:13).
Свет – синоним добра во всех языках. И действительно: во всем, в чем мы находим святость, очевидна связь света с благом. Существует святость времени и пространства, святость места и событий, и все, что освящено, – освещено: Храм и синагога, суббота и праздники, свадьба и (не про нас будь сказано) похороны.
Великолепная Менора (светильник) из чистого золота стояла в Храме. Она находилась во внутреннем его зале, куда имели доступ лишь немногие, и воплощала в себе чистоту и святость Храма. Менора была скрыта от взоров, освещая при этом весь мир, – подобно солнцу, на которое нельзя взглянуть без риска потерять зрение. Именно Менора стала после разрушения Храма символом еврейства, призванного быть «светочем для гоев». Археологам достаточно обнаружить ее изображение, дабы определить, что в этом месте существовало когда-то еврейское поселение, даже если все остальные признаки этого отсутствуют. И когда было возрождено государство Израиль, Менора стала его символом, основным элементом герба.
Не гаснет свет и в синагоге. Днем и ночью горит там негасимый огонь, освещающий ковчег со свитками Торы. Наступление субботы и праздников мы отмечаем зажиганием свечей. У горящих огней восьмисвечника евреи празднуют Хануку, победу света над тьмой, святости – над нечистотой.
Во времена иерусалимского Храма в праздник Сукот совершалась церемония возливания воды на жертвенник. По всему городу горели костры, и мудрецы, к восторгу собравшихся, жонглировали зажженными факелами. Во времена Талмуда жгли костры в Пурим и, конечно же, в Лаг ба-омер – годовщину смерти раби Шимона бар Йохая, составителя основополагающего труда по Кабале – книги "Зоhар" ("Сияние").
Зажигают поминальную свечу в память об умершем, и несмотря на то, что обычай этот связан с печалью, здесь свеча тоже символизирует свет – свет души, ибо сказано в "Мишлей": "Душа человека – светильник Г-спода…" (20:27). Поэтому поминальная свеча является выражением не скорби и горя, а, напротив, – радости, ибо мы знаем, что душа горит вечно.
И на свадьбах зажигают свечи – свечи радости и надежды, – когда родители ведут жениха и невесту под свадебный балдахин.
И в каждой из этих свечей, в мириадах огней, зажигаемых по самым разным поводам, множатся и отражаются добро и красота изначального света первого дня Творения. Высокий смысл символики, связанной со светом, нашел отражение в еврейском законодательстве. Так, например, запрещено изготовлять точную копию храмовой Меноры, ибо любая подмена света, исходящего от Храма, – это профанация; задачей света Меноры было не физически осветить это мир, но согреть и освятить его.
Еврейские мастера во все времена и во всех странах соревновались друг с другом в изготовлении светильников, чтобы их творения как можно полнее передавали формой и отделкой смысл и красоту события, в честь которого их зажигают.
С еврейской точки зрения, у тьмы есть только одна задача: дать возможность свету проявиться. Основатель хасидизма Бааль-Шем-Тов отмечал: "Гиматрия (числовое значение) слова ‘свет’ равна гиматрии слова ‘тайна’", – и мы стремимся понять его тайную суть.
Суть Талмуда
Если Танах (Библия) – фундамент иудаизма, то Талмуд – центральная несущая колонна, на которой покоится его духовныйи философский свод. В определенном смысле Талмуд – это главная книга в еврейской культуре, становой хребет национальногосуществования и творческой активности народа. Ни одно другое произведение не сравнимо с ним по своему влиянию на теорию и практику иудаизма, чье духовное содержание он определяет иуказывает людям, как действовать. Евреи всегда осознавали, что их сохранение и развитие как народа зависит от изучения Талмуда. Прекрасно понимали это и враги Израиля; они шельмовали его, проклинали, бессчетное множество раз предавали сожжению ив средние века, и в совсем недавнее время.
Формальное определение Талмуда – Устная Тора: свод законов, разработанный мудрецами, которые жили в Эрец-Исраэль и Вавилоне с древнейших времен до начала средних веков. Он состоит из двух основных частей: Мишны – книги по hалахе (Закону), написанной на иврите, – и Гемары – комментария кней, представляющего собой дискуссии мудрецов и их разъяснения мишнайот и написанного на арамейском языке со множеством вкраплений ивритских слов.
Такое определение Талмуда, будучи формально верным, совершенно недостаточно и может ввести в заблуждение. Талмуд – не просто изложение законов и комментариев к ним. Это – хранилище многотысячелетней еврейской мудрости, в котором нашло выражение Устное Учение, столь же древнее и всеобъемлющее, каки Письменная Тора. Это сплав Закона, легенд и философскихразмышлений, сочетание уникальной логики с изощренным прагматизмом, истории – с наукой, притч – с анекдотами. Поэтому Талмуд – сплошной парадокс: его форма упорядочена илогична, каждое его слово тщательно выверено в ходе многовековой работы составителей, которая продолжалась еще столетия после того, как этот свод трактатов уже в основном сложился, – и в то же время все в нем основано на свободнойигре ассоциаций, на сопряжении далеких понятий, напоминающем современный литературный жанр "поток сознания". Талмуд подчинен цели толкования и разъяснения законов – и в то же время является своеобразным произведением искусства, далековыходящим за рамки чистой юриспруденции и ее практического применения. Талмуд по сей день остается основой еврейского Закона – и вместе с тем на него нельзя ссылаться как нарешающий авторитет в практических вопросах.
Талмуд рассматривает абстрактные и порой совершенно схоластические проблемы с той же серьезностью, что и самые прозаичные вопросы повседневности, – и при этом ухитряетсяобходиться без всякой специфической терминологии. Основанныйна традиции, на передаче авторитетного мнения из поколения впоколение, он вместе с тем не имеет себе равных внастойчивости, с какой подвергает сомнению и пересмотру всеустановившиеся и общепринятые точки зрения, и докапывается докорней любого утверждения, не принимая его на веру. По строгости обсуждения и точности доказательств Талмуд приближается к математике, однако не прибегает к математической символике.
Чтобы лучше понять это уникальное творение, задумаемся на минуту над целями его авторов и составителей. К чему они стремились, эти тысячи мудрецов, вся жизнь которых прошла в талмудических дискуссиях, веками продолжавшихся в сотнях больших и малых центров учения? Разгадка таится в самом названии их труда: "Талмуд" означает "изучение", "познание".Талмуд – это воплощение великой концепции мицват-талмуд Тора: религиозной заповеди, обязывающей изучать Тору, в чем одновременно содержатся для человека и цель, и награда. Один из мудрецов Талмуда сказал: «Снова и снова листай ее (Тору), ибо в ней содержится все. Вглядывайся в нее, и состарься вней, и никогда с ней не разлучайся, ибо нет в мире большего блага».
Изучение Торы, несомненно, служит многим практическим нуждам, но не в поисках житейских подсказок состоит его главная цель и оно не зависит от степени важности или практической значимости обсуждаемой проблемы.
Цель изучения – само учение. Это не означает, что практическое приложение изучаемых вопросов для Талмуда несущественно, – напротив: в нем подчеркивается, что тому, кто изучает Тору, но не следует ей, лучше бы вовсе не родиться на свет. Истинныйталмудист должен служить и примером в поведении. Но это – лишьодин аспект основной талмудической установки, которая гласит: тот, кто погрузился в текст, не должен преследовать никакую иную цель кроме его изучения. Поэтому любой вопрос, связанныйс Торой или с жизнью по Торе, достоин пристального рассмотрения и анализа и всегда следует стремиться проникнутьв самую его суть. В ходе этого изучения никогда не поднимается вопрос о том, имеет ли этот анализ практическое приложение. Мы часто встречаем в Талмуде пространные и горячие дебаты по различным проблемам, которые касаются самых отвлеченных особенностей талмудического метода и получаемых с его помощью заключений. Мудрецы не жалели сил даже тогда, когда знали, что данный источник уже отвергнут и не имеет никакого значения дляюридической практики. Это объясняет нам и те споры, которые велись по вопросам, относящимся к далекому прошлому и которые, вероятно, уже никогда больше не будут иметь отношения к действительности.
Случалось, конечно, что проблемы, некогда казавшиеся далекими от практики, позже становились актуальными. Абстрактным наукам известно такое явление. Но для талмудиста это не так уж иважно, ибо с самого начала его единственная цель – решение чисто теоретических задач и единственная награда – поиск чистой истины.
Талмуд подчеркнуто построен по канонам юридических трактатов, и многие совершают ошибку, считая его сугубо юридической книгой. В действительности, Талмуд рассматривает все, с чеми меет дело, – в основном это hалаха, тексты Торы и традиции, идущие от мудрецов древности, – как явления природы, какобъективную реальность. Когда имеешь дело с природой, нелепо утверждать, что то или иное в ней не заслуживает внимания. Предметы и явления, конечно, различаются по степени важности, но все они сходны тем, что существуют. Они есть, и, сталобыть, их нельзя игнорировать. Когда талмудист исследует древнюю традицию, он воспринимает ее прежде всего как нечто реально существующее. Независимо от того, обязывает этатрадиция его лично или нет, она – часть его мира. Когда талмудисты обсуждают отвергнутую идею или толкование, ониотносятся к ним как ученые, рассуждающие о неком виде организмов, вымерших из-за неспособности приспособиться к изменившимся условиям. Этот вид, так сказать, «не сдал экзаменна выживание», но это не значит, что он не представляет интерес как объект научного исследования.
Более века продолжалась одна из величайших талмудических дискуссий: полемика школ Шамая и hилеля. В конце концов ееитоги были подведены в знаменитом изречении: "И то, и другое – слова Б-га живого, но hалаха – по учению hилеля". То, что предпочтение было оказано одному из методов, не означает, что другой исходит из неверных посылок; он тоже – проявление творческой силы и «слов Б-га живого». Когда один из мудрецов сказал, что некая точка зрения ему не нравится, коллеги упрекнули его, заметив, что не следует говорить о Торе: «Это хорошо, а это нет». Ведь ни один ученый не станет судить об изучаемом предмете по принципу «симпатичный – несимпатичный».
Впервые Тора была уподоблена природе в глубокой древности, и эта идея была развита мудрецами. Одно из самых ранних ее выражений гласит, что точно так же, как архитектор строит дом, пользуясь планами и чертежами, Всевышний создал Тору, чтобы творить мир согласно ей. По этой концепции Тора в определенном смысле структурно подобна природе, ибо является сущностью мира, а не просто описывает его извне. А коль скоро это так – в ней нет ничего, что можно было бы счесть странным, отстраненным и не заслуживающим исследования объектом.
Талмуд не является монографией одного автора. Эта книга сложилась в результате сведения воедино накопившихся за долгое время рассуждений и высказываний многочисленных мудрецов, ниодин из которых не думал о том, что его слова будут записаны в подобном своде. Их замечания были продиктованы тогдашней действительностью, вызваны животрепещущими вопросами, которые им приходилось решать, и спорами, в которых они участвовали. Поэтому в Талмуде невозможно вычленить некую единую тенденцию или определить специфическую цель. Каждая из дискуссий в значительной мере независима от других и уникальна, и ход обсуждения той или иной темы может не совпадать с другими сценариями. И в то же время Талмуд имеет свой собственный, безошибочно распознаваемый и поразительно цельный облик. В нем запечатлен не индивидуальный творческий стиль автора илиредакторов, но коллективный характер всего еврейского народа.
В Талмуде есть тысячи высказываний безымянных мудрецов, но и там, где авторы названы по имени, дух коллективного творчества берет верх над различием индивидуальностей. Как бы яростно ни спорили два талмудиста, читатель в конце концов улавливает объединяющие их принципы единой веры и общего образа мысли, и тогда перед ним открывается всеобъемлющее единство, которое охватывает все различия.
Хотя Талмуд является итогом многовековой аналитической работы, принято цитировать его в настоящем времени: "Абайе говорит…", "Рава говорит…". В этом обычае выражена убежденность в том, что Талмуд – не просто свод мнений мудрецов древности и что судить о нем как о памятнике далекого прошлого неверно. Талмудисты, правда, соотносят личности мудрецов с периодами, в которые они жили (и выяснение такого рода является одним из элементов самого изучения), однако о подобных различиях говорится только тогда, когда необходимо, и слова эти не носят оценочного характера. Создатели Талмуда представляли себе время не в виде беспрерывного потока, бесследно стирающего прошлое, но как живую и развивающуюся сущность, в которой настоящее и будущее неразрывно связаны с никогда не умирающим прошедшим. В этом процессе развития одни элементы уже застыли в устойчивой форме, тогда как другие, соприкасаясь с настоящим, пока еще гибки и изменчивы, но весьпроцесс как таковой возможен только потому, что каждый, даже самый древний, казалось бы, застывший элемент сохраняет жизненную активность и играет свою роль в бесконечном, самообновляющемся общем труде созидания.
Вера в непрерывное творческое самообновление мира объясняет также, почему во всех талмудических дебатах главную роль играет вопрошающее сомнение. В определенной мере весь Талмуд построен на вопросах и ответах, и даже там, где вопрос непоставлен прямо, он лежит в основе каждого утверждения. Одиниз самых древних методов изучения Талмуда состоит в том, чтолюбое высказывание рассматривается как ответ и по нему реконструируется соответствующий вопрос. И не случайно Талмуд содержит такое количество вопросительных слов, начиная с простого "почему?", направленного на то, чтобы удовлетворить обычное любопытство, и кончая фундаментальным "может ли быть, что…", ставящим под сомнение самые основы обсуждаемой проблемы. Талмуд различает тончайшие оттенки вопросов – принципиальные и частные, по существу и по мелочам. Любой вопрос позволителен и желателен, и чем больше вопросов – темлучше. Высказывание сомнений не только разрешается, но и поощряется: на этом построен сам Талмуд, на этом построено иего изучение. Ни один вопрос не считается неподходящим, некорректным, если он касается обсуждаемой темы и содействуетее раскрытию. Как только ученик усвоил некие основы, от него уже ждут, что он начнет задавать вопросы и выказывать сомнения. Талмуд, вероятно, единственная в мировой культуре священная книга, которая позволяет и даже призывает сомневаться в любом своем утверждении. Но эта особенность означает также, что Талмуд нельзя познать извне. Уникальныйхарактер этой книги обрекает любое ее внешнее описание на неизбежную поверхностность.
Подлинное понимание Талмуда может быть достигнуто только посредством духовного слияния с текстом, эмоционального иинтеллектуального вовлечения в его обсуждение, в результате чего ученик сам, в какой-то мере, становится его творцом.
Талмуд
Талмуд – основная, хотя и не единственная, часть Устной Торы. По степени святостью он уступает только Письменной Торе, а по влиянию, оказанному на жизнь многих поколений еврейского народа, возможно, даже превосходит ее. Талмуд состоит из двух частей: Мишны и Гмары.