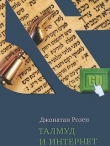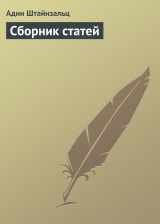
Текст книги "Сборник статей"
Автор книги: Адин Штайнзальц
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Личность и общество
Общество – абстрактное понятие. Общество существует не само по себе, а состоит из индивидуумов. Где пролегает граница между ним и группой индивидуумов? Количество решает не все. Иногда малочисленная группа становится обществом, а многочисленная – нет. В этом случае качественное различие перестает быть функцией количества и даже оказывается важнее него. Что делает народ народом? Если собрать сто, тысячу, миллион человек – превратятся ли они в народ? Подобный вопрос можно задать и в иной связи: если рядом с одним домом построить другой, третий, сотый – превратится ли скопление домов в город? Индивидуумы становятся народом, когда вступают между собой в определенное взаимодействие. Общество может быть хорошим или дурным, однако при отсутствии взаимосвязей между его членами оно останется сборищем – пусть даже многомиллионным.
Нечто подобное происходит ныне с еврейством СНГ. Здесь живут сотни тысяч евреев. Но до тех пор, пока они остаются не связанными между собой индивидуумами, их число не играет роли. Неважно, сколько евреев в СНГ – сто тысяч, миллион или десять миллионов. Пока между ними не налажено взаимодействие, они не образуют общества. И сотни тысяч человек способны стать сильным народом, а миллионы индивидуумов могут остаться толпой. Переход от личности к обществу неизбежно оказывается болезненным: ведь он связан с обесцениванием своего «Я», с утратой его индивидуальной сущности. Члены общества способны взаимодействовать лишь на базе общего знаменателя, того, что объединяет каждого из нас с другими. Лучший пример тому в Израиле – служба в армии. Резервисты в возрасте тридцати-сорока лет представляют собой весьма неоднородную общность. Среди них есть преподаватели, ученые, банкиры и т. п. – и у каждого свой неповторимый жизненный опыт, индивидуальные способности и стремления. Но когда почтенные отцы семейств облачаются в форму, они дружно свистят вслед каждой девчонке и обмениваются грубыми шутками. Никто из них, скорее всего, не позволяет себе ничего подобного «на гражданке». Что же происходит с ними в армии? Здесь образовалось определенное общество, ни один из членов которого, хочет он того или нет, не смог бы просуществовать в нем, не приняв его законы. От этих законов зависит тип социальной интеграции, характер связей, объединяющих индивидуумов, и, в конечном счете, поведение каждого из них.
Не существует закона, согласно которому консолидирующий группу «общий знаменатель» обязан соответствовать предельно низкому уровню общения. Несомненно, двадцать взрослых образованных мужчин, собравшись вместе, могли бы обсуждать философские, экономические или научные вопросы. Однако не эти вопросы собрали их вместе. И потому общение тотчас скатывается на низкий уровень. Личность вынуждена примеряться к обществу, отыскивать некий «общий знаменатель», интегрирующий данную среду. В том случае, когда «общий знаменатель» соответствует более высокому уровню, личность тоже лишается некоторой доли своей автономии. С другой стороны, социальная консолидация позволяет интегрировать элементы, каждый из которых в отдельности не имеет существенного значения, но вместе они образуют новое целое. Человеческое общество способно сплачиваться во имя достижения цели, недоступной каждому из его членов в отдельности.
Обратимся теперь к нашим еврейским делам. Сегодня «общий знаменатель» единства народа Израиля настолько низок, что даже не находится в ряду собственно еврейских ценностей. Это – юдофобия, из чего следует, что еврейское общество не скрепляет изнутри никакой собственный «клей». Оно сплачивается благодаря давлению извне. Многие социологи так и определяют сущность еврейства: евреи – это жертвы определенного вида сегрегации, которая называется антисемитизмом. Определение это сугубо внешнее, оно совершенно не затрагивает сущности жертвы – если, разумеется, вообще признает ее внутреннее отличие от других. Я не собираюсь спорить с подобным определением, ибо в принципе оно верно. Правда, оно основывается на предельно низком «общем знаменателе», но ничто не мешает нам поднять его.
Один из способов объяснить общественные процессы, протекающие в еврейской среде на протяжении последних полутора веков, – представить их как попытку множества индивидуумов разорвать связь с религиозной общиной и заново интегрироваться по политическому признаку. Ибо государство Израиль, например, отнюдь не является религиозной общиной, как, строго говоря, не является и этнокультурной целостностью. Это явно политическое образование. На протяжении вот уже полувека не сходит с повестки дня не теряющий актуальности вопрос: что же объединяет население Израиля? Что общего у граждан сионистского государства? Допустим, я родился в почтенном раввинском семействе выходцев из Литвы, репатриировавшихся из Ковно. И вот – неважно, в синагоге ли, на работе или просто на улице – я встречаю еврея, в младенчестве привезенного из Марокко. Его отец был кузнецом в Касабланке. Я спрашиваю себя: мы оба строим единое общество, но на какой основе? Единство не создается за счет механического совмещения во времени и пространстве. Правда, если как следует перемешать индивидуумов в общем котле, многие из них, скорее всего, отыщут подобных себе и образуют с ними устойчивые этносоциальные сцепления. Однако это будет не общество, а хаотичный конгломерат подобществ, пестрая мозаика, лишенная внутреннего единства.
Лишь на основе единой системы интеграции может сложиться действительно монолитное общество. Если такой системы нет, можно переместить с места на место миллионы людей безо всякого толка. Ящик письменного стола, куда я время от времени бросаю черновики, не создаст книги. А если я захочу решить эту проблему, пересыпав содержимое в другой, более «подходящий» ящик, – что ж, с тем же успехом я мог бы вытряхнуть бумаги прямо в мусорную корзину.
Российское еврейство переживает сейчас этап поиска своего единства. Это творческий период. Иногда поиск устремлен в забытое прошлое, иногда – в глубь собственной души. И то и другое необходимо для того, чтобы сыны Израиля смогли наконец обрести то общее, что позволяет им называться этим именем.
Миссия человека
Радикальная идея, ставшая лозунгом Французской революции, и, как это ни парадоксально, не столь далекая от христианства, гласила: мир обладает изначальной целостностью, в природе все гармонично, а человек от рождения совершенен, появляясь на свет непорочным. И если что-то в мире или обществе складывается неблагополучно, то виною тому сами люди, которые утратили совершенство и в силу своей испорченности разрушают естественную гармонию природы. А потому политические учения и теории психологов призваны возвратить человеку его изначальную чистоту.
Позже эта идея была воспринята марксизмом. Ведь согласно его доктрине естественные, справедливые человеческие отношения были искажены классовым обществом, и все, что надо сделать, – это исправить уродливые социальные извращения. С этой точки зрения различия между Французской революцией и Октябрьской революцией в России кажутся не столь уж существенными. И та, и другая стремились искоренить общественные пороки и вернуть золотой век справедливости, братства и всеобщей гармонии. Не случайно пещерный общественный строй получил в марксизме название «первобытного коммунизма». Светлое царство будущего должно было возвратиться к этому идеалу – разумеется, на базе научно-технического прогресса, успехи которого обеспечат сказочное изобилие. Здесь, как и в идеологии Французской революции, чувствуется влияние Руссо с его философией воспитания «естественного человека». С другой стороны, марксизм воспринял утопические идеи анархистов, объявив целью социализма построение коммунистического общества, в котором будут искоренены все противоречия и вследствие этого за ненадобностью отомрет государство. При коммунизме люди жили изначально, и они вернутся к нему, ибо это соответствует самой их природе и проистекающим из нее естественным понятиям о справедливости.
Подобные идеи мы обнаружим и в ряде современных психологических теорий. Они гласят, что ребенок рождается совершенным, но впоследствии кто-то – родители либо общество – портит его. И потому он становится убийцей, насильником, вором, беспринципным политиканом. Подобные концепции коренятся в христианской теологии, утверждающей, что ребенок чист от рождения и лишь первородный грех его прародителя омрачает душу малыша, поселяя в ней зло. Этот грех нуждается в искуплении, и христианская благодать дарует его, возвещая человечеству золотой век всеобщего братства.
Представления такого рода чрезвычайно популярны. Они облекаются во множество форм. Приведу пример из современной общественно-политической реальности. Прежде в России все были уверены, что виновником хозяйственной отсталости и постоянных неурядиц является авторитарный режим с его сталинистскими методами руководства. И потому распространилась детская вера в капитализм как панацею от всех бед. Вера эта оказалась столь же наивной, как и вера в то, что к «золотому веку» приведет социализм. За семьдесят лет в России успели забыть, что представляет собой реальный капитализм, и в глазах населения он стал перевернутым отражением официальной идеологии. Иными словами, хорошо все то, что ругает газета «Правда». Казалось, стоит лишь провозгласить в России западные ценности – плюрализм, вседозволенность и свободу предпринимательства, – как жизнь тут же изменится к лучшему и всевозможные блага хлынут со всех сторон. Но вскоре выяснилось, что свобода критиковать правительство шествует рука об руку со свободой умирать с голоду, и общество движется отнюдь не в сторону всеобщего благоденствия. Теперь на наших глазах происходит поворот на сто восемьдесят градусов: социалистическое прошлое начинает казаться утраченным раем, и на коммунистов вновь возлагают надежды люди, обманутые демократами.
Таким образом, еще раз была опровергнута идея о «естественном счастье», которое воцарится, как только мы уберем со своего пути всевозможные ограничения и препоны. И это лишь один из множества примеров, доказывающих несостоятельность такой идеи. Для того, чтобы воцарилось благо, недостаточно позволить событиям развиваться естественным путем. Природное, стихийное течение жизни не приводит к желанной цели ни в психологической, ни в социальной, ни в экономической сферах.
Первая книга Пятикнижия, «Брейшит», богата оригинальными философскими идеями. Правда, они изложены не на языке европейской философии, но от этого не становятся менее глубокими. В этой книге дважды, в противоположных по смыслу контекстах, встречается утверждение, что «зло в сердце человека» (6:5; 8:21), а во втором случае добавлено – «от юности его». Еврейские мыслители задаются вопросом: когда в сердце человека пробуждается зло? Быть может, еще в материнском чреве? Или оно дает о себе знать лишь с момента рождения? Но и в том, и в другом случае ясно, что человек рождается с огромным потенциалом зла. Интересно, что в книге «Брейшит» это обстоятельство служит не обвинению, а оправданию людей! Ведь если привести род человеческий на суд, окажется, что он не заслуживает пощады. Лишь зло, которое свило в нем гнездо, позволяет человеку взывать к милосердию. Он не может нести полную ответственность за совершенное зло, потому что родился с ним!
Философско-социальная концепция, вытекающая из подобного взгляда, полагает, что если позволить первобытной натуре «естественного человека» управлять им, тот способен натворить непоправимое. А чем он воспользуется для этого – суковатой дубиной или атомной бомбой – вопрос сугубо технический. Отсюда следует совершенно иной взгляд на воспитание. В центре его стоит способность личности направлять свой природный потенциал в нужное русло, умение властвовать над собой, не позволяя разрушительным инстинктам прорываться на волю. Воспитатель похож на человека, принесшего из лесу волчонка. Если позволить тому делать все, что он захочет, волк первым делом сожрет благодетеля.
Сказанное выше относится не только к личности, но и к обществу в целом. Если положиться на произвол социальной стихии, очень скоро насилие станет правом, а преступление – нормой. Анархия и террор сделают жизнь в таком обществе невозможной. Именно об этом мы читаем в трактате Мишны «Пиркей-авот» («Основы мудрости»): «Молись о благополучии державы…» – несмотря на то, что речь здесь идет о чужеземной, захватнической власти, – «…ведь если бы не страх [наказания], люди глотали бы друг друга живьем» (3:2). Порой приходится решать, чье засилье хуже: стражей порядка в форме или гангстеров в штатском. Падение авторитаризма приводит к ослаблению контроля над преступными элементами. Расковывается не только частная инициатива, но и «зло в сердце человека». И снова оказывается, что устранения всех и всяческих препон недостаточно для всеобщего счастья.
За концепцией, провозглашающей, что «зло в сердце человека – от юности его», скрывается более широкое мировоззрение, согласно которому мир – изделие-полуфабрикат, нуждающееся в усовершенствовании. Миссия человека при этом – исправить существующие недостатки. Люди призваны, воспользовавшись тем, что есть, построить действительно совершенный мир.
Иллюстрацией к сказанному может послужить спор между раби Акивой и римским наместником Руфом. Наместник спросил раби Акиву:
– Что лучше – деяния Всевышнего или дела человека?
– Дела человека, – не колеблясь, ответил мудрец.
– Взгляни на небеса и на землю. Разве в силах человеческих создать подобное?
– Подобное нет, но кое что получше – да.
Раби Акива принес мешок пшеницы и хлебный каравай, положил то и другое перед наместником и спросил:
– Что, по-твоему, лучше – пшеница или хлеб?
Римские власти пытались запретить евреям выполнять заповедь обрезания. Справедливость этой меры пытается доказать Руф, представитель эллинско-римской культуры: ведь природа создала человека совершенным, зачем же нарушать его цельность? На это еврейский мудрец отвечает, что человек призван улучшать творение.
Если передать эту мысль с помощью современных понятий, можно сказать, что иудаизм устами раби Акивы отстаивает прогресс. Ведь позицию римского наместника разделяли и те, кто много позже говорил, что если бы Всевышнему было угодно, чтобы человек летал, Тот дал бы ему крылья. Иудаизм же доказывает, что человек не потому лишен крыльев, что Творцу неугодно, чтобы он летал, а потому, что он далек от совершенства. Но человечество издавна стремилось исправить этот недостаток, и с изобретением воздухоплавания люди обрели крылья.
С еврейской точки зрения человек не только вправе изменять мир к лучшему, но именно в этом и состоит его миссия. Освещая субботнюю трапезу, мы читаем фрагмент из книги «Брейшит», где о мире сказано: «…ашер бара Элоким лаасот» (2:3; букв. «сотворил Господь для работы»). Древнейшие комментаторы объясняют, что Всевышний не завершил творение, поручив эту работу человеку. Привести мир к совершенству – такова его миссия, для этого дана ему жизнь.
Синайское откровение
Праздник Шавуот – «время дарования Торы» – посвящен главному событию в истории еврейского народа. В нашем календаре немало дат, которые мы отмечаем в память о чудесных спасениях и страшных катастрофах, дней счастливых и скорбных, – однако Синайское откровение сыграло в нашей судьбе центральную роль, определив уникальный характер народа Израиля, его особое место в мире. Многие племена кочевали с места на место, пока не оседали на земле, многие народы создавали свои государства и, подобно нам, их теряли (хотя не часто случалось, что они возвращались из плена на родину). Можно было бы сказать, что в истории евреев нет ничего принципиально иного по сравнению с судьбами других народов, если бы не получение Израилем Торы на горе Синай – уникальное, ни с чем не сравнимое событие. Мы не находим ничего похожего ни в летописях, ни в легендах других народов. Это явление из разряда тех, что выламываются из установленных историей рамок и изменяют все ее течение. Уникально не только само событие в жизни нации, принявшей свою неповторимую судьбуи новый образ жизни, но и то, что еврейский народ получил это Учение столь удивительным образом.
Вся последующая история Израиля была, в сущности, предопределена этим фактом. Никакое иное событие всемирной истории не сопоставимо с ним, и все происшедшее с евреями до и после него обретает истинный смысл лишь в его свете. Ни освобождение из египетского рабства, навсегда отпечатавшееся в народной памяти, ни история Иудейского и Израильского царств, ни многовековое изгнание, ни создание грандиозного корпуса литературы на темы законодательhства, философии и морали – ничто не имело бы такого определяющего влияния на сердца и умы людей, не будь дарования Торы, соединяющей в себе несоединимое: благословения ипроклятия, суд и милость, изгнания и возвращения. Дарование Торы – явление особого порядка: то, что случилось там и тогда, – необратимо и нетленно.
И коль скоро это произошло, коль скоро принятие Торы оказало воздействие на народ – пути назад у евреев не было, никто, даже при большом желании, не мог отменить случившееся. С того судьбоносного часа, когда дети Израиля стали"…царством священнослужителей и народом святым" ("Шмот", 19:6), они уже не могли стать ничем другим. Конечно, отдельные индивидуумы идаже большие группы евреев, а временами и нация в целом, могли принимать решение больше не выполнять взятые на Синае обязательства, ноэто не могло изменить их сущность, определенную там.
Попытки сделать это предпринимались не только в прошлом и нынешнем веках, но и на протяжении тысячелетий до этого. Как сказано в книге Йехезкеля (20:32): "Будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню". Но они имели лишь локальный успех, в то время как еврейский народ продолжал идти своим особым путем, и любая попытка сойти с него всегда приводила к одному из двух результатов: либо отступникив конце концов раскаивались и вновь принимали Завет как долг, либо, существуя вне контекста еврейской жизни, растворялись в окружающей среде, как, к примеру, потерянные десять колен Израиля. Ибо поскольку принятие нами Торы – необратимый акт, в принципе невозможно вернуть ее Богу, оставаясь евреями. Дилемма проста: либо соблюдать ее законы – либо исчезнуть.
Объяснение этому феномену – не только в содержании десяти основополагающих заповедей, но и в способе их передачи; не только в их универсальности, но и в том, что они были адресованы конкретному народу вопределенных обстоятельствах.
Десять заповедей стали на все времена средоточием еврейской духовности благодаря двум решающим факторам, по-разному отражающим основную идею, которая сформировала особый образ жизни, постоянно связывающий Израиль с Богом. Прежде всего это не просто перечень повелений и запретов, но призыв к принятию особой судьбы, определенной Синайским союзом на основе концепции жизни в святости. Вступив в него, Израиль стал не просто одним из многих этносов, но "народом Бога", выделеленным из прочих: "…Будете для Меня избранным из всех народов…" ("Шмот", 19:5), "…Будете для меня царством священнослужителей и народом святым…" (там же, 19:6). Конечно же, у евреев есть все признаки нации: родина, язык, культура, – но они более не служат целям самоидентификации. Поэтому когда народ Израиля, казалось, утратил все эти признаки и ушел в двухтысячелетний галут, раздробившись на сотни поселившихся в разных странах общин, которых больше не объединяли единый язык, своя земля и сложившийся на ней государственный строй, – он тем не менее продолжал существовать ради исполнения своего уникального предназначения быть "царством священнослужителей и народом святым".
В еврейском народе, как и в любом другом, бывали глубокие внутренние конфликты, однако во все времена, при любых обстоятельствах осознание своей особой судьбы было ему опорой. И Союз, который заключил с нами Творец, Его Завет и верность обещаниям, которые Он дал Израилю, поддерживали нас во времена всевозможных исторических катаклизмов. В нашей избранности и уникальности – суть Синайского откровения, суть первой из Десяти заповедей, обращенной не ко всему человечеству, аименно к евреям: "Я – Г-сподь, Всесильный [Б-г] ваш, который вывел вас из Египта…" Значение исхода из Египта, таким образом, – в ярчайшем подтверждении особой связи между Царем вселенной и народом Израиля.
Невозможно переоценить влияние Десяти заповедей на жизнь евреев. То, что прежде было соблюдением принятых в сообществе людей правил: не убивать, не воровать, не распутничать, – стало служением Всевышнему. Есть огромная разница между требованием "не убивай", продиктованным необходимость поддерживать общественный порядок, и заповедью "не убивай". Если законы, принятые людьми, охраняют порядок и культуру, тосуть заповедей – в исполнении воли Создателя. Заповеди Торы, предписанные ею мораль и образ жизни – выражение святости, форма постоянной связи с Ним, а не с преходящими требованиями человеческого общежития. Тора выводит человека за пределы физического существования; каждое его доброе дело – уже не просто акт, приносящий утилитарнуюпользу: оно приобретает принципиально иное значение, став исполнением заповеди Творца. Тора вкладывает новое содержание в нормы, принятые в социуме, одухотворяя жизнь и связывая ее с Первоисточником бытия.
Социальные нормы и общечеловеческие правовые установки, на каких бы прочных моральных традициях они не были бы основаны, представляют собой как бы горизонтальный срез человеческих отношений, регулируя межличностные связи. Заповеди Торы "вертикальны", поскольку они определяют связь между человеком и Всевышним, между народом и его Царем. Если рассматривать Десять заповедей вне контекста Торы, как произвольный набор моральных установлений, то почти все они вовсе не являются откровением в истории человечества. Однако в контексте ее они становятся оплодотворяющей силой, выводящей реалии мира на принципиально иной уровень.