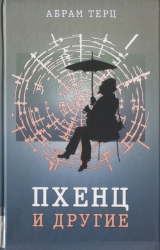
Текст книги "Пхенц и другие. Избранное"
Автор книги: Абрам Терц
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Осовелые глаза собутыльников и собутыльниц вопросительно уперлись в меня, точно я перед ними тоже был виноват и на мне лежала обязанность рассеять их пребывание в моем обществе. Кто-то, позевывая, предложил во что-нибудь поиграть – в шарады, например, или в фанты. И опять все понукающе посмотрели на меня, как будто я здесь был распорядителем и от меня все зависело. Тогда я воскликнул, стряхивая смешными ужимками паутину стыда и страха с облепленного лица:
– Внимание! Внимание! – воскликнул я и щелкнул пальцами, как выключателем. – Сейчас перед вами выступит знаменитый чтец-хиромант! Прорицатель прошлого и грядущего! Желающих прошу испытать!..
Сперва, конечно, никто не поверил в мой талант, да и мне самому плохо в это верилось. Но когда я начал с математической быстротой перечислять факты, и даты, и разные редкие детали из жизни летчика-испытателя, а он подтверждал всякий раз, что я опять угадал, все пришли в восхищение и в удивление и принялись наперебой меня просить и теребить…
Я мельком проглядывал диаграмму какого-нибудь лица и сразу называл год рождения, цифру зарплаты, номер паспорта, число абортов… Я предпочитал цифры, цифры, потому что они в наше время убедительнее всего говорят о реальной жизни.
– А будущее вы тоже предсказываете? – спросила одна студентка Института легкой промышленности.
– Кое-что предсказываю, – ответил я уклончиво. – Например, через неделю, на ближайшем экзамене вы получите «пять» по марксизму-ленинизму. Можете не готовиться, я назову билет, который вам достанется: 5-й съезд партии и 4-й закон диалектики.
Она захлопала в ладоши и радостно объявила, что ничего не будет учить, кроме этих вопросов.
– Как вы можете это знать? – допытывался красавец-грузин. – Кто вам поверит?
– Потерпите одну неделю и проверяйте, – возразил я, слегка задетый.
Но они не хотели терпеть, они желали тут же, немедленно удостовериться в моей способности предупреждать события, и тогда меня осенила одна идея:
– Хорошо, – сказал я. – Подождем одну минуту. Через минуту, я обещаю, на стене появится клоп. Вон там – видите литографию? Кажется – Джорджоне. Он опишет полный круг и уползет направо, под соседнюю окантовку…
И вскоре, как я предсказал, на стене появился клоп. Он вылез из-под спящей Венеры и, сделав обещанный круг, перекочевал на другую девушку – с разбитым кувшином. Женщины завизжали. Кто-то высказал мнение, что клопа никакого нет, а это с моей стороны чистый гипноз. Другие перешептывались, что клоп у меня дрессированный и я его сам подпустил незаметно из рукава. А скептически настроенный красавец-грузин сказал:
– Подумаешь – клоп. Клопа предсказать нетрудно. Мелкая вещь. Пускай он лучше предскажет, когда на всей земле наступит коммунизм…
Я пропустил эту фразу мимо ушей: грузин был провокатором.
Присматриваясь к нему краешком глаза, я заметил далее, что у него между животом и ключицами вырастают с большой быстротой настоящие женские груди. Вскоре его молодой, девический, но вполне оформленный бюст сделался совершенно доступен моему зрению. Усы, однако, и остальные черты мужчины он удержал за собою, и все это в сочетании с девичьей грудью сообщало ему вид истинного гермафродита.
Я не знал в первый момент, как это понять, и подумал, что, может быть, на меня действует мое нетрезвое состояние, и обрадовался такой возможности объяснения, позволяющей надеяться, что прочие странности и намеки последних дней также имеют в своей основе что-то хорошее и простое. Увы! эта надежда недолго меня обольщала: не вино и не водка, выпитые в изрядном объеме, а иные силы владели мною и заставляли видеть окружающий мир в превратном свете.
Вслед за грузином все прочие гости тоже начали как-то меняться. Контуры тел, росчерки лиц пришли в дрожание, напоминающее вибрацию сигнализационных приборов. Каждая линия перестраивалась и расплывалась, порождая десятки дышащих очертаний. У многих женщин выросли бороды, блондины темнели и переходили в брюнетов, а затем лысели до основания и вновь покрывались свежим волосом, и покрывались морщинами, и молодели, до того молодели, что становились похожими на детей, кривоногих, большеголовых, мутноглазых, которые в свой черед принимались расти, закаляться, толстеть и худеть.
При всем том каждый сохранял какое-то подобие первоначального облика, так что я имел возможность с некоторым трудом распознавать их и беседовать с ними, хотя теперь я ни в чем бы не посмел поручиться в их судьбе и жизненном поприще.
Еще недавно я твердо знал, кто из них вор, а кто двоеженец, и кто тут тайная дочь беглого белогвардейца, а сейчас все смешалось и находилось в развитии, и я не мог понять, где кончается один человек и начинается следующий. Когда один молодой инженер по фамилии Бельчиков обратился ко мне учтиво и предложил угадать, в каком году он (родился, у меня моментально чуть не вылетела изо рта дикая цифра, нарушающая все законы, установленные природой: 237-й год до нашей эры!
Этот ответ пришел мне на ум помимо воли, автоматически, под воздействием, видимо, тех изменений, какие произошли в Бельчикове. На инженере эфемерно светилась старинная пожарная каска, а под его широким шерстяным костюмом свешивались белые простыни, в которые он весьма неловко завернул рослое тело, оставив неубранными голые ноги в брюках. Но, разумеется, не эти брюки, а пожарная каска и какие-то другие неуловимые элементы вдохновили меня на мысль, что инженер Бельчиков родился в 237-м году. И не просто в 237-м году, а до нашей эры.
К счастью, я не высказал это вслух: каска рассеялась в воздухе, а простыни заволновались и оттуда появилась фигура не слишком юной, но вполне еще дееспособной красавицы – безо всяких простыней. Я, не колеблясь, узнал в ней проститутку, тоже, должно быть, довольно древнего происхождения. Всем своим телом она делала веселые знаки, но мой глаз не успел насладиться ею, как легкомысленное создание исчезло, оставив вместо себя не то попа, не то просто скопца мужского пола. Этот в свою очередь, подрожав две секунды, превратился опять в проститутку, но – другую, показавшуюся мне менее привлекательной, чем та, которая была вначале. И так они менялись и соревновались друг с другом, монахи и проститутки, проститутки и монахи, выступая всякий раз в новом качестве и в разной цене, покуда не достигли опять положения инженера Бельчикова. Он стоял предо мною, учтиво повторяя вопрос:
– Когда я родился, определите, пожалуйста…
Пока он был инженером и не успел стать никем другим, я сказал торопливо, что он родился 1 марта 1922 года в городе Семипалатинске, а чтобы он больше не смел приставать ко мне с глупыми вопросами, я добавил во всеуслышание, что родители у него до революции держали в Семипалатинске мясную лавку с приказчиком, а не были крестьянами-батраками, как он любил писать в своих анкетах. При этих словах инженер Бельчиков покраснел и испугался, и, испугавшись, он сызнова начал мелко дрожать и срочно перестраиваться.
Но раньше мне казалось, что все это совершается в прошлом, в древние века, во всяком случае никак не позднее 1922 года нашей эры. Теперь же его куртизанки развивали деятельность, а суровые аскеты ее погашали и замаливали – на ином, высшем этапе исторического процесса, знаменуя, должно быть, междоусобной борьбой дальнейшую эволюцию инженера Бельчикова. Прикинув возможные границы их мимолетных существований, я убедился, что мы мало-помалу добрели уже до середины двадцать четвертого века. Но они все мельтешили передо мною, намекая своим поведением, что даже в прекрасном будущем мы не освободимся до конца ни от поповского дурмана, ни от женской слабохарактерности, хотя все это, конечно, примет новые социальные формы и будет выглядеть совсем иначе…
Спешу оговориться: я не собираюсь из этого делать никакой теории и не хочу ни подо что подкапываться. Мне хорошо известно, что всякий человек, будь то хотя бы сам Леонардо да Винчи, есть производный продукт экономических сил, которые все на свете производят и экономят. Я желал бы добавить к этому только одно замечание, что человеческий, так сказать, индивидуум, характер, личность и даже – если угодно – душа – тоже не играют в жизни никакой роли, а есть лишь опечатка нашего зрения, вроде пятен в глазу, возникающих в тех, например, случаях, когда мы тычем в него пальцем или долго, не мигая, смотрим на яркое солнце.
Мы привыкли, что люди ходят в воздухе, который кажется нам пустым и прозрачным, тогда как людские фигуры, овеваемые ветерком, имеют видимость твердости и большой густоты. Вот эту равномерную плотность и законченность силуэта, выступающего особенно хорошо на светлом воздушном фоне, мы ошибочно переносим на внутренний мир человека и называем это «характером» или «душой». На самом же деле души – нет, а есть лишь отверстие в воздухе, и сквозь это отверстие проносится нервный вихрь разобщенных психических состояний, меняющихся от случая к случаю, от эпохи к эпохе.
Когда я выше упомянул, что в судьбе инженера Бельчикова видное место занимали распутницы и попы, я не хотел ничем задеть этого славного человека, а попросту констатировал общее положение дел. Не сам инженер Бельчиков, а тот, кто в настоящий момент жил под его псевдонимом, точнее сказать – та невыразимая дырка, которая в данный отрезок времени была заполнена его инженерским, Бельчиковским состоянием, в другие времена служила пристанищем совсем иным состояниям, регулярно обновлявшимся, – уж я не знаю зачем, может быть, в целях какого-нибудь исторического баланса.
Любой из нас, если будет к себе внимательным, обнаружит без труда самые неожиданные рецидивы прошедших и будущих состояний, вроде, например, желания украсть, убить или продаться за хорошие деньги. Я про себя честно скажу, что иногда сильно испытывал в этой самой, с позволения выразиться, душе и не такие еще позывы, и вы тоже все это у себя найдете в большом количестве, если не станете хитрить и бесстыдно увиливать. Главное – не лицемерьте, и вы поймете, что нет у вас никакого права говорить – «он – вор», а «я – инженер», потому что никакого «я» и «он», в сущности, не существует, а все мы – воры, и проститутки, и, может быть, еще хуже. Если вы думаете, что вы не такие, значит, вам временно повезло, а в прошлом, – хотя бы тысячу лет назад, мы все были такими или в будущем непременно достигнем этого уровня, о чем нам без умолку твердят наши сладостные воспоминания и горькие предчувствия…
Впоследствии я кое-как овладел опасным искусством видеть дальше, чем это установлено нашей природой. Я научился контролировать себя, и регулировать, и иметь дело с людьми, как если бы они взаправду находились в постоянных границах своей личности и биографии. Но в ту минуту мне казалось, что меня окружают не два десятка, а по крайней мере две сотни движущихся физиономий. Я скользил глазами по их поверхности, боясь угодить в полынью – глубиной, быть может, в пятьсот, в тысячу и в десять тысяч лет. Ужас Цветного бульвара, переселивший меня в эпоху ископаемых троллейбусов, стыд и позор моей недавней смерти призывали к осторожности, а я не мог остановить разъезжающиеся глаза, которым ни один предмет не казался достаточно прочным и достоверным.
И тогда, ища поддержки, я обернулся к Наташе, хотя знал заранее, что этого нельзя допускать. Ведь понимал же я, что Наташа тоже была человеком и у нее, следовательно, могли появиться какие-нибудь усы на лице, не говоря уже о признаках более радикальных. Мне не было вполне ясно, какие события на нас надвигаются, но я на всякий случай избегал на нее смотреть слишком пристально, потому что мог, значит, догадываться, что с такими вещами шутить не следует…
И все-таки, ловя глазами опору, я посмотрел на нее и в первый момент был обнадежен, не найдя там ни усов, ни бороды, ни других безобразий, способных в один миг испортить всю красоту. Но вместе с тем голова Наташи тоже слегка отсутствовала. Я угадывал ее скорее по привычке и, чем больше приглядывался, тем явственнее различал угрожающее отсутствие черепа, доходившее почти до шеи и до краешка подбородка. При этом тело Наташи не падало и не сползало вниз, а выпрямленно покоилось в кресле, и пальцы ее поправляли невидимую прическу, выделывая в пустом пространстве беспочвенные пируэты.
Мне стоило труда, лавируя глазами, восстановить истину в Наташиной внешности, собрав по порядку ее лицо и голову, как поступают реставраторы с разбитыми вазами. Но я не хотел думать, как трескаются и разлетаются в прах эти бьющиеся сосуды, если уронить их на тротуар, или ударить ледышкой, или, предположим, с какой-нибудь высоты сбросить на них нечаянно какую-нибудь твердую тяжесть. Я вообще старался поменьше размышлять о случившемся, потому что Наташа была слишком хрупка для этого и могла опять не выдержать внезапного столкновения с моим шатким сознанием.
– Пойдем домой, Наташа, – сказал я негромко, ощущая в сердце усталость и какое-то безразличие. Чувство непоправимой утраты было так велико, что меня почти не коснулось высказывание Бориса, который вдруг сказал из своего угла:
– Скажи мне, кудесник, любимец богов, – проговорил он с кривой улыбкой. – Угадай попробуй, чем я занимался в прошлое воскресенье с десяти до одиннадцати?!
Это были единственные слова, которые он произнес, и вся зависть, накипевшая в нем, и ревность, и срамота сосредоточились в этом вопросе, выпущенном из угла. Он даже не пощадил Наташу, а так прямо в ее присутствии назвал день и час – «в прошлое воскресенье, с десяти до одиннадцати», чтобы тем сильнее позлорадствовать надо мной изнутри и заодно испытать на практике тонкость моей проницательности.
При других обстоятельствах я избил бы его на месте и натворил бы, наверное, массу других безумств. Быть может, в порыве гнева я отказался бы от Наташи, вернув ее Борису с брезгливым определением. Но тут я знал о ней больше, чем он мог представить. Посреди всех несчастий, свалившихся на меня и готовых свалиться в самое ближайшее время, мне казалось не столь существенным, что Наташа мне изменяла с десяти до половины одиннадцатого в прошлое воскресенье. Не до одиннадцати, а до половины одиннадцатого, если уж быть пунктуальным…
Не глядя на нее и не отвечая Борису, я сказал мягко и медленно, как если бы ничего не случилось:
– Пойдем, Наташа, домой. Пойдем, пожалуйста.
Она сразу встала и прошлась со мною по комнате, обхватив меня под руку своей теплой рукой. Я был ей признателен за этот знак постоянства. Что ж из того, что Наташа понемногу мне изменяла, уступая мольбам и воздействиям своего бывшего мужа? Она делала это из жалости и по старой привычке. А любила она только меня, любила систематически, как могла и пока могла… Это надо ценить в наше смутное время.
В прихожей меня поймал летчик-испытатель и, притиснув к вешалке, захотел посоветоваться. Он выпытывал шепотом, по секрету от жены, когда ориентировочно ему предписан конец. Его волновало, заводить ли ему ребенка и стоит ли покупать холодильник.
В ту ночь я дал зарок никому не говорить о смертных исходах, дабы не расхолаживать в людях романтическое настроение и сохранять в них бодрость духа и здоровую предприимчивость. Но здесь мне пришлось сделать уступку. Смерть в его профессии летчика-испытателя была регулярным занятием и возбуждала в нем спокойное отношение, а не являлась предметом праздного любопытства. Поэтому я сказал, как мужчина мужчине, что жить ему остается пять с половиной лет, после чего, набирая рекордную скорость, он превратится в пар в районе Тихого океана, не успев понять технической причины столь нечувствительного исчезновения.
При этом известии он страшно развеселился. Пять с половиной лет показались ему немалым сроком. На это он никак не рассчитывал, ожидая, что все произойдет значительно быстрее. Теперь он мог себе позволить покупку холодильника и наслаждение с женою, не омраченное противозачаточными средствами, и радовался, как дитя.
– А признайся, браток, – прохрипел он, трясясь от хохота и колотя меня по плечу. – Признайся – клоп у тебя ученый, дрессированный, вроде собаки? Ловко ты нас разыграл с этим своим клопом. Расскажи, открой военную тайну, я никому не скажу…
Этот летчик легко поверил, когда я предсказал ему смерть в ракете через пять с половиной лет. Но понять, как можно предвидеть переползание клопа по стене, – было свыше его сил.
3
Глухарь замертво скатился с березы, словно его дернули за веревку. Я спустил курок и, прицелившись, вижу, что он сидит на суку, здоровенный черный петух, и глядит на Диану. Мы слезли с коней и поскакали. «Ни пера, ни пуха», – Катенька в розовом капоте машет ручкой с веранды. Прыгнув в седло, я сбегаю с крыльца и натягиваю сапоги. «Пора, барин, вставать, скоро светает», – кричит мне в ухо Никифор. Мои руки обняли его тугие икры: «Не покидай нас, ради Бога, ради сына твоего умоляю…» Он смотрит в сторону, бледный от злости: «Сударыня, нас могут заметить». Я взял скальп в зубы и поплыл. На середине реки мне сделалось дурно. Не разжимая рта, я погружаюсь…
– Скажи, Василий, кто такой Пушкин? – спрашивает меня жена за обедом.
– А это, милочка, один такой древнерусский писатель. Пятьсот лет тому назад его расстреляли.
– А кто такой Болдырев?
– Это, милочка, тоже один великий писатель. Автор пьесы «Впотьмах» и многих стихотворений. Двести лет назад его расстреляли.
– И все-то ты знаешь, Василий, – говорит жена и вздыхает. Я стреляю из пушки, я стреляю из арбалета, я стреляю из катапульты. Они бегут. Мы бежим, бежим и вбегаем в город.
– Пойдем в подвал, – говорит Бернардо. – Есть одна девушка. К сожалению, уже умерла, но еще не закоченела.
Мы спускаемся. Девушка лежит на камнях – животом вверх. Ее лицо прикрыто задранной юбкой.
– Не годится, – говорю я. – Что скажет Дева Мария?
– Ей теперь все равно, – возражает Бернардо.
Он берет доску и подкладывает ей под крестец. Перекрестившись, я ложусь первым. Бернардо жмет ногой на рычаг. Девушка покачивается подо мной, точно живая.
– Поторапливайся, – говорит Бернардо.
– Молчи, не мешай мне, – отвечаю я и зажмуриваюсь…
– Я люблю тебя, Сильвия!
– Я люблю тебя, Грета!
– Я люблю тебя, Христофор!
– Я люблю тебя, Степан Алексеевич!
– Я люблю тебя, Василий!
– Я люблю тебя, мой котеночек, моя пуговка, моя устрица, мой бутербродик!..
– говорят он они мне и целуют в губы.
Тьфу! Слепень бьется в стекло. Снег сверкает на солнце. В графине стынет молоко. Митя чихает.
Раз чихнул – обвал в Гималаях, обломки неба погребают нас вместе с носилками.
Два чихнул – молния ударяет в храм Пресвятой Троицы, гремит гром, горит крыша сарая, горят стога с сеном.
Три чихнул – наводнение, пастор Зиновий Шварц верхом на корове переправляет стулья в чехлах.
– Митя! – говорит мне дядя Савелий, откладывая «Московские ведомости». – Если ты не перестанешь чихать, я тебя высеку…
Несколько дней я провел дома, предаваясь этим видениям. Они были отрывочны, бессистемны, и мне никак не удавалось отделить одну мою жизнь от другой и расположить их в должном порядке, по восходящей линии. С другой стороны, отсутствие промежуточных звеньев, соединяющих смерть с рождением, также интриговало меня с научной точки зрения. Но, видно, подземные перегоны мне не дано было постичь, и потому логика всех этих превращений от меня ускользала, и я не понимал, кому понадобилось делать из меня посмешище. То индеец, то, видите ли, итальянец, а то попросту невинный ребенок Митя Дятлов, скончавшийся неизвестно зачем восьми лет от роду где-то на рубеже 30-х годов 19-го столетия…
Лишь один раз предо мной приоткрылась завеса, опускающаяся в антрактах, и я увидел себя лежащим на столе, в чепчике, в кисейном платье, в позе трупа, вполне сформировавшегося и приуготованного к захоронению. Подле стола, не стесняясь, плакал навзрыд мой муж, а мои дети приподымались на цыпочки, с ужасом и любопытством взглядывая в лицо, уже начинавшее видоизменяться. Но сам я, живой человек, смотрел на эту сцену откуда-то сбоку и свысока, и я тоже плакал и кричал во весь голос, чтобы они подождали со мною прощаться, потому что, может быть, я соберусь еще с силами и встану. А также я просил, чтобы они убрали цветы, потому что меня мутило от этого запаха кондитерской. Но они не обращали на меня никакого внимания и скопом вынесли мое тело в дверь, как заведено, ногами вперед, и я бежал за ними по нашей мраморной лестнице, крича, чтобы меня подождали, и потерял сознание…
Иногда в этом потоке нахлынувших воспоминаний я утрачивал ясность мысли, кто я такой и где нахожусь. Мне начинало казаться, что меня нет, а есть лишь бесконечный ряд разрозненных эпизодов, случавшихся с другими людьми – до меня и после меня. Чтобы как-то восстановить и засвидетельствовать мою подлинность, я крался к зеркалу и сосредоточенно туда смотрелся. Но это мне помогало очень ненадолго.
Человек уж так устроен, что его наружность всегда кажется ему недостаточно убедительной. Глядя в зеркало, мы не перестаем удивляться: неужели вон то мерзкое отражение принадлежит лично мне? не может быть! В этой невозможности отделить себя от себя есть что-то фатальное в нашей жизни, и мне, наблюдавшему однажды свои похороны и только что описавшему это явление, позволительно будет заметить, что чувство, которое я испытал тогда, лишь повторило в удесятеренных размерах наши общие переживания перед зеркалом. Это – чувство несогласия с тем, что тебя выносят куда-то вовне, в то время как ты находишься вот здесь, внутри. Кто-то, я полагаю, сидит в нас и всякий раз горячо протестует, когда его хотят уверить, будто он и есть та самая личность, которую он видит перед собой. Поднесите ему к носу сколько угодно зеркал самой лучшей конструкции, он, сидящий в нас безвыходно и безвыездно, – глянет и замашет руками:
– Что вы, с ума сошли?! Разве это я?
– А кто же тогда? – Нет-нет, это не я, не я! – запищит он вопреки очевидности.
Лишь хорошенькие женщины способны часами бесстрашно на себя любоваться. Но это объясняется тем, что они мало думают и смотрят на себя не своими глазами, а посторонним взглядом своих оценщиков и потребителей. Все же прочие, нормальные и умные люди, не выдерживают испытания зеркалом. Потому что зеркало, как смерть, противоположно нашей природе и вызывает в нас тот же страх, недоверие и любопытство.
Сомнительно, чтобы кусок стекла, обмазанный какой-то пакостью, был способен правильно передать всю глубину человека. И мы начинаем храбриться, кривляться и гримасничать, точно хотим этим выразить свое сомнение в призраке, который с независимым видом маячит перед нами. Дескать – ну тебя! пошел прочь! сгинь! рассыпься!
Ужасает, однако, то, что вопреки здравому смыслу он также начинает кривляться вслед за тобою, и дует на тебя, и бормочет прямо в глаза: «Рассыпься, дурак, рассыпься!»
Вот и не знаешь, кому верить – ему или себе? – и мучаешься над мировыми загадками, и сомневаешься, и строишь глупые рожи, пока не плюнешь на него в сердцах и не пойдешь прочь, довольный уже тем, что он тоже очищает позицию и вопрос о твоем бессмертии остается пока открытым.
Попробуйте часок-другой провести перед зеркалом, и вы поймете меня.
Но мои сомнения были еще мучительнее. Через несколько минут задумчивого противостояния передо мной возникали портреты тех самых существ, которые когда-то здесь обитали и глядели на себя в различные зеркала. Своей непривлекательной внешностью они оттесняли на задний план мое собственное исконное изображение – какое я всегда знал за собой и мог бы подтвердить это десятками фотокарточек. Теперь оно подергивалось ухмылками и прищурками, оно закатывало глаза, и финтило носом, и намыливалось для бритья, и слезилось, и пузырило щеки, и выдавливало из себя угри и прыщи, хотя сам я при этом ничего такого не делал, но сохранял изо всех сил спокойствие и серьезность. Мне приходилось сдерживаться из боязни, что мое лицо по старому обычаю захочет прийти в соответствие со своим отражением. Тогда бы, передразнивая чужие гримасы, я бы окончательно свихнулся как самостоятельная единица. Поэтому, подходя к зеркалу, я всякий раз принимал каменное выражение.
Не знаю, чем бы кончились эти опыты, если бы одна встреча не показала мне тогда всю рискованность этой игры с призраками памяти, грозившими прогнать меня с насиженного места.
Это был коричневый человек, маленький, пожилой, угловатый, похожий на летучую мышь со свернутыми перепонками. В качестве отражателя он пользовался какой-то стекляшкой, многогранно дробившей его фигурку, и без того достаточно ломаную. Но вот крупным планом показалась его голова, лысая, костистая, туго обтянутая темной, пропеченной кожей, и злобное изможденное личико глянуло на меня с такой пронзительностью, что я понял – он здесь, он видит меня. Да, я видел его, а он видел меня, и мы замерли друг перед другом в испуганном изумлении, потому что он тоже вдруг заметил, что я смотрю на него, и был не меньше меня поражен и перепуган. «Боже мой, неужто я был когда-то таким?!» – мелькнуло у меня в голове, и далекое жгучее воспоминание коснулось моего мокрого, моего похолодевшего лба…
Пустыня. Кварц. Солнце. У меня в пальцах кристалл. Что-то будет со мною через семьдесят пять обновлений? Спрошу?.. Нельзя спрашивать! Спрошу! Никто не узнает. …Вижу себя. Мудрая, красивая, кожаная голова… Кто – это? Кто – это? Белое, скользкое, в поту. Похож на улитку. До чего отвратителен! Какое-то мясо в тряпье. Веревка на шее. Удавленник. Выродок. Меня заметил. Глядит! Оттуда глядит!! Неужто видит? Видит, видит… Губы трясутся. И это – я, я! – таким буду?!
И почти одновременно с ним, на его темно-коричневом фоне, я увидал в зеркале себя – таким, каким он меня увидал тогда в своем кристалле, – и память о моем тогдашнем впечатлении от моего теперешнего состояния мигом нарисовала мне его: в немыслимом пиджачке, в галстучке, обвязанном вокруг его белой, ублюдочной головенки… Я, кожаный, задохнулся от ненависти к тому, пиджачному и студенистому. И я бросился прочь от кристалла (от зеркала?) – по пустыне (по комнате?) и, упав на кровать (на песок?), закрыл лицо руками. Мне показалось, что он сделал то же самое со своим – я не знаю уже с каким – кожаным или студенистым? – лицом…
Так они встретились и разошлись —
– вспомнивший о том,
КТО увидал,
как он вспоминает,
и увидавший того,
КТО вспомнил,
как он увидал.
Между ними лежал промежуток в 5000 лет. Их было двое. А меня среди них не было…
Из этого отсутствующего состояния меня вывела Наташа. Она спросила удивленно:
– Ты спишь? Среди дня? Ты чем-нибудь заболел?
Это нежное «ты», сказанное Наташей, относилось лично ко мне, потому что в комнате никого не было, кроме нее и меня.
– Да, – ответил я, радостно вставая с кровати. – Я спал. Я здоров. Я отлично себя чувствую. Я рад твоему приходу. Я так рад. Я так, я так тебя люблю.
И мы крепко расцеловались…
Визиты Наташи в эти дни были для меня просветлением. Она вносила в мой дом недостающую дозу реальности. Рядом с нею я чувствовал себя крепче и уверенней в жизни, не казавшейся мне такой уж непостоянной, если здесь была Наташа, про которую я твердо знал, что любил ее и люблю. Мне нравилось слушать ее рассказы о профессорах, экзаменах и дипломных работах (она писала диплом о Тургеневе и собиралась кончать в этом году). И то, как она в пять минут приготовляла яичницу из трех яиц и создавала на салфетке иллюзию чистоты и уюта, и то, как она устраивала из какого-нибудь полотенца изящный фартучек на груди и сразу принимала вид молодой хозяйки, или то, как она перекусывала нитку возле самой иглы, – все это также нравилось мне и укрепляло в сознании, что все в этом мире стоит на своих местах.
Однако смотреть на нее слишком пристально я по-прежнему избегал. Не то чтобы я боялся сигналов об опасности, которая все равно не смогла бы от этого исчезнуть. А просто мне не хотелось лишний раз производить разрушения на ее лице, регулярно случавшиеся при слишком сильном всматривании. Поэтому я предпочитал целовать ее на ощупь, не глядя, а в разговорах с нею по преимуществу смотрел на пол или в окно.
Она, конечно, заметила эту мою перемену и думала, что я догадываюсь о ее связи с Борисом, но мы теперь не касались никаких скользких тем, на что у каждого из нас были свои причины. Новогодний успех в роли предсказателя я ей коротко объяснил давним знакомством с популярной системой научных опытов и развлечений Тома Тита. Наташа не стала меня расспрашивать. Она только допытывалась чаще обычного, не разлюбил ли я ее из-за каких-нибудь пустяков, и на этот вопрос я говорил, что ничего в отношении к ней у меня не изменилось, и обнимал ее в доказательство, поглядывая на пол или в окно.
На дворе, несмотря на январь, стояла слякоть, и на соседних крышах висели сосульки, и, хотя дворники их скалывали почти ежедневно, они вновь вырастали, как грибы. И поглядев из окна на эту картину, удручавшую меня своей неизбежностью, я принимался торопить Наташу с отъездом. Разумеется, я не обмолвился ни о 19 января, которое приближалось, ни об угрозе, нависшей над нами из Гнездниковского переулка, с высоты большого, десятиэтажного дома, вполне достаточного, чтобы убить слабую женщину. Но я обдумал все, и все взвесил, и объявил Наташе про свое намерение провести вместе с нею отпуск вдали от города, на лоне природы. За пять суток, 14 января, я сказал, что нельзя медлить и сегодня мы уезжаем – поезд отходит ночью, билеты куплены. Однако никаких билетов у меня не было и денег тоже не было, и когда Наташа ушла складывать чемоданы, я решил прибегнуть к Борису за неимением лучшего выхода. Мне представлялось, что он не посмеет отказать в одолжении, если явиться к нему внезапно и без объяснений попросить взаймы, под расписку, полторы тысячи.
В самом деле, Борис сперва отнекивался и прибеднялся, но вскоре пошел на попятный, стоило намекнуть, в каком потайном отделении письменного стола хранятся у него деньги и в каких купюрах.
– Ты что же – насквозь видишь? Тебе бы сыщиком быть, – заявил он, некрасиво кривясь в закоченевшей улыбке. – Кстати, могу поздравить. Студентка – помнишь – на вечере? Получила «пять» по марксизму. Все в точности, как ты предсказал. 5-й съезд партии и 4-й закон диалектики. А Бельчикова исключили из партии. Я проверял. Лавка в Семипалатинске полностью подтвердилась…
Мне было жаль Бельчикова. Я не хотел ему наносить жизненного ущерба, я просто тогда не подумал о возможных последствиях. Но с Борисом следовало держаться настороже. Борис был способен причинить крупные гадости. Вот и сейчас вокруг него витало хмурое облачко зеленовато-бурой окраски – верный признак злобы в сочетании с душевной подавленностью. Оно обволакивало его впалые щеки и завихрялось над теменем. Это было похоже на табачный дым, но Борис не курил.








