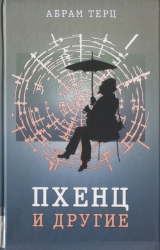
Текст книги "Пхенц и другие. Избранное"
Автор книги: Абрам Терц
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
И не успел ты понять, что это значит, как Генрих Иванович Граубе – при шляпе и с портфелем в руке, – наскоро оглядевшись, упал в снег на колени. Его массивная физиономия, пожелтевшая под цвет обстановки, была исполнена грусти и благородной просительности.
На одну секунду тебе в голову пришла дикая мысль: быть может, Генрих Иванович сам тебя опасается?..
Но ты отогнал иллюзии. Ты вовремя сообразил, какая высшая стратегия заключена в униженной позе. Снизу, из грязи, виднее, уязвимее душа человека. Снизу ты легче доступен. Упавший перед тобой на колени имеет уже те преимущества, что может в любую минуту схватить тебя за ноги и уронить на спину.
Поэтому, не дожидаясь, ты с криком отпрянул в сторону и, видя, как брови Граубе лезут от удивления вверх, ударил его по лицу, не в бровь, а в глаз… В воротах ты обернулся. Генрих Иванович сидел на снегу, толстый портфель лежал перед ним плашмя. Одной рукою Граубе закрывал половину лица. Но здоровой половиной он продолжал смотреть на тебя.
– Погодите! Не уходите! Уверяю вас – вы ошибаетесь! – говорил он, шмыгая носом и тихонько повизгивая. – Какой же я соперник? Вы зря волнуетесь. Моложе меня. Поберегите здоровье. Лида сама к вам явится, только свистните. Хотите скажу ей – не поехали в Ялту? Сама прибежит. Хотите?
Но ты не поддался на приманку. Со всех ног, забыв о некупленной колбасе, ты бросился домой и там заперся.
5
В тот же вечер к нему пришла Лида. Она позвонила два раза – никто не отзывался. В дверную щелку для писем виднелся кусок прихожей, тусклой и захламленной второстепенной домашностью. Наискось, на полу стояли ноги. Лида их узнала по ботинкам и брюкам. Все остальное находилось вне доступа.
– Это я – Лида! Откройте, Николай Васильевич! – крикнула Лида радостно в письменное отверстие.
К ее удивлению, знакомые ноги не сдвинулись с места. Они чуть заметно вздрагивали, но к ней навстречу не шли. Выждав для приличия, Лида позвонила еще раз.
Шумело отопление. Внизу, на первом этаже, играло радио.
– Николай Васильевич! Это же я – Лида. Почему вы молчите? Думаете – я вас не вижу? Вон, вон – в углу стоите, и брючки на вас такие же самые, чехословацкие, полушерсть. Пустите на минуточку.
В прихожей щелкнул выключатель. Светлая полоска погасла. Лида в нерешительности сделала круг перед дверью.
– Или вам обидно, что жениться на мне обещались? Так вы не думайте, я не для того. Мне расписываться не обязательно. Честное слово. Зачем вы свет потушили, Николай Васильевич? Все равно все слышно. Стоите там и вздыхаете. Как не стыдно! Вам, наверно, про меня чего-нибудь рассказали? Не слушайте никого. С Лобзиковым я уже четыре месяца ничего не имею. И с Полянским тоже. Как вы в отпуск ушли – только про вас думаю. Ни с кем ни разу даже не целовалась. Честное слово. Я, Николай Васильевич, если хотите, на всю жизнь вам верной останусь. Вечно вас буду любить. Как мужа. Обед для вас буду варить, если захотите.
Она прижималась к двери то глазами, то губами. В квартире Николая Васильевича господствовала тишина. Но оттуда – сквозь узкую щель – тянуло теплым, немного затхлым воздухом.
– Что же ты, милый, что же ты розочку не сорвал? – шепнула Лида, зардевшись. Потом понюхала в последний раз прорезь и пошла восвояси.
Лишь с ее уходом ты рискнул пошевелиться, размять затекшие члены. Ты был в жару и в поту. Какое мальчишество – выскакивать на звонок, под яркий электрический свет! Эта оплошность едва не стоила тебе головы. Хорошо по крайней мере, что ты вовремя спохватился и застыл на месте, как мертвый, будто это и не ты вовсе и тебя нет.
А что оставалось делать? Впустить ее внутрь? Демонстрировать у всех на глазах свою личную жизнь? Да с кем? – с той самой женщиной, которая – теперь ты осознал это вполне – была приставлена к тебе по указке Граубе? Еще тогда, при гостях, она провоцировала тебя на любовь, и ты чуть было не… Бежать! Бежать пока не поздно! Пока она не вернулась, не ворвалась к тебе насильно под маркой бывшей невесты, которая считает своим долгом следовать за тобою повсюду – только потому, что ты имел несчастье однажды ее ущипнуть на какие-нибудь три сантиметра выше общего уровня…
Ты выглянул в окошко, таясь за косяком и не зажигая огня. Путь был отрезан. Внизу дежурила Лида. Она не собиралась тебя покидать и расхаживала перед домом, как часовой.
Твои ноги в нагретых ботинках распухли и болели. Ныла рука, поврежденная мерзавцем Граубе при помощи надбровной дуги. Но хуже всего было не оставлявшее тебя ощущение – едкое, щекотливое чувство собственной кожи. Ты непрестанно морщился, мотал головою и растирал ожесточенно ладонями лоб и щеки.
…Это тяжелое зрелище мозолило мне глаза. Они тоже изрядно болели. Казалось, у меня между век вставлены спички-распорки и оба глазных яблока расцарапаны до крови.
Чтобы дать себе роздых, а также по возможности облегчить его страдания, вызванные моей наблюдательностью, я старался глядеть в другую сторону и честно избирал для прогулок самые отдаленные улицы – Марьину рощу, Большую Оленью, что в районе Сокольников. Но это не помогало. Куда бы я ни двигался – пешком или на троллейбусе, – передо мной маячили злые глаза и веснушчатые рыжеволосые пальцы…
Я хорошо понимал, что все это может плохо кончиться. Когда стало невмоготу, я взял такси и выехал на место событий.
Мой расчет состоял в том, чтобы увлечь Лиду с ее поста и тем самым разрядить обстановку. Я думал уменьшить число глаз, которые силой воображения он на себе сконцентрировал. Но был и второй момент: мне хотелось рассеяться. Я нуждался в третьем лице для забвения и защиты от моего преследователя.
Лида самоотверженно мерзла под его темными окнами. Хотя мы были знакомы, так сказать, заочно, ее слабые струны для меня не составляли секрета. Делом пяти минут было завязать разговор и пригласить ее погреться неподалеку в кафе. Я назвал себя первым попавшимся именем, кажется, – Ипполитом. Она согласилась. Ей все равно идти было некуда.
Пока мы ждали сациви и шашлыки по-карски, я высказал ей в утешение несколько комплиментов.
– Зачем вы бороду носите? – спросила она кокетливо. – Для солидности? Но это вас старит. И вообще – рыжим борода не к лицу.
– Что вы говорите?! Какой же я рыжий?! – ужаснулся я ее способности перекрашивать вещи по своему вкусу.
– Нет, вы рыжий! – упрямилась Лида. – С рыжеватым оттенком. Вы немного похожи на одного моего знакомого…
Я не считал нужным муссировать эту тему, опасную для всех нас, но сказал напрямик, что терпеть не могу рыжих. Рыжие вечно думают, что все на них смотрят, и потому они ужасно много мнят о себе и никому не верят. А на самом деле никто на рыжих не смотрит и смотреть не желает, и нет никому до них – до рыжих – никакого дела.
– Зато они – ревнивые, – хвасталась Лида. – И все тонко чувствуют и тонко понимают.
О, я прекрасно видел, куда летят ее мысли. Но все это было впустую. К тому времени, как нам подали ужинать, ее рыжеволосый красавец успел далеко зайти в разрушительном изобретательстве. Лежа во мраке и уткнув лицо в подушку, он силился, что есть мочи, ни о чем не думать.
– Ди-ди-ди, ля-ля-ля. Ди-ди-ди, ля-ля-ля, – бормотал он сосредоточенно.
Ему казалось, что, выключив мозг с помощью очевидной бессмыслицы, он избавится от соглядатаев, подсматривающих за ним изнутри. Мало ему было восстанавливать против себя целый свет. В самом себе он заприметил следы моего тайного розыска и решил сразиться со мной на путях своего сознания. «Ди-ди-ди, ля-ля-ля» – попробуй пробейся сквозь эту стену. И не зацепишься. Что значит это тупое, бесталанное дидиликанье?..
Я сказал Лиде, разливая коньяк:
– Пейте, Лидочка. Пейте, Лидидилия. Не будем думать ни о каких рыжих, ни о каких рыжих. Не обращайте на рыжих внимания. Вам сразу станет легче. Кушайте сациви и шашлык. Шашлык! Шашлык! Сациви!
– Ди-ди-ди, ля-ля-ля! дядя! дядя! дядя! Ди-ди-ди, ли ДИ-ДИ…
– Сациви! Сациви! Кушайте, Лидочка, шашлык. Жирный, жирный, рыжий шашлык. Шаш? – или шиш? – лык! лык! лык! Сациви!
Но мы не могли, сколько ни бились, отвлечься друг от друга, побороть притяжение, влекущее нас к катастрофе. К тому же и мне и ему мешала Лида. Она сказала, разогревшись после третьей рюмки:
– Вы мне нравитесь, Ипполит. Вы очень, очень похожи на одного моего знакомого. Он тоже меня угощал у одних моих знакомых. Только я вас прошу – сбрейте бороду. Ну, пожалуйста, милый, для меня. Возьмите бритву и сбрейте!
У меня дух захватило от ее предложения.
Молчите! – крикнул я ей. – Ни слова больше! Ни одного упоминания ни о каких острых предметах! Слышите?!
И в то же мгновение я увидал, что он поднимает голову.
Ты поднял голову, как бы прислушиваясь к нашему разговору, и улыбнулся. Ты сказал себе мысленно: «Надо побриться» и повторил вслух: – Надо побриться! Ля-ля-ля! Надо побриться!
И опять улыбнулся – второй раз за все это время. Меня била дрожь. Я схватил Лиду за руку, и мы, не допив коньяк, выбежали на улицу. Там – без предисловий – я объявил, что люблю ее, люблю безумно, страстно, и ни на кого не хочу смотреть кроме нее, и ни о ком не желаю думать, и потому она обязана мне сегодня принадлежать – немедленно, тут же, вот сейчас!
Ты встал и включил электричество. Твои глаза сощурились.
Лида сказала:
– Но здесь же холодно и ходят люди. Если вы так настаиваете, поедемте к вам домой, если вы не женаты.
Я тащил ее по улице, пока ты согревал воду и отыскивал свой помазок и эту самую свою бритву. У меня оставались считанные минуты. Не оставалось ничего другого, как зайти в чей-то подъезд. На самой верхней площадке было не так уж холодно, и было маловероятным, чтобы нас увидали.
А если б и увидали? Какое мне дело! Меня одолевали свои заботы. Это я, я сам не должен никого замечать! Я хотел, пока не поздно, выскочить из игры, которая могла плохо кончиться, а других средств спасения, кроме Лиды, не было под руками.
Я встал перед ней на колени. Мне хорошо запомнилось одно правило: «снизу человек доступнее, и стоящий перед ним на коленях может в любую минуту схватить его за ноги и опрокинуть на спину».
Так оно и вышло. Лида дружелюбно трепала мою склоненную голову, а я обхватил ее руками за тонкие ноги и прислонил к стене. Класть Лиду на кафель мне не хотелось: еще простудится.
Я не стыдился своих намерений, достаточно откровенных. В конце концов, не для своего удовольствия я старался. У меня не было иного выхода.
Конечно, было бы лучше, если бы ты оказался на моем месте. Чего тебе не хватало в жизни – так именно откровенности. Все-таки в объятиях женщины всякий мужчина, даже самый скрытный, заносчивый, вынужден волей-неволей держаться непринужденно. Быть может, и тебе, не отвергни ты Лиду, это бы пригодилось, и – как знать? – будь ты немного доверчивей, может быть, и меня ты сумел бы лучше понять…
Но ты предпочел иной путь и теперь, зажав бритву в цепких веснушчатых лапах, водил ею вдоль щек, будто на самом деле собирался привести их в порядок. Зная твое притворство, я спешил. Скорее, скорее уйти, зарыться в свои занятия, чтобы ты тоже, наконец, перестал обращать на меня внимание, перестал бы бояться, таиться и лелеять в душе мстительные расчеты.
Лида шумно вздыхала и, закрыв глаза, гладила мои волосы:
– Коля! Коленька! Николай Васильевич! Рыженький ты мой! Ненаглядный! – твердила она на все лады.
Я не испытывал ревности. Но меня угнетали эти бесконечные напоминания, эта неуместная близость к тебе в ту минуту, когда я надеялся скрыться от тебя достаточно далеко. Я приближался к тебе с опасной быстротой и уже видел рядом с собою твои глаза, расширенные от бешенства. Назад! Назад! Поздно. Я вошел в твой мозг, в твое воспаленное сознание, и все твои последние тайны, которые я и знать не хотел, открылись передо мной.
Ты вскочил со стула. Все свидетели твоего злодеяния были в сборе. Ага! Попались! Ты замахнулся на меня, на Лиду, на весь мир своей заготовленной бритвой.
– Стой! Не смей! Что ты делаешь?
Я зажмурился. И вмиг давно не испытанное спокойствие вернулось ко мне. Стало темно и тихо. Я перестал тебя видеть. Тебя больше не было.
6
Когда я открыл глаза, Лида помадила губы. Она встряхнулась, поправляя шубу и платье. От нее отскочила пуговица и покатилась вниз, со ступеньки на ступеньку, Лида сошла по лестнице и подобрала пуговицу. Потом спустилась еще на один этаж.
– Куда же вы, Лида? – сказал я скорее из вежливости, чем по искреннему побуждению. Ответа не было: Лида спешила на свой пост, оставленный час назад. Взглянув в том направлении, я убедился, что она зря торопится. Сторожить ей было некого. Наш общий знакомый валялся под столом с намыленной щекой и перерезанной глоткой. Падая, он ухитрился разбить настольную лампу. Свет в его комнате не горел.
Я присел на ступеньку в ожидании, когда Лида исчезнет. Но окончательно скрыться из моих глаз ей никак не удавалось. Тогда я встал и, покинув гостеприимный подъезд, направился по городу – в свой обычный обход.
Все было по-старому. Шел снег, и было такое же самое состояние суток. Два инженера – его бывшие сослуживцы, Лобзиков и Полянский – играли на рояле Шопена. Четыреста женщин по-прежнему рожали четыреста младенцев в минуту. Вера Ивановна прикладывала примочку к посиневшему глазу Генриха Ивановича. Шатенка надевала штаны. Брюнетка, склонясь над тазом, готовилась к встрече с Николаем Васильевичем, который, как бывало, бежал под хмельком по морозцу. Труп Николая Васильевича лежал в запертой комнате. Лида, как часовой, ходила под его окнами.
Я видел это и неотвязно думал о нем. Мне было немного грустно.
Ты ушел, а я остался. Я не жалею о твоей смерти. Мне жаль, что я не могу тебя забыть.
1959
ГРАФОМАНЫ
(Из рассказов о моей жизни)
…По дороге в издательство я встретил поэта Галкина. Мы сдержанно раскланялись. И я думал пройти мимо, как вдруг он, догнав меня, предложил съесть мороженое и выпить бутылку клюквенной за его счет.
Было жарко и душно. Пушкинский бульвар иссыхал. В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы. Мне это понравилось. Нужно запомнить, использовать: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы». Этой фразой я завершу роман «В поисках радости». Непременно вставлю, хоть прямо в гранки. Приближающаяся гроза оживляет пейзаж и звучит в унисон событиям: легкий намек на революцию, на любовь моего Вадима к Татьяне Кречет…
Я знал за Галкиным слабость: свои сочинения он готов читать кому угодно – даже контролеру в автобусе. Так и получилось. Пока я прохлаждался пломбиром и пил кислую воду, он успел на меня обрушить полтора десятка стихов. В них были «волосатые ноги», «пилястры» и «хризантемы». Больше ничего не запомнилось: обычная галиматья.
Стихи я не люблю. Они скверно действуют на мой ум, направляя его в ненужную сторону. Начинаешь думать в рифму, говорить в рифму, а это ужасно вредит – особенно в создании прозы. Я старался по мере сил не слушать Галкина и, чтобы отвлечь себя от поэзии, начал к нему присматриваться: наблюдения над человеческой внешностью могут всегда пригодиться.
Предо мною качался на стуле типичный образец неудачника. Из почерневшего воротника торчала небритая шея. Толстые губы и сплюснутый нос сообщали ему нечто овечье. Читал он неестественно, растягивая слова как в песне и закатывая от восторга белки. Он впал в состояние транса: его лицо перестало потеть, оно осунулось, приобрело серебристый, металлический отблеск.
Я боялся, что в кафетерии на нас обратят внимание, и предупреждающе кашлянул. Ничего не замечая, Галкин продолжал декламацию. Внезапно он споткнулся посередине строки и весь подался вперед, шлепая пустыми губами, хватая слово, вылетевшее из памяти, как хватают воздух утопающие перед тем, как пойти на дно. Вместо продолжения из него вырвался стон, полный боли и страсти: – М-м-м-ы-ы! – Он не смог застопорить голос и сокрушительно промычал: – М-м-м-ы-ы!
На этом все кончилось… Спустя мгновение Галкин уже говорил с нарочитой небрежностью:
– Как тебе нравится, старик? Как тебе нравится моя графомания?
Он скептически улыбался. Но я-то видел, я-то заметил: грудная клетка у него ходуном ходила и виски сильно пульсировали. На них уже проступили свежие капли пота – следы изнурения.
Я засмеялся и, спокойно посмеявшись сколько было нужно, – сказал:
– Очень странно, Семен, – сказал я. – Очень, очень странно. Ты что же, свои труды, – я нарочно сказал «труды», – считаешь за графоманию?
– Да! Считаю. Считаю, черт побери!
– И ты согласен, чтобы все, все без исключения, называли тебя графоманом? Прямо в глаза: графоман Галкин! здравствуйте, графоман Семен Галкин! Ни за что не поверю.
– И напрасно! – возопил он, чему-то радуясь. От радости он снялся с места и возбужденно приплясывал.
– И напрасно! И напрасно! Потому что нет никакой разницы. Да, да! Не спорь, я лучше знаю. Графомания! Болезнь – говорят психиатры. Неизлечимое, злое влечение производить стихи, пьесы, романы – наперекор всему свету. Какой талант, какой гений, скажи на милость, какой гений не страдал этим благородным недугом? И любой графоман – заметь! – самый паршивый, самый маленький графоманчик в глубине слабого сердца верит в свою гениальность. И кто знает, кто заранее может сказать? Ведь Шекспир или Пушкин какой-нибудь тоже были – графоманами, гениальными графоманами… Просто им повезло. А если бы не повезло, если б не напечатали, что тогда?..
С безотчетным волнением следил я за выкрутасами Галкина. Что-то в них привлекало меня и отталкивало, попеременно. Я не знал – балагурит он, как всегда, или рассуждает всерьез.
Но Галкин уже скис. Галкин водворился за столик и взял мороженое. Оно растаяло к тому времени, перешло в сметану. Он выскребывал, он вылизывал свой картонный, свой промокший насквозь стаканчик и приговаривал между делом:
– Мимикрия, Павел Иванович. Средство самозащиты. Я не лезу в гении. Но мне надоело. Понимаешь – надоело. Повсюду только и слышишь: графомания, графомания. Другим словом – бездарно. А я говорю им – не вслух, конечно, а про себя, в своей сокровенной душе говорю: – Подите вы все к чертовой матери! Есть же, например, пьяницы, есть развратники, садисты, морфинисты… А я, я – графоман! Как Пушкин, как Лев Толстой!.. И оставьте меня в покое!.. Хочешь, старик, я тебе почитаю что-нибудь романтическое? Из второй книги стихов. Ты знаешь мою вторую книгу?
Я прекрасно знал, что за всю жизнь Галкин не выпустил ни одной книги – ни первой, ни второй. Переводы, правда, кое-какие бывали и стишок один в провинциальной газете по случаю годовщины, а более – ничего. И знал я галкинскую привычку – воображать себя настоящим писателем, с путем развития, с хронологией. Вторая книга, пятая книга – по периодам. Тщеславное вранье графомана.
Мне не хотелось в ту минуту ставить его на место. Он выглядел таким несчастным. Я был готов из сострадания терпеть его вирши дальше. Но я спешил в издательство и мягко ему ответил:
– Давай лучше, Сема, в другой раз почитаешь. А то мне скоро уходить. Меня ждут в издательстве.
И я рассказал вкратце, не афишируя, как обстоят у меня дела, в ту пору весьма обнадеживающие.
На Галкина моя новость не произвела впечатления. Или, быть может, из зависти он сделал вид, что не произвела.
Эх! – сказал он, зевая и неприлично потягиваясь. – Они тебя обещаниями двадцать лет кормят. Двадцать лет сулят напечатать, а ни одной книги не выпустили.
И снова влез на своего конька:
– В замечательной стране мы живем. Все пишут, пишут, и школьницы, и пенсионеры. С одним тут парнем познакомился. Рожа – во! Кулаки – во! Говорю ему: «Вы бы, дорогой товарищ, лучше боксом занялись. Большие деньги, получите. Слава опять же, поклонницы». А он свое: «Нет, – говорит, – у меня, – говорит, – другое призвание. Я рожден для поэзии». Понимаешь – рожден! Все рождены! Общенародная склонность к изящной словесности. А знаешь – чему мы обязаны? – Цензуре! Она, матушка, она, родимая, всех нас приголубила. За границей проще, беспощаднее. Опубликует какой-нибудь лорд книжку верлибра, и сразу видно – дерьмо. Никто не читает, никто не покупает, и займется лорд полезным трудом – энергетикой, стоматологией… А мы живем всю жизнь в приятном неведении, льстимся надеждами… И это прекрасно! Само государство, черт побери, дает тебе право – бесценное право! – считать себя непризнанным гением. И ты можешь всю жизнь, всю жизнь…
Я поднялся.
– Погоди! Постой! Одну секунду! Вот мы с тобой здесь разговаривали, друг на друга смотрели, а про себя об одном и том же, все об одном и том же непрерывно думали. Каждый думал: ты – графоман, я – гений. Я – гений, ты – графоман.
– Меня, пожалуйста, графоманом не называй, – ответил я резко. – Себя можешь считать кем угодно, а меня не касайся!..
– Ну еще бы, еще бы…
Его плечи тряслись в бесшумном истерическом смехе.
Мы расстались сухо, без рукопожатий, так же, как встретились.
Молоденькая секретарша подняла точеную бровь.
– Страустин? Павел Иванович? – переспросила она, будто впервые слышала моя имя, и углубилась в ящик стола.
Дверь в кабинет редактора, обитая дерматином, была чуть приотворена. Кастрированный редакторский тенор, мне хорошо знакомый, доносился оттуда под унылую трескотню машинисток.
– …С точки зрения композиции. Еще сильнее хромаете с точки зрения языка. Солнце потело в тучах! Разве так бывает? Разве может солнце потеть? Да еще в тучах. Изучайте Чехова. С точки зрения сюжета – почему ваша Настя выходит замуж за Птицына? И почему был убит лейтенант, этот самый, как его звали?..
Второй голос ворчал, неуверенно сопротивляясь:
– Младший лейтенант Гребень. Под Вязьмой. Так оно и было на самом деле. Полная правда. Погиб ударом в живот. Фамилию немного исправил. Шпилькин звали. И Настя тоже была. Была такая Настя. Зинкой звали. Собрал жизненный опыт. Шестьдесят восемь лет. Полковник в отставке. Три войны, четыре ранения, две контузии в голову. Большой материал. Не пропадать же. На досуге приносить пользу. Композицию можно исправить. Язык переделать. Это вы правильно заметили. Солнце согласен вычеркнуть.
Как свой человек в издательском деле, я подмигнул секретарше:
– Кто это, Зиночка? Очередной графоман? Бедный Севастьян Севастьяныч! Литературу атакуют полковники, отставные кавалеристы…
Но та и бровью не повела, не пожелала войти в положение и даже не улыбнулась нисколечко моей дружелюбной шутливости. Зиночка прихлопнула дверь, обтянутую дерматином, и, укладывая канцелярию в стол, официальным тоном ответила, что роман «В поисках радости» у них больше не числится. Якобы, неделю назад, отвергнутый издательством, он был переправлен ко мне домой вместе с критическим отзывом. Под этим фактом стояла подпись в книге курьера, в графе доставок.
– Вот посмотрите. Руку узнали? Ваша фамилия? Руку я узнал и узнал горечь обмана и черную змею предательства, вписанную зелеными чернилами в графу доставок. «3. Страустина». Зинаида! Моя жена!.. Но сейчас мне было не до нее. Сейчас было важнее дать почувствовать этой вот Зиночке – смазливенькой секретарше – ее место в жизни и мое внутреннее достоинство.
Девчонка, доступная любому корректору, а в дневные часы – редактору, который имел обычай шлепать ее по спине, смеет меня учить! Шлепать по спине… Как человек, до конца отдавшийся высокому делу искусства, я был вполне свободен от этих низменных интересов. Но если бы мне посчастливилось напечатать «В поисках радости», я мог бы шлепать ее сколько угодно и она бы не возразила, и была бы еще польщена. Но я бы так не поступил, я бы придумал другое: я бы пригласил ее поначалу в Художественный театр, потом – в прекрасном светло-сером костюме, под реверансы лакеев расслабил бы ее до потери сознания сухим грузинским вином. Потом, расслабленную, веду ее под руку в гостиницу, где для крупного писателя в любой день и час есть номер «люкс», и там, под балдахином, проделываю над нею все унизительные процедуры, какие только можно представить. Не потому, что очень надо, а для одной справедливости. Тогда она поймет, с кем имеет дело. Тогда она не будет оскорблять человека, который гигантски выше ее, но не имеет пока возможностей доказать свое превосходство…
Дверь, обделанная дерматином, неожиданно распахнулась. Оттуда вылетел полковник в отставке – с белым ежиком на бронзовом черепе и непомерно развитой грудью. На нем были прицеплены различные ордена: орден Боевого Красного Знамени, орден Славы и еще другие. Встретишь такого на улице и ни за что не подумаешь, что он в свободное время приучает себя к романистике. Но теперь он был в поту и отдувался, как бронепоезд, а с тыла его преследовал выхолощенный редакторский тенор:
– Чехова изучайте! Тургенева! Толстого Льва Николаевича?..
Наступил удачный момент.
Я вылез из кресел и, наскоро пригладив затылок, крадучись двинулся к щели, образованной бежавшим полковником. Каких-нибудь пять шагов, немного холодной решительности, и редактор, сидящий в укрытии, был бы у меня в руках. Первая фраза в юмористическом стиле была уже заготовлена. Главное в этих случаях не выказывать робости, держаться непринужденно, с достоинством, на короткой ноге…
Но, видно, тот день проходил под печальной звездой. Цербер, следивший за мной, бросился наперерез. Дерматиновый заслон очутился в распоряжении Зиночки раньше, чем я подоспел. Статное тело молодой секретарши, годное для позора, преградило мне путь.
– Пустите, пустите! – вскричал я с надеждой, что нас услышит редактор. – Роман «В поисках радости» никем не мог быть отвергнут. Рукопись мне никто не возвращал. Это недоразумение, смешное недоразумение…
Я бы, наверное, в конце концов победил глупую девку. Но надо же было так случиться, чтобы в эту минуту в издательство собственной персоной ввалился писатель Б.
Мы начинали вместе, в одном литературном кружке. Над его лепетом тогда все хохотали. Он писал хуже всех, хуже, чем Галкин. И вот вам пожалуйста: через двадцать лет графоман Б. – знаменитость, хотя за этот срок он исписался вконец и у меня не было сравнений, чтобы выразить крайнюю степень его бездарности.
Он был в прекрасном светло-сером костюме, с тростью из слоновой кости, его большая сытая морда, большелобая, толстощекая, излучала спокойствие и прохладу в разогретую атмосферу. Но я-то знал, что это за птица, и не мог сносить равнодушно его присутствие, вытеснявшее меня из комнаты, как солнечный свет вытесняет звезды с утреннего небосвода… Небосклона… Я чувствовал, что я исчезаю вместе с моими смятыми брюками, растворяюсь в пропотевших носках, таю в бледной улыбке, которая трусливо вылезала на мои соленые губы вопреки сознательному намерению.
Еще немного, и Б., чего доброго, снисходительно заговорил бы со мною о жене, о детях и предложил бы взаймы 50 рублей в память о нашем знакомстве. Чтобы совсем не исчезнуть в его глазах, выжидающих терпеливо, когда я первый повернусь к нему поздороваться, мне пришлось ретироваться. Я сказал дипломатично, будто что-то припоминая:
– Вот какое дело, – сказал я. – Передайте, Зиночка, вашему начальнику – у меня нет времени. Нет времени с ним сегодня беседовать.
Но она уже тянулась всем телом в направлении писателя Б. Она кивала ему навстречу всеми своими завивками. Я не стал смотреть в ту сторону, куда она устремлялась, и не поворачивал головы…
На лестнице моих ушей коснулся подозрительный смех. Зиночка взвизгивала так весело, точно ее щекотали. Ей вторило львиное рыканье преуспевающего графомана. Вскоре к их голосам присоединился третий. Должно быть, это редактор выбрался из засады и, шлепая Зиночку по спине, изогнутой в смешливом припадке, сам понемногу стал издавать слабые звуки…
Я надкусил себе левую кисть, мстя за унижение, которое они мне причиняли. Яркий отпечаток зубов проступил на синей коже в виде белого ожерелья. В двух или трех углублениях показалась кровь.
От этой глубокой боли мне сразу сделалось легче. Я вздохнул и подумал, что когда-нибудь я напишу книгу, где выведу это трио в сатирических красках. Тогда они поймут, с кем имели дело, но будет поздно.
Хорошо было классикам XIX столетия. Они жили в тихих усадьбах, имели постоянный доход и, посиживая на стеклянной веранде, промеж балов и дуэлей, писали свои романы, которые немедленно публиковались во всех уголках земного шара. Они от самого рождения знали иностранный язык, обучались в лицеях различным литературным приемам и стилям, путешествовали за границу, где пополняли свои мозги свежим материалом, а детей, детей они сдавали на попечение гувернантки и жен отсылали на танцы или к портнихе или запирали в деревне.
А тут попробуй – возбуди вдохновение, когда организм просит есть и голова забита мыслью, как попасть в необходимую точку, как пробиться сквозь преграды, возведенные на твоем пути проходимцами-графоманами, которые вошли в литературу темным путем и замуровали за собою все входы и выходы. Где взять трехразовое питание? А еще – за газ, за электричество, и прохудились подметки, и рассчитаться с машинисткой за двести страниц машинописного текста, по рублю за страницу…
О, мизерность существования!..
Гляжу на себя и удивляюсь. Неужели этот гениальный мозг, это пылкое, неукротимое сердце воспитались на тухлых котлетках? Я не преувеличиваю: тухлые котлетки и ничего больше за целую жизнь. И нет никакой стеклянной веранды, нет элементарного письменного стола для написания хотя бы вот этой фразы, и пока пишу ее, над моим склоненным затылком с верхнего этажа дудит на трубе трубач, репетирующий одну и ту же пустую мелодию по пяти часов кряду, без перерыва.
Когда писался роман «В поисках радости», я затыкал уши ватой и обматывался вокруг полотенцем, я прикрывал глаза ладонью и работал вслепую, чтобы не видеть удручающие следы на стене – следы клопов и маслянистые пятна, и, напрягая силу воли, абстрагировался от кухонного запаха и от трубных звуков, проникавших в мое сознание сквозь вату и сквозь полотенце. Сравнивайте после этого меня с Львом Толстым, сравнивайте с Иваном Тургеневым! Я не знаю, кто из них, из классиков, согласился бы на мое предложение: пусть меня напечатают, а потом пусть я заболею и сразу умру, так и не изведав как следует всей посмертной славы. Издайте одну только книгу (лучше всего, если это будет роман «В поисках радости»), а потом убейте или делайте со мной что хотите – я приму любой ультиматум, а кто из вас принял бы, кто из вас пошел бы на такие условия?
…Жены не было дома, она еще не вернулась с работы, а дома сидел один Павлик, он сидел на кровати, свесив ножки, и рисовал в своем альбомчике. Я предложил Павлику выбрать для рисования другое место и лег на кровать, чтобы передохнуть от жары и привести нервы в порядок. С минуты на минуту могла прийти Зинаида, и я мог хорошо представить, как выскажу ей все что имею, а также меня волновала одна проблема, куда она спрятала пакет, адресованный лично мне и утаенный ею в мое отсутствие вот уже неделю, не говоря ни слова. Тем более, что точной копии я не имел, и это был, можно сказать, единственный экземпляр наиболее полного варианта, и каково было бы его вдруг утратить?








