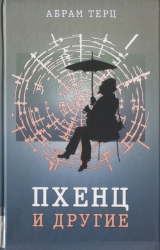
Текст книги "Пхенц и другие. Избранное"
Автор книги: Абрам Терц
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Слушая эти истории, Соломон Моисеевич радовался и все повторял с восхищением, что церковь происходит от цирка и что русскому народу всего главнее – фокусы и чудеса.
Но больше церкви любил Константин Петрович ходить в Сандуновские бани, в семейные номера. Туда одних женатых пускают и в доказательство требуют паспорт, а у него по счастливой случайности там приятель имелся из обслуживающего персонала – инвалид Отечественной войны, Лешкой звать, – и так все Лешка устраивал, что мойся хоть с генеральшей, только чтобы без драки.
Благодаря такому знакомству мылся Константин Петрович по холостяцкому делу с Тамарой, и такие они номера в этих номерах вытворяли, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Кому ни рассказывай – никто не верит. Хотя всякий завидует.
– Поиграем, что ли? – спрашивал он Тамару, запирая дверь на защелку.
– Поиграем, – говорила Тамара обыкновенным голосом, а спинкой так и вильнет.
И скинув одёжу – до самых последних кальсон включительно – начинали они показывать разные редкие штуки. Константин Петрович вешал себе интересным способом шайку промежду ног и барабанил в нее, как в барабан, а Тамара плясала народные танцы. Малиновая, запыхавшаяся, покрытая серебряной пеной, она скакала по бане, в которой было жарко, как в Африке, а он, гремя железом, гонялся за нею, и были они похожи на чертей в адской парильне, а также на краснокожих индейцев, которые действительно существуют и ходят нагишом, никого не стесняясь.
Когда же Тамаре наскучивало попусту красоваться, Константин Петрович изобретал другие развлечения. То холодной водицей окатит. То взамен поцелуя накормит Тамару мылом, а с другого конца для потехи употребит указательный палец или химический карандашик воткнет в виде сюрприза.
Все позволяла ему любящая Тамара. Лишь одного не велела делать: это смеяться не к месту – когда играющие входили в азарт и принимались функционировать друг с другом со страшной силой.
В эти минуты Константина Петровича разбирал смех. Но Тамара, кусая губу, грозила розовыми глазами. Ее лицо, горячее, темное, казалось ожесточенным.
– Молчи! – шептала она. – Молчи! не смей смеяться! Потом, отвалившись набок, она вновь бывала доступной и первой хохотала надо всем, что произошло. Перед тем и после того – смейся сколько влезет, а во время этого – не моги.
– Это – грех, большой грех! – твердила убежденно Тамара. Объяснить же свои капризы не могла.
– Да! да! Это – так! – кричал Соломон Моисеевич, систематически хмелевший по ходу рассказа. К концу любовных затей Константина Петровича он бывал порядочно пьян.
– Грех! Не переступи! – кричал он, воодушевляясь. – В игре нет преград! Не убий! Не убий! Бог! Дьявол! «Смейся, паяц, над разбитой любовью…»
Точно сорвавшись с цепи, он говорил бессмысленно и много о загадочном русском характере – теребя исполинский кадык, о загадочной женской натуре – ужасно волнуясь. Всем было известно, что три года назад от Соломона убежала жена – блудливая русская баба, предварительно обокрав его, а потом опозорив с парикмахером Геннадием шестнадцати лет. Он знал и боялся женщин, имея на то основания. Но что он мог понимать в русском национальном характере, этот Соломон Моисеевич?!.
У Лешки, инвалида войны, была ценная поговорка: «Минер ошибается только раз». Сам он, Лешка, испытал на опыте ее народную меткость: фашистская мина под Берлином оторвала ему правую руку.
Но допущенная ошибка и невозвратимая эта утрата не научили его ничему хорошему, и вот однажды безрукий Лешка говорит Косте:
– Знаешь ли ты, Костя, или нет, что есть у меня персональная квартирка из трех комнат с балконом и со всеми удобствами? Хозяин третьего дня отбыл в командировку город Таллин, а хозяйка проживает на даче со своим сыном Вовочкой, который от рождения страдает рахитом и потому должен регулярно дышать свежим воздухом. А няня Вовочкина, приспособленная для охраны имущества, как осталась одна, до рассвета гуляет с ребятами из трамвайного парка, и почему бы ей не пойти к трамваям в ночную смену сегодня, как ты считаешь?
– Я прекрасно понимаю вашу внешнюю политику, – говорит Костя, – но только вы меня трактуете очень уж вульгарно. Я имею дело с живыми существами, а залезать в закрытые окна неизвестно на каком этаже – не в моих правилах. И вообще, стоящее ли это занятие – твоя квартирка с балконом? Принес бы ты мне лучше жигулевского пива в номер.
– Перестань ломаться, Костя, и не строй из себя артиста, – говорит ему Лешка раздраженным тоном. – И не лапай при мне Тамару сразу двумя руками. Это становится даже неприличным. Надевай штаны и давай думать. Минер ошибается только один раз.
Так они говорили до позднего вечера, а когда закрылись Сандуновские бани, взяли они Соломона Моисеевича, чтобы стоял на шухере, и заграничный браунинг на всякий пожарный случай, унесенный Лешкой с поля сражения во время Великой Отечественной войны, и пошли, не мешкая, к тому месту, где была припасена для них квартирка со всеми удобствами.
Она стоит на втором этаже, трехкомнатная квартирка, набитая до верху дорогим барахлом – габардином да трикотажем, и двумя костюмчиками иностранной работы, и одним кожаным пальто шоколадного цвета по имени «реглан», – стоит и смеется. Все двери, окошки и даже форточки в ней заперты на двойные запоры, и никакой дырки или хотя бы щелки в наличии не имеется. Возникает естественный вопрос: как туда проникнуть?
Вы, конечно, удивляетесь безвыходной этой картине, и рвете на себе волосы, и готовы сдуру банальным путем действовать через окно с невероятным шумом и треском? Вот и нет, не угадали, и вам в жизни не разрешить эту задачу.
Но есть на свете, говоря по секрету, один инструмент, по-русски – «отмычка». С нею вам не страшна любая дверь. А для висячих замков – коллекция ключей на все уровни жизни.
А тишина такая, братцы, кругом, что плакать хочется.
– Задерни шторки, а то снаружи видать, – приказал Константин однорукому Лешке и поиграл револьвером.
– Регланчик достанется мне и тросточка тоже мне! Ему понравился набалдашник у трости, разделенный на две половинки – по образцу филейных частей, но в меньшем масштабе. Ходишь с тросточкой по панели и непрерывно набалдашник ощупываешь, и можно девушкам показывать – для смеху и смущения – при первом знакомстве. Такую вещь обязательно надо иметь при себе – и в доме, и на прогулке.
Вдруг чувствует Костя: в соседней комнате кто-то неожиданно спит. Он – туда и видит в постели – кого бы вы думали? хозяйку? – нет! хозяина? – тоже нет! спящую няньку в одной сорочке? – это было бы хорошо, но все равно – нет! и еще раз нет! и вы опять просчитались! – он видит небезызвестного вам господинчика с приятными усиками, но без галстука и без пробора. Впрочем, пробор в состоянии тряпки висел отдельно на спинке стула, а рядом покоились в полном порядке лаковые полуботинки, а больше здесь не было ни единой души.
Самый настоящий Манипулятор из настоящего цирка храпел во все горло на хозяйской кровати или делал вид, что храпит, а сам приготовлялся к прыжку.
Как впоследствии оказалось, Манипулятор – на свою лысую голову – сбежал накануне к другу детства, чтобы отдохнуть от семьи, но вместо этого угодил под ночную манипуляцию Кости – к их взаимному неудовольствию и трагическому концу.
Но ничего этого Костя не знал в тот кульминационный момент и был очень разочарован внезапным появлением гостя, о чьей магической ловкости он имел представление, посещая государственный цирк каждый воскресный день. Этот чертов фокусник мог бы голыми руками кого хотите обездолить и что хотите украсть, и Костя наставил огнестрельное оружие на своего наставника, чтобы тот не вздумал, если проснется, выкинуть какой-нибудь трюк.
– Шуруй потише в комоде, – приказал он шепотом Лешке. – Да помни: тросточку с изображением задницы я забираю себе.
И от этих ли слов или от чего другого Манипулятор открыл глаза и сделал их вот такими, и не успел Костя предупредить его – «Спокойно! а то застрелю!», как он закричал в полный голос, звучавший очень противно:
– Караул! Убивают!
Мужчины в большинстве случаев под наведенным на них револьвером поднимают руки кверху и с зачарованным видом молчат. А женщины – вопреки рассудку – визжат и барахтаются и, бывает, кусаются, но им тоже можно по-свойски втолковать ситуацию, и они ради продолжения жизни будут плакать в подушку.
Но на сей раз Косте встретился сущий злодей, не обращавший никакого внимания на дуло заграничного браунинга. С глазами на обе щеки, он сполз на пол с кровати и, как был, в сплошном опупении, в неприглядном своем естестве, сиганул к двери балкона. Стекло разлетелось вдребезги, и на всю улицу, над умиротворенными крышами, прокатилось многократное эхо:
– Караул! Караул! Убивают!
И чтобы прекратить безобразный и действующий на нервы скандал, Костя, почти плача, выстрелил ему в спину между малокровными лопатками, и в том была его – Кости – роковая ошибка, а минер, как известно, товарищи, ошибается только раз. Потому что, если по существу разобраться, нужно было бы не стрелять, не испускать опасные звуки, а дать Манипулятору в голое темя каким-нибудь веским предметом, например, рукояткой и, оглушив крикуна, без лишнего шума продолжить осмотр помещения.
А Костя, вместо того чтобы решительно действовать, надавил слегка пальчиком спусковую пружину, и немецкая злая пружина сама собою сработала – только и всего. Только и всего, но сразу Манипулятор заметно притих. Он больше не кричал, он булькал губами и дудел, и клокотал в горловину, изображая с большой тщательностью протяжные хриплые трели – сложное искусство полоскания рта на высоких и низких регистрах.
Спервоначалу казалось, что, покривлявшись для форсу, он сядет на полу и отхаркается, и заявит во всеуслышание, что обманул их ради испуга. Но, видно, этот артист давал гастроли навынос и, вдохновленный выстрелом Кости, разыгрывал коронную роль, превращаясь чудесным образом в мертвого человека, сознающего свое превосходство над оставшимися в живых. Его лицо удалялось с плавностью парусной лодки, приобретая природную гордость камня и отвердевшей воды. Он умер незаметно, даже не подмигнув на прощание и оставляя Костю в растерянности перед содеянным фокусом, который в равной мере принадлежал им обоим.
Это зрелище было испорчено появлением Соломона Моисеевича. Он честно стоял на шухере в темном сыром подъезде, а теперь прибежал в квартиру, задыхаясь от гипертонии, чтобы сообщить товарищам о грозящей опасности со стороны разбуженных дворников и недремлющих милиционеров.
– Зачем вы устроили шум, Константин Петрович? – сказал он в глубокой тоске, ничего не видя вокруг. – Я же предупреждал: надо быть осторожным. Пистолет может выстрелить безо всякого нажатия курка – от обычного колебания воздуха…
Костя не стал спорить… В дверях два дюжих дворника крутили за спину Лешке единственную левую руку. Лешка отбивался ногами и говорил:
– Пустите, гады!
Понимая, что сопротивляться бесцельно, Костя поднял руки, но все же не мог отказаться от маленького удовольствия: все заряды, сидевшие в браунинге, он пульнул в потолок и тем оставил по себе веселую, добрую память. Милиционеры попадали на пол, а потом кинулись к Косте и скоренько его разоружили. Так была загублена в расцвете красоты и здоровья молодая жизнь Константина Петровича.
Правда, перед грустным финалом он имел хороший парад при большом стечении публики, на суде. Прокурор ему попался строгий, как полагается, и требовал для Константина Петровича высшей меры наказания через настоящий расстрел. А защитник, тоже не лыком шитый, всячески упирал на смягчающее слабоумие подсудимого. Все взгляды мужчин и женщин были прикованы к Константину Петровичу, и, стоя в центре арены, он испытал много чудных мгновений, щекотавших его ревнивое артистическое самолюбие.
Суд приговорил Константина Петровича к двадцати годам заключения с конфискацией имущества, движимого и недвижимого. Но регланчик и заветную тросточку он утратил значительно раньше и теперь, увильнув от расстрела, не слишком тужил по поводу предстоящего срока.
А Лешка и Соломон Моисеевич получили по десятке на каждого.
В строю таких же, как он, обиженных судьбою людей, Костя шел не спеша на работу в одно прекрасное утро. Они держали руки сложенными за спиной в знак потерянной воли и вынужденной покорности. Вокруг порхали птички, свободные обитатели края, одуряюще пахли цветы, травы, кусты. Всюду летали прозрачные и легкие одуванчики. По бокам, спотыкаясь от скуки и собственной никчемности, брел небольшой конвой, куря большие цигарки.
Вдруг на фоне этого мирного пейзажа произошло смятение. Старик-охранник, бросив недокуренный тюбик, завопил испуганным голосом:
– Стой! Стой! Застрелю!
Но Костя уже летел над бугорками и кочками, отталкиваясь от мягкой земли жилистыми ногами. Ветер преспокойно играл у него на оживленном лице. Вдалеке лиловел лес – вечное прибежище соловьев-разбойников.
Косте виднелось пространство, залитое электрическим светом с километрами растянутой проволоки под куполом всемирного цирка. И чем дальше он улетал от первоначальной точки разбега, тем радостнее и тревожнее делалось у него на душе. Им овладело чувство близкое вдохновению, когда каждая жилка играет и резвится и, резвясь, поджидает прилива той посторонней и великодушной сверхъестественной силы, которая кинет тебя на воздух в могущественном прыжке, самом высоком и самом легком в твоей легковесной жизни.
Все ближе, ближе… Вот сейчас кинет… сейчас он им покажет…
Костя прыгнул, перевернулся и, сделав долгожданное сальто, упал на землю лицом, простреленной головою вперед.
1955
КВАРТИРАНТЫ
1
Эх, Сергей Сергеевич, Сергей Сергеевич! Да разве вы сравняетесь с Николаем Николаевичем? Смешно даже. У вас и виду нет никакого, и бицепсы на вас обвисли все равно что, простите за сравнение, сосцы на какой-нибудь исхудалой собачке. И коньяк вы хлещете начиная с утра – откуда только деньги берутся? А Коля, Николай Николаевич, был человек моложавый, инженер – конструктор электрических двигателей, двадцать девять лет – самый сок. И тот не осилил. Вызывает меня как-то на кухню. «Что ж это, – говорит, – что ж это, – говорит, – Никодим Петрович, происходит?» А сам белый-белый. Как потолок.
Куда вам до него! Певун был! Физкультурник! Бывало, проснется рано утром, всю гимнастику под звуки радио сделает, зубы щеткой почистит и начинает:
Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.
Приятно слушать. Хотя он и тенор, а я больше басы люблю. Поверьте старику – уезжайте прочь отсюда. Покуда целы. Чемоданчик в руки – и с Богом. Хотите для вас – по знакомству – записочку сочиню? В горжилотдел, к самому Шестопалову. Неужто не слыхали? Шестопалов. Квартирные вопросы решает. Я под его началом тринадцать лет прослужил. Студенческим общежитием и двумя домами заведовал. Комендант, управдом – как хотите зовите. До самой пенсии. На Ордынке. В пять этажей и в шесть. Он в пять минут любую жилплощадь разыщет. Ну что вы, что вы!.. По моему-то ходатайству!..
Обживетесь на новом месте. Библиотеку вашу временно здесь оставим. Я постерегу. Почитаю с вашего разрешения. У вас нет ли случайно: «Юный бур из Трансвааля»? Еще до войны читывал. Автора вот не запомнил. Иностранец какой-то, француз.
Жаль-жаль. Ночи-то длинные, а ноги-то ноют. Суставной ревматизмус. Застарелая, коренная болезнь. Что? Наливайте, наливайте: не повредит.
За ваше здоровье!
Н-да… Коньячок у вас, действительно, самый отборный, по рецепту. В пищеводе ощущение ласки. Сопьюсь я с вами. Нет-нет, не беспокойтесь, закусывать я не люблю. Весь привкус теряется. В самом деле, Сергей Сергеевич, переезжайте на другую квартиру. Здесь, говоря по секрету… Взвоете, когда узнаете, да поздно будет. Ну, что вы заладили: не поеду да не поеду. Леность это одна с вашей стороны и ничего больше. А там, глядишь, и я за вами следом. Вместе поселимся. Не хотите с Шестопаловым связываться – обменять можно. Давайте дадим объявление. Моя комната плюс ваша – тридцать один метр. Вот вам и пожалуйста – изолированная квартира. А?
Я вам, как писателю, условия жизни создам. Тишина чтобы, порядок. Мне тоже нужен покой. Может, вы еще жениться сумеете, внучат разведем, котят. Я при них бы сидел. Вместо дедушки. Про коньяки и думать забудем. Разве что по большим праздникам: Новый год, Первое мая. Хозяйство наладим. Дер тыш, дас шранк, валенки мне новые купим. Эх, и жизнь пойдет! Давайте выпьем, что ли! За ваше здоровье, Сергей Сергеевич.
Я ведь, говоря откровенно, почему с ним подружился – с Колей то есть? Хороший он человек, хозяйственный, домовитый. Как придет с работы – за дело. Этажерку лобзиком выпилил, радиоприемник из чепухи собрал. Своими руками. И Ниночка его тоже мне сначала понравилась. Хлопотливая такая, как птичка. Все в дом, в дом тянет. Полгода не прошло – верите ли? – они уже гардероб новый купили. С зеркалом во всю дверцу. Занавеси из тюля повесили. А все по четвертной, по тридцать рублей в получку, по копеечке, можно сказать, домашний очаг созидали. И все прахом пошло. Эх, Коля! Коля! Где вы теперь, кто вам целует пальцы?.. Да-а-а! В доме душевнобольных. Выражаясь по-старинному – в желтом доме-с. А разве это дом? Так, одна видимость. И дома никакого нет – общежитие для безумцев и ничего более.
Что? С чего началось? С пустяка все началось. Кушает он однажды вечером гороховый суп и вдруг вылавливает из тарелки – представляете – женский волос. Обыкновенный женский пучок и больше ничего. Говоря по-деревенски – очески. Он, конечно, оборачивается к своей Ниночке и спрашивает ее довольно спокойно, как это понять. Та вспыхнула вся и говорит, тоже довольно спокойно:
– Это, – говорит, – Николаша, Кроваткина свои лохмы к нам в кастрюлю вместо мяса подкладывает.
А волосы, между прочим, седые. Седые…
Тс-с-с! Вот я и спрашиваю: Сергей Сергеевич, нет ли у вас такой интересной книги – Фенимор Купер «Последний из могикан»? Да! «Последний из могикан»! Про индейцев Южной Америки! Так, так, так! Значит, нет! Значит, нет! Погода какая дождливая! Погода – говорю – дождливая!..
Ушла… Это она и есть, она самая – Кроваткина. Сущая ведьма. Ухо к дверям приложит и контролирует, о чем мы с вами беседуем. Уж я ее чувствую, знаю. Раз говорю – значит, знаю! У меня на это дело свое осязание есть. Сами с усами. Спиною их шашни угадываю. За десять метров.
Что вы! Какие тут фокусы! Не верите – могу доказать. Вот сейчас к вам спиной повернусь и ничего видеть не буду, а все буду угадывать. Любое телодвижение.
О-хо-хо! ноги-то, как чужие. Ну! Начинайте.
Тэкс-тэкс. В этот самый моментик вы в носу ковыряете. Мизинцем. Теперь – перестали. За левое ухо схватились. Нижнюю губу оттопыриваете. Что, угадал? Хе-хе. А вы затейник! Какую пантомиму позади меня разыграл! Думает – не узнаю. Язык высунул, лоб сморщил… А глазки-то у вас, Сергей Сергеевич, совсем косые. Захмелели вы. Сразило вас это зелье.
Ну, на сегодня хватит. Я и не так еще умею. А теперь – по последней – и спать. Поздно уже. Что соседи подумают?
Нет, нет. И не просите. В другой раз доскажу. Перебила меня эта Кроваткина. Все настроение испортилось. Давайте я лучше на прощание что-нибудь совершу. Вот сейчас – хотите? – не сходя с места, исчезну. Возьму и улетучусь. Раз, два, три! Вот я был и вот! – меня! – неттт!
Покойной ночи, Сергей Сергеевич!
2
…Таким образом в скором времени одни русалки остались. Да и те… Сами знаете: индустриализация природных богатств. Дорогу технике! Ручьи, реки, озера химическими веществами пропахли. Метилгидрат, толуол. Рыба – та попросту дохнет и вверх брюхом плывет. А эти, бывало, вынырнут, отфыркаются кое-как, а из глаз – не поверите! – слезы от горя и разочарования. Сам видел. По всему роскошному бюсту – стригущий лишай, экзема и даже, простите за нескромность, венерические рецидивы.
Куда спрячешься?
Недолго думая – туда же, вслед за лешаками, за ведьмами – в город, в столицу. По каналу Москва – Волга, через эти самые шлюзы – в сеть водоснабжения, где почище да посытнее. Прощай, родимый край, первобытная обстановка!
Сколько их тут погибло! Видимо-невидимо. Конечно, не насовсем. Бессмертные создания все-таки. Ничего не попишешь. Но некоторые из них помясистее – в водопроводных трубах застряли. Да вы сами, вероятно, слышали. На кухне кран отвернете – оттуда вдруг рыданья несутся, бултыханья разные, чертыханья. Думаете – чьи это штучки? – Их голоса – русалок. Застрянет в умывальнике и ну капризничать, ну чихать!
Между прочим, в нашей квартире одна бывшая русалка проживает вполне легко и свободно. По паспорту – Софья Францевна Винтер. Знаете ее, конечно. В бумазейном халатике бегает и водные процедуры принимает с утра до вечера. То в ванной комнате плещется по три часа кряду (другим жильцам руки помыть негде), то в тазик частично усядется и стихи про Лорелею поет. На немецком языке:
Их вайе нихт вас золь эс бедойтен
Дас их зо траурих бин…
Генрих Гейне сочинил. Говорю ей вчера: – Софа! Ты бы хоть нового жильца постеснялась. Писатель как-никак. А ты в одном халатике по коридору бегаешь, без пуговиц, без тесемок, и при каждом своем движении на полметра распахиваешься.
А она – бесстыжая девка – только зубы скалит. «Ваш писатель, – говорит, – мне „Белую сирень“ подарил. Духи такие. У меня с ним, дедушка, понимание с первого взгляда».
Берегитесь, Сергей Сергеевич. Упаси вас Бог за нею ухаживать. Защекочет до смерти. А насчет чего посущественнее – я так скажу: рыбья кровь у нее и все прочее – рыбье. Одна только наружность дамская, для соблазна…
Вот вы опять смеетесь и ничему не верите. А хотя вы писатель – наблюдательности у вас никакой. Ну, что вы можете сказать, например, про Анчуткера? Ваш сосед. Анчуткер. Вот за этой стенкой. Ничего особенного. Гражданин как гражданин. Разве что еврей. Моисей Иехелевич. Подумаешь! Карл Маркс тоже, небось, из евреев произошел.
А если присмотреться, да повнимательней?.. Шевелюру он какую носит? Вы встречали когда-нибудь в жизни подобную шерсть на мужчине? А цвет лица? Где вы у человека найдете до такой степени синюю кожу? И взгляд у него невеселый, и штиблеты 47-го размера, к тому же всегда перепутаны: правая принадлежность на левой, а левая – на правой. Так и ходит, медведь неучтивый, и дома и в министерстве.
Опять же, обратите внимание, какую он литературу почитывает. «Лес шумит» Короленко. Новый роман Леонида Леонова «Русский лес». Я не спорю – роман замечательный. Но зачем же, спрошу я вас, непременно на эту тему? И почему он, проклятый Анчуткер, по лесному ведомству служит? Березы да елки логарифмической линейкой считает, на кубометры перекладывает… И не Анчуткер он вовсе, а по-правильному, по-научному – Анчутка. Теперь смекаете! То-то!
Нет, Сергей Сергеевич, не найти вам среди наших квартирантов ни одного живого лица. Хоть и родня они мне. Так сказать, из одной деревни. Да что толку! Мне моя репутация дороже стоит. Это невежды говорят, малограмотные, некультурные бабы – домовой, дескать, заодно с лешим. Ошибаетесь! Совсем другая профессия. Нельзя в этом вопросе не видеть принципиальных различий. Домовой – он к дому привык, к человеческому запаху, к теплоте. Испокон века. Ему с чертями да с ведьмами не по пути. Может, вы думаете – общая природа? Не скажите! Мало ли что природа! Человек, например, тоже от обезьяны произошел. Однако впоследствии выделился в самостоятельную разновидность. С обезьянами дело имеет лишь в Африке да в зоопарке. Каково же мне – мне! – пожилому, можно сказать, человеку в коммунальных условиях жить?!
Как въехали они в нашу квартиру – Николай Николаевич с Ниночкой, я им сразу сказал: – Коля! – говорю, – Ниночка! держите ухо востро. Не поддавайтесь на провокацию. Живите, как в отдалении. А я возле вас погреюсь на старости лет.
– Нет! – отвечает Ниночка. – С волками жить – по-волчьи выть. Не забуду я этой Кроваткиной истории с гороховым супом. Она у нас мясо ворует, а я ее волосы жуй? К тому же – грязные и седые. От них заразиться можно.
И велит своему Николаше приладить ко всем кастрюлям висячие стальные замки. Чтобы пищу, значит, на ключ запирать, пока варится без надзора на плите общего пользования. Бывало, прокрадется на цыпочках, отомкнет поскорее кастрюлю, соли-масла добавит и опять на запор.
Только это не помогло. Превратности продолжаются. Курицу, скажем, на огонь поставит и замочки повесит. Отпирает – дохлая кошка сварена в курином бульоне. Даже не ободранная, прямо в шкуре, с хвостом.
Ниночка – в амбицию. Ее тем временем другая соседка – Авдотья Васюткина – на свою сторону переманила. Образовался альянс. У Авдотьи с Кроваткиной личные счеты: Анчуткера никак не поделят. От Анчуткера у обеих детишки. Лешанята, значит. Вот и сражаются, врагини, за свою ведьмячью любовь.
Представляете картину? Кухня. Дым коромыслом. В дыму эти ведьмы раскачиваются, ухватив друг друга за космы. В лицо друг другу плюют на близком расстоянии. Нехорошие слова произносят очень отчетливо:
– Ведьма! Потаскуха!
– Сама ты ведьма! Куда сегодня ночью верхом на унитазе каталась?
Под ногами у них ребятишки синепузые вертятся. Норовят укусить за икры противоположную сторону. Маленькие еще, а зубастенькие, с коготками.
И тут же, представляете, Ниночка. Волосики разметались. Глазки горят, как лампочки от карманного фонаря. В руках – скалка, и сквозь разорванную рубашку ребрышки ее цыплячьи так ходуном и ходят, так и ходят.
Увидал я эту картину и впервые заплакал. Мне, старику, совладать ли с тремя рассвирепевшими бабами? Бегаю вокруг, умоляю, – Брысь, – кричу, – по своим углам! А то я милицию вызову. – Они и слушать не желают. Стон стоит по всей жилплощади, топот, гром сковородный. Да еще в ванной комнате русалка Софа заливается истерическим смехом…
Вечером говорю Николаю: – Так и так. Уйми ты свою Ниночку. Добром это не кончится. Вот увидишь. Сними ты с нее по-домашнему трикотажные панталоны да всыпь легонько веником, чтобы не совалась в чужую баталию.
Как можно! Обиделся даже. «Я, – говорит, – до Верховного Совета дойду, а дела этого так не оставлю. Кроваткину судить надо. Она – фашистка. Она мою жену оскорбляет и словом и действием. А Ниночка за всю свою молодую жизнь пальцем никого не тронула…»
Любил ее Коля, простая душа, любил без памяти. Вот и пошли у них…
Сергей Сергеевич, сидите тихо. Не шевелитесь. Видите, под кроватью крыса бегает? Совлеките незаметно ботинок и бейте. Не промахнитесь только. А то уйдет. Ну! Вот сейчас снова высунется. Ты и кидай. В голову. Наповал. Р-раз!..
Эх, промазал! Бей, Сережа! Хватай! Бутылкой ее! Бутылкой!..
Что ж ты, неловкий ты человек… Говорил тебе – бутылкой. Ух! Даже ноги дрожат. Нервы вконец расшатались…
А знаете, Сергей Сергеевич, – кто это был? Это ведь Ниночка к нам приходила… Скучает она по своему Николаше. Вот и ходит на старое место – наша Ниночка…
3
Не пугайтесь – я без стука. Дело срочное. Беда, Сергей Сергеевич! Беда! Эта Кроваткина все пронюхала и Анчутке рассказала. Что теперь будет с нами?! Что будет?!
Послушайте, в вашей комнате мне находиться нельзя. Тем более – в естественном виде. Квартиранты могут заметить. Я и так уже – через щель явился. Под дверью пролез. В моем-то возрасте…
Одну минуту! Сейчас я немного замаскируюсь, тогда поговорим.
Что у вас тут имеется из подходящих предметов?.. Ага! Давайте-ка я буду – стаканом. А вы садитесь за столик – будто бы выпиваете. Если кто заглянет – разговаривайте сами с собой. Пускай они думают, что вы – пьяный. Так безопаснее.
Ну, идите сюда: я уже на столе. Видите – у вас было три стакана, а стало четыре. Да нет же, не этот! Какой вы ненаблюдательный, право. Вот я, вот! Подле тарелки.
Ой! Не касайтесь меня руками! Еще уроните на пол и разобьете. У меня и без этого кости ноют.
Сергей Сергеевич, соберите внимание и выслушайте меня со всей серьезностью. Положение наше – хуже некуда. Мы – обнаружены. Ведется следствие. Анчуткер со вчерашнего дня здороваться со мной перестал. Я знаю – меня судить хотят. За разглашение ихних секретов. Завтра в двенадцать ночи на кухне соберется Совет. Все бы ничего, да Шестопалов мной недоволен. Отдал распоряжение: «Мы, говорит, ему доверяли, а у него с чуждыми элементами периодические знакомства. Инцидент с молодоженами мы, говорит, ему простили, так он теперь снова дружбу налаживает с кем не положено. А друг его новый, писатель – все с его слов на бумагу записывает. Могут выйти неприятности. Наказать болтуна, чтобы другим неповадно было. Писателем же займемся особо. Благо он алкоголик, и ему настоящие черти скоро начнут мерещиться».
Понимаете, Сергей Сергеевич, что это означает?! Разлучат они нас. Последнего человека отымут. Дома-крова меня лишат. Под пол отправят. В сырость, в холод, к микроорганизмам. Или по канализационной системе вниз головою спустят. И буду я вынужден там циркулировать до скончания света. Наподобие Вечного Жида по имени Агасфер. Вы одноименный роман Эжена Сю читали? Вот-вот. Тем же способом. Из клозета – в клозет.
И вам несдобровать. Окружат вас мерзкими харями, кикиморами, упырями. Страшно станет. Запьете пуще прежнего. И чем больше пить будете, тем страшнее будет. Пока не свихнетесь с ума, как бедный Николай Николаевич!
Бежать нам надо. Все предусмотрено. Завтра в половине двенадцатого я за вами явлюсь. Перед самым началом праздника, перед Большим Кухонным Советом. Будьте наготове. Они гостей ждать станут, в туалеты наряжаться. Закуску готовить примутся. Из падали, из тухлых яиц. Глядишь, в суматохе контроль ослабнет. В этот момент вы меня сажаете в карман (уж я сам постараюсь как-нибудь там уместиться), надеваете сверху пальто, чтобы ветром меня не продуло, и быстрым шагом выходите на улицу. Будто выпили немного и решили прогуляться, подышать свежим воздухом.
Первое время в гостинице перебьемся. А после – дом, квартиру сладим. Без жильцов, без соседей. Сами себе хозяева. «Ни бог, ни царь и ни герой!»
На всякий случай, для профилактики, икону можно повесить. Пусть это вас не смущает: я привык, в деревне воспитывался. Предрассудки эти в народной среде очень распространены.
Не хотите икону, убеждения не позволяют? – обойдемся простой репродукцией. Рафаэля какого-нибудь с младенцем из «Всеобщей истории» вырежем и на видное место приклеим. От нечистой силы, от дурного глаза тоже хорошо помогает. И вполне прилично, прогрессивно. Искусство все-таки. Не придерешься.
Главное, Сергей Сергеевич, вместе надо держаться. Мне без вашей, без человеческой помощи вовеки отсюда не выбраться. По внутреннему помещению расхаживаю сколько угодно. Хочу – по стенам, хочу – по потолку. Но за порог ни ногой. Физиология не позволяет.








