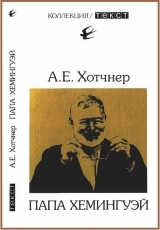
Текст книги "Папа Хемингуэй"
Автор книги: Аарон Эдвард Хотчнер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Когда Федерико ушел, Эрнест сказал:
– Чрезвычайно благородный джентльмен! Классический экземпляр! Итальянцы вообще очень славные люди. У них, наверное, была самая ужасная пресса в мире.
– Чертовски рад, что я снова здесь. Знаешь, наша поездка в Венецию в сорок девятом году – наверное, лучшее время в моей жизни, – заметил я.
– Не спеши делать выводы! – воскликнул Эрнест. – У нас впереди еще столько прекрасных дней.
Эта уверенность Эрнеста была основана на четком представлении о том, как должна быть организована вся его жизнь. Каждый день определенные часы отводятся под удовольствия, и планировал он эти удовольствия как военную кампанию. Это отнюдь не означало жесткость программы – так, два запланированных дня удовольствий в Париже могли легко превратиться в два месяца. К моей величайшей радости, так и случилось в сорок девятом году. Но при этом каждый из тех дней в Париже тщательно продумывался, с самого утра до заката солнца. «Если ты приехал в Париж, можешь доверить случаю только одно – выигрыш в Национальной лотерее».
В тот день в плане Эрнеста стояло: посетить ювелира из «Когдогнато и К» – посмотреть изумруды; затем в баре «У Гарри» навестить старого приятеля Киприани, предприимчивого итальянца, который и был этим самым Гарри. Там мы должны были прихватить десятифунтовую банку белужьей икры, чтобы с ней прибыть на обед с гамбургерами. («Нельзя же есть обычные гамбургеры в ренессансном палаццо на Большом канале. Икра будет соответствовать ситуации».) После посещения Гарри мы должны были встретиться с одним из приятелей Эрнеста по охоте на уток в Торчелло, с которым я познакомился в свой прошлый приезд в Венецию. Планы казались слишком насыщенными для человека в состоянии Эрнеста, но, когда я заикнулся об этом, он сказал:
– Им удалось замедлить мою жизнь, но не остановить. Даже если они отрежут мне ноги до колен и прибьют меня гвоздями к столбу, то и тогда я буду совершать рефлекторные движения всем назло.
Когда мы с Эрнестом шли в бар «У Гарри», на площади Сан-Марко дул резкий ветер с моря. Мы уже посмотрели у «Когдогнато» десять изумрудов (Эрнест расставил их в таком порядке – один неплохой, три – может быть, два – вряд ли, четыре абсолютно никуда не годятся), послали цветы и отказы присутствовать на обеде у герцогини, приобрели все необходимое для гамбургеров в мясной лавке на Калле-Бароцци. Теперь мы могли передохнуть у Гарри – это была вполне заслуженная награда.
Мы стояли за стойкой и пили «Кровавую Мэри», но все было совсем не так, как когда-то у Бертена. Бармен расспрашивал Эрнеста, что он думает о поединке между итальянцем Тиберио Митри и англичанином Рэнди Турпином. Эрнест провел подробный анализ этой встречи, состоявшейся прошлым вечером и закончившейся сильным ударом на пятьдесят второй минуте, а затем стал вспоминать, как он сам когда-то увлекался боксом:
– Каждый раз, приезжая в Нью-Йорк, я занимался в гимнастическом зале Джорджа Брауна. И вот однажды журнал «Нью-Йоркер» спросил меня, могут ли они прислать Мак-Келви, чтобы он написал для раздела «Городские разговоры» что-нибудь о Хемингуэе-боксере. Ну что ж, подумали мы с Джорджем, пусть Мак-Келви приходит, он наверняка найдет здесь что-нибудь интересное для своего очерка. У входа в тренировочный зал висела огромная фотография, на которой была запечатлена сцена поединка с участием Эйба Ателла, – лица боксеров выглядели как куски сырого мяса, все залито кровью так, что не видно никаких деталей. Когда появился Мак-Келви, я крикнул: «Видишь этих парней? Они только чуть-чуть попробовали». А потом мы с Джорджем стали работать на ринге. Джордж непрерывно кричал: «Морис! (Морисом звали служащего ринга.) Морис! Мистеру Хемингуэю надо потренировать подошвы. (У меня не было боксерских ботинок, поэтому я боксировал в носках.) Принеси-ка с крыши гальки». Морис принес гальку и рассыпал ее по рингу. Мак-Келви делал записи в своем блокноте. Мы немного побоксировали. Затем Джордж заорал: «Морис! Притащи немного битого стекла!» Мак-Келви строчит в своем блокноте со скоростью миля в минуту. «Мистер Браун, – говорит Морис, – у нас нет битого стекла». – «Тогда разбей что-нибудь сам», – говорит Джордж. В конце мы несколько раз врезали друг другу для видимости. Мак-Келви был потрясен. Правда, не уверен, что его очерк напечатали.
Тут в баре появился Киприани, энергичный джентльмен небольшого роста, весь в серых тонах – седые волосы, серый костюм и серые глаза. Он был счастлив видеть Эрнеста.
– Я только что из Торчелло, – заявил он, – и утки там, как всегда, бесподобны. Эрнесто, ты должен остаться на несколько дней, и мы тогда славно поохотимся.
– Но я не смогу даже поднять ружье, не говоря уж о том, чтобы подстрелить кого-нибудь, – ответил Эрнест.
– Как твоя рука?
Эрнест показал Киприани руку со следами ожогов, полученных во время пожара в Африке.
– Уже появляется новая кожа, и я начинаю верить, что с рукой все будет в порядке. Хотелось бы то же самое сказать о позвоночнике, почках и печени.
– Я ничего не знал о почках, – сказал Киприани.
– Были разрывы. Не возражаете, если мы сядем за стол? Господи, вы когда-нибудь видели меня сидящим за столом, когда рядом – стойка бара?
– Что с тобой случилось? – спросил Киприани.
– Авария номер два. Мы упали прямо в огонь. Когда я отодрал себя от пола самолета, то почувствовал, что у меня внутри все разорвано. Заднюю дверь сжало и заклинило. Правая рука и плечо не двигались, но я использовал левое плечо и голову и вышиб дверь. Рой Марш был впереди с Мисс Мэри. Я заорал: «Открыл заднюю дверь. Мисс Мэри в порядке?» Он прокричал в ответ: «В порядке, Папа. Выходим через переднюю дверь». Как я был счастлив, увидев Мисс Мэри без единой царапины, несущую в руках свою дамскую сумочку. Знаете, нет в мире такой катастрофы, которая заставила бы женщину забыть о своих драгоценностях.
Так мы стояли, беспомощно наблюдая, как горит наш «хевиленд». Тогда я сделал несколько научных наблюдений, которые могли бы заинтересовать тебя, Киприани, как последователя алкогольного культа. Сначала раздались четыре слабых щелчка – я подумал, что это лопнули четыре бутылки пива «Карлсберг». Затем раздался более звонкий щелчок – и я решил, что теперь лопнула бутылка «Грэнд Мак-Ниш». Воистину внушительный звук раздался, когда лопнула бутылка джина «Гордон». Это была закупоренная бутылка с металлической крышкой. «Грэнд Мак-Ниш» был закрыт пробкой и, кроме того, наполовину пуст. Зато «Гордон» выдал настоящий взрыв. Я написал шестнадцать тысяч слов об авариях для журнала «Лук», что оказалось отнюдь не легко. Иногда думаю – как было бы здорово, если бы у меня был литературный «негр».
Большая рыжеватая кошка подошла к нашему столу. Эрнест подхватил ее и, взяв на колени, стал почесывать у нее за ушками, нашептывая ей тихим проникновенным голосом, какая она красивая.
Голубая банка икры размером с маленькую шляпную коробку была водружена на стол, и в знак одобрения Эрнест похлопал Киприани по плечу. Затем он посмотрел внимательно на кошку и осторожно положил ее на стол.
И вот мы снова на площади Сан-Марко, идем, почти утопая в ковре из голубей, целиком заполнивших площадь. Несколько туристов покупают кукурузу у старика – уличного продавца. Эрнест с интересом наблюдал за голубями, мельтешащими у нас под ногами.
Когда мы проходили мимо старика торговца, Эрнест сказал:
– Видишь этого старика? У него был попугай, доживший до пятидесяти четырех лет. Однажды этот попугай простудился и перед тем, как умереть, трижды проговорил: «Ухожу на тот свет».
Весело смеясь, мимо нас проследовали два молодых человека в меховых шляпах.
– Одну вещь я усвоил очень хорошо: никогда не бить гомиков – они очень громко визжат.
Один голубь вспорхнул и уселся на плечо Эрнеста. Тот остановился и замер.
– Когда-то я снимал комнату на Сент-Жан-е-Албани в Париже, так там на дне фарфорового унитаза жила пара голубых попугайчиков. Это вызывало у меня серьезные запоры.
Обед с гамбургерами в палаццо Иванчичей имел большой успех. Было совершенно очевидно, что Адриана занимает особое место в жизни Эрнеста. Позже я понял, что Эрнест часто вводил в свой круг какую-нибудь ослепительную девушку, которой он некоторое время увлекался, а потом она становилась прообразом героини какой-нибудь из его книг. Такая романтичная любовь никогда не превращалась в тайную страсть. Девушка присутствовала в его окружении абсолютно открыто, становилась неким стимулом для Эрнеста, была кем-то, ради кого он «чистил перышки».
После обеда с гамбургерами Адриана вернулась вместе с нами в «Гритти», где должна была состояться прощальная вечеринка. Там нас уже ждали Федерико и еще несколько наших друзей. Хотя я видел, что Эрнеста явно мучили боли, он, несмотря ни на что, смог получить удовольствие от вечера, удобно растянувшись на диване. Было огромное количество выпивки, кто-то особенно предусмотрительный принес проигрыватель. Около полуночи, сейчас уж не помню, с чего это вдруг, но меня попросили продемонстрировать публике, что такое американский бейсбол. Кажется, это как-то было связано с дискуссией, разгоревшейся между Эрнестом и одним англичанином, приверженцем крикета. Эрнест предложил сделать бейсбольный мяч, скрутив в шар пару его шерстяных носков. Мне принадлежала блестящая идея в качестве биты использовать дверные упоры. Дверные упоры, как и все в этом отеле, были непростые – изготовленные вручную из красного дерева, украшенные резьбой, с тяжелым свинцовым основанием и тонким вертикальным стержнем, похожим на ножку стола. Из такого стержня с круглым основанием получилась замечательная бита. Федерико, которому приходилось видеть, как играют в бейсбол, встал на подачу, а я расположился на импровизированном игровом поле.
Блестяще отбив первую подачу, я отправил мяч в центр поля, но, к моему величайшему удивлению, бейсбольные носки, пролетев через арку высокого окна, умчались прочь в темноту венецианской ночи. Раздался оглушительный треск – разбилось оконное стекло, и мы с ужасом услышали с улицы разгневанные голоса. Несколько минут я гордился тем, что мне удалось так скрутить пару шерстяных носков, что они смогли разбить стекло, но потом мы поняли, что произошло на самом деле – от стержня отделилось свинцовое основание, отправившееся вместе с носками в полет через окно. У меня до сих пор хранится осколок того оконного стекла с автографами всех, кто был в ту ночь с нами.
Так закончилась наша вечеринка.
На следующий день, когда Эрнест сдавал номер, он предложил оплатить разбитое окно.
– Ах да, окно, – проговорил администратор. – Летающее блюдце едва не задело нос джентльмена, который, к несчастью, оказался членом городского совета. Этот почтенный господин пришел к нам в ярости. Но мы его быстро успокоили. Что касается оплаты разбитого окна, вы знаете, за всю трехсотлетнюю историю существования «Гритти» никто не играл в бейсбол в номерах отеля, и в ознаменование этого события мы решили, синьор Хемингуэй, уменьшить ваш счет на десять процентов.
Эрнест тут же пригласил администратора в бар выпить на прощание бокал шампанского. Мы все чокнулись. Эрнест выглядел расстроенным. Он сказал, что всегда неохотно уезжает откуда-нибудь, но покидать Венецию ему особенно тяжело.
Медленно, преодолевая боль, он сел в лодку. Адамо помогал ему. Когда мы плыли по каналу к нашей «ланчии», Эрнест сказал:
– Как можно жить в Нью-Йорке, когда в мире существуют Париж и Венеция?
Я смотрел, как на фоне величественной Санта-Мария-делла-Салюте проплывают тяжелые баржи и изящные гондолы, слушал крики, раздававшиеся с катеров и лодок, которые вплывали в Большой канал со стороны Рио-дель-Альберто, и понимал, что предсказание Эрнеста сбылось – благодаря ему Венеция действительно стала мне родной.
– В истории с окном в «Гритти» они были просто великолепны, – задумчиво проговорил Эрнест. – Эта история напомнила мне, как однажды я прострелил унитаз в «Ритце» – там администрация тоже оказалась на высоте. Это доказывает простую истину – надо всегда и везде останавливаться только в самых шикарных отелях.
Глава 6
Ривьера, 1954
По пути в Мадрид мы решили заехать в Милан – через Падую и Верону – и навестить там Ингрид Бергман. Адамо вел машину умело и с чувством собственного достоинства, но к нашему все возрастающему удивлению мы вдруг обнаружили, что он совершенно не представляет, куда ехать. Мы успели удалиться от Венеции всего лишь на несколько миль, когда он вдруг стал куда-то непрерывно сворачивать, хотя дорога была очень простой. В последующие шесть дней путешествия Эрнесту, который прекрасно ориентировался в пространстве, но при этом был лишен даже подобия терпения, пришлось взять на себя обязанности штурмана, что, впрочем, всегда доставляло ему большое удовольствие.
По дороге в Верону Эрнест все время смотрел, или скорее пытался смотреть, по сторонам. Постепенно он все больше и больше раздражался.
– Эта дорога удивительно красива, если бы мы только могли что-нибудь увидеть, – заметил он по поводу дорожных знаков и указателей, во множестве разбросанных по обеим сторонам шоссе.
Когда мы подъезжали к Милану, Эрнест завел разговор об Ингрид Бергман:
– Шведка, как могла, старалась вылезти из всего этого, но в самом начале, когда она попала в руки Росселини и была на вершине успеха, синьор режиссер не смог придумать ничего более шикарного и благородного, как озвучить перед прессой мои личные письма к Ингрид. Грустно, а порой и трагично, когда знаменитости теряют совесть.
– А что Ингрид делает в Милане? – спросил я.
– Как всегда – играет Жанну д’Арк. Она бы с большим удовольствием уже забыла о Жанне, сыграв ее в кино и на Бродвее, но синьор Росселини нашел новый способ воплотить в жизнь любимый образ, – может, он наконец на этом и остановится. Росселини написал либретто оперы, музыку к ней сочинил Хоннигер, и теперь опера в постановке Росселини идет на сцене «Ла Скала».
– Но обладает ли Ингрид Бергман голосом, достойным сцены прославленного театра?
– Конечно, нет, но маэстро Росселини справился с этой трудностью – все герои оперы поют, кроме Жанны – она мелодекламирует на итальянском языке, а здесь уж она настоящий мастер.
Мы добрались до Милана еще до обеда, но прежде, чем найти отель «Савойя», где жили Ингрид с Росселини, нам пришлось стараниями Адамо покружить по городу еще часа полтора. Поскольку Адамо считал, что спросить дорогу у прохожих – значит потерять собственное лицо, у нас не оставалось другого выхода, как ездить по кругу и надеяться, что нам все-таки повезет и мы увидим отель.
Около половины пятого, после того как Адамо трижды объехал город, мы наконец его нашли. Ингрид уже ждала нас в холле. Она была потрясающе хороша – в белой шелковой блузе с высоким воротником и расстегнутыми шестью верхними пуговицами. Ее прическа – прическа Жанны д’Арк – очень ей шла. Она обняла Эрнеста – они были искренне рады видеть друг друга. Мы вошли в ее номер, где все было завалено красными розами на длинных стеблях.
– Ты купаешься в розах, дочка, – заметил Эрнест.
– Их мне посылает один биржевой чиновник, я его ни разу не видела, но его так потряс спектакль, что он теперь каждый день присылает мне розы. Здесь, в этом городе, ужасно много богатых людей. Дома, в которых я бываю, – знаешь, по сравнению с ними особняки Беверли-Хиллс выглядят просто лачугами. Там даже совки для мусора сделаны руками мастеров Возрождения.
Ингрид Бергман была одной из немногих женщин в жизни Эрнеста, которых он нежно называл «дочками», правда, при этом она отказывалась именовать его «Папой». «Во мне нет к нему никаких дочерних чувств», – говорила Ингрид. Однако Мэри называла его Папой, да и Ава Гарднер с Марлен Дитрих – тоже. Некоторые его старые приятели, такие, как Тутс Шор, обращались к нему «Эрни», но для большинства имя Эрнест в уменьшительной форме было запрещено. Он сердился и тогда, когда «Папой» его называли случайные люди, не заслужившие такой интимности.
– А где синьор Росселини? – спросил Эрнест.
– Он здесь, прилег вздремнуть.
– Собираешься еще сниматься в Голливуде?
– Нет, больше никакого Голливуда в моей жизни не будет. И не надо говорить, что я неблагодарна. Я очень любила Голливуд, когда там работала, я знаю, как обязана этим людям. Но жизнь коротка, годы уходят, и нужно делать то, что действительно хочешь. В Голливуде мне удалось сыграть только одну роль с приличным диалогом – в фильме «По ком звонит колокол». Теперь я бы хотела попробовать сделать что-то новое, играть там, где еще не была. Мне постоянно присылают сценарии, но все это почти то же самое, что я уже играла.
– Они планируют снова снять «Прощай, оружие», – заметил Эрнест, – но я еще ничего не получал от них с тех пор, как подписал контракт. Они также собираются снимать «И восходит солнце», которое я уже давно им продал, признаться, за сущие пустяки, а кроме того, хотят еще раз экранизировать «Иметь и не иметь» и, может быть, «Убийц», за которых они тоже ничего не заплатят. Таким образом, моя протянутая рука уже почти онемела в ожидании денег.
– Кстати, недавно читал о киноверсии «Снегов Килиманджаро», – сказал я, – где создатели фильма позволили себе маленькую вольность – их герой, в отличие от литературного героя, не умирает, а остается жить.
– Ты думаешь, это можно считать маленькой вольностью? – спросил Эрнест. – Теперь все, что нам нужно, это заполучить приличного голливудского писаку, который вытащит бедного окровавленного полковника из «бьюика» и сделает так, чтобы он добрел пешком до Венеции, спустился по Большому каналу (очень символично!) и ввалился в бар «У Гарри».
– Если они что-то покупают, – заметила Ингрид, их уже больше ничего не заботит, они могут делать все, что им заблагорассудится. Их волнует только касса. Однако они абсолютно не понимают, что действительно заставляет зрителей идти в кино. Эти люди завладевают книгой, которая расходится огромными тиражами, но при этом не верят в ценность ее содержания. И последний человек, о котором они думают, – это автор.
– Но иногда их можно слегка прижать, – сказал Эрнест. – Как-то мы жили в Сан-Вэлли, в местечке, удаленном от всякой цивилизации. Дело было зимой. Весь день мы катались на лыжах, а когда вернулись домой, скинули одежду перед жарким огнем в камине и приготовились что-нибудь выпить, раздался стук в дверь. Это был хозяин ближайшего магазинчика, который надел специальные сапоги, чтобы дойти до нас по высокому снегу. Сделать это его вынудил важный звонок из Голливуда – требовали меня. И вот мне пришлось отставить стакан с выпивкой, поднять свою задницу, одеться и снова выходить на улицу.
Взволнованный голос оператора сообщил, что со мной желает говорить сам Дэррил Занук со студии «XX век – Фокс». Его желание осуществилось. «Хелло, Эрнест, – сказал он (сразу ясно, что это Голливуд – он назвал меня Эрнест, а ведь мы с ним виделись всего один раз, когда я поменял свой рассказ на его деньги). – Эрнест, у нас тут совещание, весь день мы спорим, пытаясь справиться с некой проблемой, и только ты нам в состоянии помочь. Мы сделали действительно классный фильм по твоему классному рассказу „Короткая жизнь Фрэнсиса Макомбера“ и готовы пустить его в прокат, но нам кажется, что это название для фильма слишком длинно. Будем тебе очень благодарны, если ты придумаешь что-нибудь покороче, что-то такое, что бы привлекало глаз, вызывало мгновенную дрожь и у женщин, и у мужчин, и заставило их бежать скорее в кассы за билетами».
Я попросил Занука не класть трубку и дать мне слегка подумать. Хозяин магазина смешал для меня коктейль. Попросив оператора нас не разъединять, так как у меня идет активный мыслительный процесс, я пил коктейль и напряженно думал. Наконец, когда я уже почувствовал, что мой интеллектуальный уровень от столь интенсивной умственной работы упал на три пункта, я взял трубку и сказал, что, кажется, знаю, что им нужно. «Итак, вы хотите что-то короткое и волнующее, такое, что привлечет и мужчин, и женщин, да? Ну что ж, записывай: F как в слове FOX, U как в слове Universal, С – как Culver City, K как в слове RKO[10]10
Хемингуэй составляет слово FUCK, используя названия крупнейших голливудских киностудий «20th Century Fox», «Universal Pictures», известной кинокомпании RKO (Radio Keith Orpheum) и Culver City – пригорода Лос-Анджелеса, центра киноиндустрии США.
[Закрыть]. Это соответствует всем вашим требованиям! Никто не устоит против столь сексуального символа!»
Ингрид весело засмеялась.
– Ну, а на самом деле, как дела, дочка? – спросил Эрнест Ингрид, глядя ей в глаза. – Что происходит в твоей жизни?
– Подумать только, как все изменилось за несколько лет! Если бы пережитые трудности учили терпению, все было бы замечательно. Взгляни, это мои дети… – Она достала из своей сумочки фотографию. – Робертино, ему четыре года. Двойняшкам здесь по два. Видел ты когда-нибудь таких очаровательных детишек? О, как я люблю маленьких, особенно когда их много. Иметь только одного ребенка, ну, например, моего старшего, было бы так грустно.
– Замечательная смесь – шведская и итальянская кровь, – заметил Эрнест.
Из спальни появился Росселини, человек небольшого роста, с уже явной лысиной и заметным брюшком. На его лице – довольно напряженная улыбка. Эрнест рассказал ему, как мы, шутя, собирались ворваться в «Ла Скала» и спасти Ингрид от сожжения. Ингрид весело смеялась, но улыбка Росселини стала еще напряженнее.
– Может, Эрнест хотел бы что-нибудь выпить, – проговорила Ингрид.
Росселини открыл большой антикварный буфет, превратившийся в бар, и, пошарив в углу, достал початую бутылку шотландского виски. Эрнест взял стакан, а я отказался.
– Ты часто катаешься на лыжах? – спросил Эрнест Ингрид и, обратившись ко мне, заметил: – Знаешь, ведь Ингрид – потрясающая лыжница.
– Совсем не встаю на лыжи. Мне их очень не хватает, но с тех пор, как я живу в Европе, я все время беременна. Собиралась поехать покататься прошлой зимой, когда у меня был промежуток между беременностями, но как представила, сколько понадобится денег на детей и няньку, – решила, что лыжи этого не стоят.
– Конечно, нет, – убежденно сказал Росселини, и в его голосе звучала глубокая уверенность.
– Несколько лет назад, когда мы катались в Кортине, – вспомнил Эрнест, – мисс Мэри сломала ногу. Ударилась лыжей о большой ком влажного снега. Катание на лыжах сейчас, со всеми этими подъемниками, подобно катанию на роликах. Не нужно иметь сильные тренированные ноги, потому что теперь не надо взбираться в гору, а рядом с трассой всегда можно сделать рентгеновский снимок и наложить гипс.
Я спросил Ингрид о ее дальнейших планах.
– У меня нет ничего определенного, но, признаться, меня это совсем не волнует. Юрок хочет организовать турне оперы «Жанна д’Арк» – Париж, Лондон, Нью-Йорк, Южная Америка. Но сейчас дела обстоят так, что я в состоянии быть только домохозяйкой, при этом я чувствую себя абсолютно счастливой – у меня замечательный муж, вокруг нас – прекрасные артисты, и все это меня вполне удовлетворяет. Пожалуй, я не могла бы быть счастливой домохозяйкой, будучи женой торговца, но женой Роберто – вполне.
– Где бы ты хотела жить? – спросил Эрнест.
– На земле есть только одно место, где можно остаться навсегда, – Париж. Но сейчас это такое дорогое удовольствие. Я обожаю Неаполь. Люди там были так добры и дружелюбны, но, пожалуй, постоянно лучше жить в Риме. Там все друзья или друзья друзей, и мне это очень нравится. Я стараюсь со всеми встречаться – не потому, что это нужно, а просто потому, что люблю людей. Люблю разговаривать с ними, просто быть среди них…
Ингрид согласилась поужинать с нами в тот вечер – Росселини должен был выступать перед каким-то обществом, а в театре не было спектакля. Эрнест явно обрадовался и пошел немного отдохнуть в свой номер – почки и спина давали о себе знать. Через час или немного позже Ингрид позвонила и сказала, что Росселини решил, что она обязательно должна услышать его речь. Мы, конечно, поняли, что это означает на самом деле. Перед уходом на выступление мужа Ингрид все-таки зашла в номер Эрнеста, чтобы выпить с нами.
На следующее утро мы рано отправились в путь. Надо сказать, что дорожные знаки на пути из Милана возмущали Эрнеста так же, как и на пути в Милан. Однако, когда мы проехали несколько километров, их стало меньше, что возродило интерес Эрнеста к окрестностям.
Когда мы проезжали Турин, он вспомнил:
– Когда-то я здесь чуть не женился. Он была медсестрой Красного Креста. Я лежал в госпитале. Из-за ноги. Помню, как в постели у стенки я хранил банку, полную металлических осколков, которые вытащили из моей ноги, и многие ко мне подходили и брали по кусочку в качестве сувениров или талисманов. Здесь в те годы был отличный ипподром, и я всегда узнавал, кто победит в забегах, от одного жокея и некоего мистера Зигеля из Чикаго. Мне разрешали ходить на бега – я уже был тогда амбулаторным больным, но никогда не оставался до конца пятого забега.
– А правда, что из твоей ноги вытащили двести стальных осколков?
– Двести двадцать семь. Из правой ноги. Это точная цифра. Подстрелили из австрийского миномета. Они наполняли мины чертовой смесью всего металлического, что есть в этой жизни, – гвоздями, болтами, спицами, винтами и прочей дрянью, и все это попадает в тебя. У двоих итальянцев, которые были со мной, оторвало ноги. Мне повезло: коленная чашечка спустилась по голени, в ногу попал почти весь металл, но чашечка все же не оторвалась. Мне говорили, что меня подстрели потом еще и из автомата, как раз тогда чашечка и сместилась, но я все-таки думаю, виновата эта чертова мина.
– Как же ты мог в таком тяжелом состоянии тащить на себе этого итальянца?
– Господи, Хотч, даже не знаю. Как подумаю о своей ноге, так просто не верю, что я это сделал. Я был в шоке, но, когда мне рассказали, что со мной происходило, мне показалось, что я все сам вспомнил. Как я воевал с врачами, чтобы они не отрезали мне ногу! Потом меня наградили орденом «Croce al Merito di Guerra»[11]11
Орден «За боевые заслуги».
[Закрыть] и три раза отметили за храбрость в списках, а также вручили «Medaglia d’Argento al Valore Militare»[12]12
«Серебряная медаль за воинскую доблесть».
[Закрыть] – я положил все в ту же банку с металлическими осколками, вынутыми из моей ноги.
– А эта девушка из Турина, на которой ты чуть не женился, – она стала героиней «Прощай, оружие»?
– Конечно. Все, что произошло со мной в Италии, так или иначе попало в роман. Медсестра из Турина стала Кэтрин Баркли, да и с другими произошло то же самое, они теперь персонажи моей книги. Ты сочиняешь историю, но все, что ты придумываешь, обязательно основано на пережитом. Настоящая история возникает из того, что ты действительно хорошо знаешь, когда-то видел, чувствовал, понял. То, что ощущал лейтенант Генри, когда Кэтрин Баркли распустила свои волосы и скользнула в его больничную койку, конечно, было взято во многом от моих переживаний, связанных с той туринской медсестрой, но не скопировано с них, а придумано на основе моих воспоминаний. Реальная девушка из Турина работала медсестрой Красного Креста. Она была очень красива, и у нас была прекрасная любовь, когда я летом и осенью 1918 года лежал в госпитале. Но ей никогда не делали кесарева сечения, и вообще она не беременела. То, что на самом деле произошло между мной и медсестрой, описано довольно правдиво в «Очень коротком рассказе». А кесарево сечение делали Полин. Это случилось, когда я в Канзасе писал «Прощай, оружие». Таким образом, получается, Полин тоже немного Кэтрин. И Хэдли. Но та медсестра из Красного Креста, конечно, основной прототип Кэтрин. Правда, Кэтрин обладает и такими качествами, которые я не видел ни в одной из встречавшихся мне в жизни женщин.
Мне было страшно интересно узнавать, как рождается романтическая героиня, как уходит все постороннее и ненужное и возникает образ, – это похоже на процесс очистки нефти из грязного сырья. История же с медсестрой из Красного Креста, похоже, закончилась довольно грустно, если верить словам Эрнеста, утверждавшего, что «Очень короткий рассказ» – правдивая хроника их отношений. В этом рассказе, поместившемся на двух страницах, но вобравшем в себя суть того, что позже превратилось в «Прощай, оружие», говорится о том, как молодой американец, поправившись после ранения, возвращается в Штаты. Перед отъездом он обещает Лиз (медсестре), что очень скоро приедет за ней и они поженятся. Однако Лиз влюбляется в итальянского майора и пишет американцу, что теперь, узнав итальянца, она понимает, что их отношения были лишь юношеской влюбленностью. Только сейчас она поняла, что такое настоящая любовь, и собирается весной выйти за него замуж. Заканчивается рассказ так: «Майор не женился на Лиз весной. Он вообще на ней никогда не женился. И Лиз не получила ответа на свое письмо в Чикаго. Некоторое время спустя он подхватил гонорею от продавщицы из универмага Лупа, когда занимался с ней любовью в такси по дороге в Линкольн-Парк».
Такой была грязная правда отношений с медсестрой из Красного Креста, – которая превратилась, очистившись от всего ненужного, в романтическую историю Кэтрин. После медсестры в жизнь Эрнеста вошла Хэдли, которая тоже отдала частицу себя Кэтрин, а затем и Полин, в свою очередь, внесла свой вклад, пережив кесарево сечение, которое трагически оборвало жизнь героини романа.
– Мне всегда казалось, что в пребывании на больничной койке есть что-то романтическое, – говорил Эрнест. – Однажды, после тяжелой автомобильной аварии, я лежал в больнице в Лондоне. И вот когда я пришел в себя после эфира, первым, кого я увидел, была медсестра, стоящая у моей постели. Это была совершенно ничем не примечательная пожилая женщина, похожая на старую деву, но я был так рад вернуться в мир живых, что схватил ее руку и поцеловал у локтя. «О, мистер Хемингуэй, это единственное романтическое событие, случившееся в моей жизни!» – воскликнула она. Через пару недель, когда в моей палате никого не было, она снова появилась передо мной и спросила, ужасно робея и стесняясь, не могу ли я сделать это снова. И я поцеловал ее. В тот же локоток.
– А ты бывал в Италии во время Второй мировой войны?
– Нет, только в Англии и Франции. Да, и та операция против подводных лодок на Кубе, но Марта не считала, что это была настоящая военная операция, так как все происходило вне главного театра военных действий. Она была несчастлива до тех пор, пока я не стал неофициальным военным корреспондентом журнала «Колльере». Тогда я написал для них несколько действительно хороших очерков – ты знаешь, взгляд изнутри, ведь я был в составе боевых частей и не писал свои тексты, сидя в офицерском клубе и почитывая официальные правительственные заявления для печати. Но эти типы в «Колльере» оказались полным дерьмом. В то время, когда я был на фронте и работал на них, к ним приходила моя почта, но за все эти месяцы они мне не переслали ни одного письма. Я часто посылал им телеграммы по этому поводу, но они отвечали, что у них для меня ничего нет. Когда же я вернулся в Штаты, то обнаружил, что у них целый шкаф забит адресованными мне посланиями.








