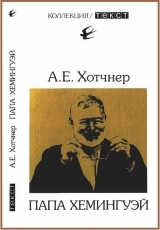
Текст книги "Папа Хемингуэй"
Автор книги: Аарон Эдвард Хотчнер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 2
Нью-Йорк, 1949
В конце октября 1949 года Эрнест, закончив работу над романом «За рекой, в тени деревьев», приехал в Нью-Йорк. Этот город для Хемингуэя был всегда чем-то вроде перевалочного пункта – здесь можно остановиться на недельку-другую, а потом отправиться куда-нибудь дальше, в более приличное место. В Нью-Йорке Эрнест общался с очень узким кругом людей, в то время как встречи с ним всегда жаждали и домогались многие. На протяжении многих лет он останавливался в своем любимом отеле «Шерри-Незерланд» (ему нравилась «надежная защищенность» – никакой регистрации, звонки сортируют, а фотографов и журналистов не пропускают). Но с 1959 года он стал предпочитать трехкомнатные апартаменты на Шестьдесят второй улице, 1. Когда-то это был невероятно дорогой дом, теперь, правда, здесь все было уже не так роскошно.
Эрнест всегда чувствовал себя в Нью-Йорке неуютно и не любил там бывать. Зато Мэри обожала Нью-Йорк, и я подозреваю, он приезжал туда, только чтобы сделать ей приятное. Он не был любителем театра, оперы или балета и, хотя умел получать удовольствие от музыки, концерты – что джазовые, что классические – посещал редко. Правда, Эрнест мог сходить на бокс – если знал, что на ринг выйдут стоящие парни. Приезжая в Штаты, он внимательно следил за футболом – играми профессионалов – по телевизору (на Кубе не ловились передачи американских телевизионных каналов), но никогда не ходил на стадионы. Он обожал бейсбол и был готов пойти на любую игру, а иногда даже приезжал в Штаты лишь для того, чтобы попасть на чемпионат мира.
В Нью-Йорке Эрнест любил бывать только в трех барах – у Тутса Шора, Тима Костелло и в «Старом Зайдельбурге». Я как-то спросил Эрнеста о давнишней истории, которую мне рассказали. Говорили, что однажды Эрнест, сидя в баре у Костелло, поспорил с Джоном О’Харой, чья голова тверже. В конце концов Эрнест схватил дубинку, которую Костелло держал за стойкой, взялся двумя руками за концы и разломил пополам ударом о свою голову. Это правда или очередной апокриф, спросил я. Он засмеялся и сказал: «Пожалуй, история слишком хороша, чтобы от нее отказываться».
Но было в Нью-Йорке одно место, которое Эрнест посещал с огромным удовольствием, – цирк братьев Ринглинг. Ему казалось, что звери в цирке совсем не такие, как все остальные животные: постоянно работая с человеком, они становятся гораздо умнее и приобретают яркую индивидуальность.
Когда я первый раз собрался пойти с ним в цирк, он так хотел поскорее увидеть животных, что мы оказались у Мэдисон-сквер-гарден за час до начала представления. Разумеется, вход для публики был закрыт. Мы подошли к служебному входу на Пятидесятой улице, и Эрнест принялся стучать в дверь. Наконец один из цирковых служащих открыл и попытался отделаться от нас, но Эрнест гордо предъявил ему специальную карточку, подписанную его старым другом Джоном Ринглингом Нортом, в которой указывалось, что ее предъявитель имеет право войти в цирк в любое время и в любом месте. И вот мы в цирке, осматриваем клетки с животными. Эрнеста всегда восхищали гориллы. Несмотря на просьбу страшно нервничавшего смотрителя держаться подальше от клетки, Эрнест решил подружиться с обезьяной. Подойдя к решетке, он обратился к животному с длинной отрывистой речью. Горилла вначале, казалось, внимательно слушала, потом вдруг схватила тарелку с морковкой и опрокинула ее себе на голову, а затем принялась жалобно скулить – верный признак добрых чувств, заметил смотритель.
Тут все служащие цирка окружили Эрнеста, прося его пообщаться и с их подопечными. Хемингуэй заметил, что он только раз по-настоящему беседовал с диким зверем, и это был медведь. Тотчас смотритель, ответственный за медведей, повел его за собой.
Эрнест остановился у клетки с белым медведем и стал наблюдать, как зверь меряет тесное пространство своего пристанища.
– У него плохой характер, мистер Хемингуэй, – предупредил смотритель Эрнеста, – лучше пообщайтесь с тем бурым медведем – у него прекрасное чувство юмора.
– Нет, я должен поладить с этим, – сказал Эрнест, не отходя от клетки. – Правда, я довольно давно с медведями не общался, мог выйти из формы.
Смотритель заулыбался. Эрнест подошел к клетке вплотную и начал говорить – голос его звучал мягко, музыкально, совсем не так, как во время беседы с гориллой. Медведь остановился. Эрнест продолжал говорить, и, признаюсь, я никогда раньше не слышал от него таких слов, а вернее, звуков. Медведь слегка попятился, а потом сел, уставился на Эрнеста и вдруг принялся издавать странные носовые звуки, подобные тем, что можно услышать от пожилого джентльмена, страдающего тяжелым катаром.
– Черт возьми! – воскликнул пораженный смотритель.
Эрнест улыбнулся медведю и отошел от клетки.
Вконец сбитый с толку медведь смотрел ему вслед.
– Я говорил по-индейски. Во мне течет индейская кровь. Медведи любят меня. Так было всегда.
Хотя Эрнест и любил смотреть кино в своем доме на Кубе, в Нью-Йорке он ходил в кинотеатры только на экранизации своих романов или рассказов, причем как бы принуждал себя к этому. Перед тем как решиться на это предприятие, он целыми днями твердил, что просто обязан пойти и посмотреть фильм, что таков его долг. Он вновь и вновь возвращался к этой теме, кружил и петлял, как охотник, загоняющий дичь, прежде чем сделать последний выстрел.
Фильм по роману «Прощай, оружие», снятый на студии Дэвида Селзника с Дженнифер Джонс и Роком Хадсоном в главных ролях, Эрнест наконец решился посмотреть после того, как три дня тщетно пытался придумать для себя причину, по которой мог бы этого избежать. Хемингуэй продержался тридцать пять минут. Потом мы молча шли по Сорок девятой улице и вверх по Пятой авеню. Наконец Эрнест произнес:
– Представь, Хотч, что ты написал книгу, которая тебе самому очень по душе, а потом ты видишь, что с ней сделали! Да это же все равно что помочиться в отцовскую кружку с пивом.
Мы смотрели фильм «И восходит солнце» накануне открытия чемпионата мира по бейсболу 1957 года, ради которого, собственно, Хемингуэй и приехал в Нью-Йорк. Когда Мэри спросила Эрнеста, какое впечатление на него произвел фильм, он ответил так:
– Любой фильм, в котором лучший актер – Эррол Флинн, является злейшим врагом самому себе.
Обычно фильмы по произведениям Хемингуэя ставились без его участия, и только в «Старике и море» он сам редактировал сценарий. Эрнест даже провел со съемочной группой несколько недель на побережье в Перу, охотясь за огромными марлинями, которые никак не попадали на крюк в нужный для оператора момент, и поэтому пришлось снимать рыб, сделанных из пористой резины. Надо отметить, что «Старика и море» Эрнест досмотрел до конца, молча глядя на экран. Когда мы вышли из кинотеатра, его единственным комментарием стало следующее замечание:
– Спенсер Трейси выглядел как очень толстый и богатый актер, изображающий бедного рыбака.
Как-то Эрнест выразил желание посмотреть телевизионные фильмы, для которых я сделал сценарии по его повестям и рассказам. Я устроил демонстрацию по кабельному телевидению. Один из них – «Мир Ника Адамса» – Эрнесту очень понравился. Мне тоже казалось, что это наиболее удачная экранизация. Она была сделана по семи рассказам о Нике Адамсе и прекрасно снята режиссером Робертом Миллиганом. После просмотра в студии Эрнест сказал:
– Ну что ж, Хотч, тебе удалось рассказать эту историю на экране так же здорово, как мне – на бумаге.
Так я получил лучший комплимент в моей жизни. Мне повезло, что Эрнесту никогда не приходило в голову посмотреть не получавшийся с самого начала съемок фильм «Игрок, сестра и радио». Больше всего Хемингуэю нравился трехчасовой «По ком звонит колокол», который я делал для телестудии «Плейхауз». В главных ролях там снимались Джейсон Робардс, Мария Шелл, Эли Валлах и Морин Степлтон. Правда, Эрнест считал, что я должен был включить в сценарий больше материала о националистах.
– Тебе удалось выразить дух этих людей, их характеры, их истинную сущность, и это самое ценное. Ты видел фильм, снятый для большого экрана? Эта сцена любви между Купером и Ингрид, когда он даже не может снять пальто? Чертовски трудно заниматься любовью в пальто и в спальном мешке! И Ингрид, в элегантном платье и со всеми этими локонами, – она выглядит как Элизабет Арден, одетая от «Аберкромби и Фитч».
К магазинам Эрнест относился так же, как к походам в кино. Несколько дней он как мог оттягивал тур по магазинам, а когда наконец попадал в какой-нибудь торговый центр, делал совершенно безумные покупки. Нигде его врожденная скромность не проявлялась так ярко, как в торговом зале. Один лишь взгляд продавца ввергал Эрнеста в страшное смущение. Он готов был купить первую же вещь, которую ему предлагали, и скорее исчезнуть из магазина. Единственным исключением был магазин «Аберкромби и Фитч», особенно оружейный и обувной отделы. Но уже в отделе одежды продавцу приходилось держать Хемингуэя за рукав куртки, чтобы тот не сбежал и купил себе хоть что-нибудь.
В одежде Эрнест был чрезвычайно скромен – у него была своего рода униформа: кожаные мокасины, кепка с козырьком, кожаный ремень с надписью «Бог с нами» на пряжке – этот ремень, снятый с убитого немца, стал в некотором роде для Хемингуэя талисманом. Пояс был великоват, но Эрнест никогда не расставался с ним и носил со всеми брюками. У него был один приличный пиджак, пошитый специально для него в Гонконге, две пары брюк, одна пара ботинок и ничего из нижнего белья. Однажды я пошел с ним в магазин «Марк Кросс» на Пятой авеню покупать сумку. Продавец показал нам огромную сумку, в которой легко помещались целых десять костюмов. Стоила она триста долларов.
– Знаешь, купил бы эту сумку, – сказал Эрнест, – но девять костюмов – не могу.
Впрочем, вернемся назад, в тот октябрьский день 1949 года, когда Эрнест приехал в отель «Шерри-Незерланд» с рукописью романа «За рекой, в тени деревьев». Утром Герберт Майер, ставший главным редактором «Космо» после ухода нашего доброго друга Артура Гордона, вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что 85 тысяч долларов за роман – невероятно большая сумма и я должен сообщить мистеру Хемингуэю, что журнал заплатит ему только 50 тысяч. Я, конечно, с возмущением отказался – ведь все уже было договорено и решено, и предложил Майеру устроить встречу с Хемингуэем, чтобы тот сам объяснил писателю свое решение. Тогда Майер, после некоторых раздумий, согласился оставить все как есть, а я отправился в «Шерри-Незерланд» за рукописью.
Номер Хемингуэя уже был вполне обжит. В гостиной на столе стояли два серебряных ведерка со льдом, в каждом – по бутылке вина, а также огромная банка белужьей икры, поднос с тостами, две тарелки – с тонко порезанным луком и с ломтиками лимона, блюдо с копченой семгой и высокая ваза с двумя желтыми розами. За столом сидели Марлен Дитрих, Мэри Хемингуэй, Джигги Вертель, Чарлз Скрибнер и Джордж Браун. Тут же – Лилиан Росс из «Нью-Йоркера» со стенографическим блокнотом на коленях. Джигги Вертель, бывшая жена Бадда Шульберга, была в это время замужем за Питером Вертелем. Джигги, старая приятельница Хемингуэев, собиралась отправиться с ними в плавание на «Иль-де-Франс». Джордж Браун был одним из самых верных и близких друзей Эрнеста. Их дружба началась еще во времена занятий в спортзале Браунов, где когда-то собиралась боксерская элита Нью-Йорка. Эрнест всегда говорил, что Джордж знает о боксе больше, чем все тренеры Нью-Йорка, вместе взятые. Лилиан Росс делала стенографические записи для очерка об Эрнесте (он должен был появиться в «Нью-Йоркере»).
Эрнест представил меня своим гостям и предложил всем пойти пообедать в ресторан «21». В двадцатые годы, сказал Эрнест, когда он жил в маленькой комнатушке в Бривурте, этот ресторан был его «альма матер». В те времена ему здорово не хватало денег на жизнь, и, бывало, нормально поесть удавалось лишь раз в неделю. И вот однажды Джек Криндлер, совладелец ресторана «21», пригласил его на шикарную вечеринку, которая должна была происходить в баре на втором этаже ресторана, при этом планировалось распитие запрещенных спиртных напитков, а ведь в стране был тогда сухой закон! Во время вечеринки Эрнеста представили одной итальянке – по его словам, она была самой очаровательной девушкой, которую он встречал в своей жизни.
У нее была такая особенная красота, красота женщин эпохи Возрождения – черные как смоль волосы, круглые глаза, кожа, как у женщин Боттичелли, и грудь Венеры, появляющейся из морской пены. Вечер заканчивался, все понемногу расходились, а мы с итальянкой, взяв свои бокалы, перешли на кухню. Джек сказал: все в порядке, не волнуйся, уборщица еще два-три часа будет приводить все в порядок. Мы говорили и пили и вдруг здесь же на кухне стали заниматься любовью. Никогда потом мои ожидания не реализовались настолько полно. Но вот наступило пять часов утра, и нам уже действительно нужно было уходить. Мы смогли спуститься только на первый этаж – и на этой лестничной площадке – помните, та, у лестницы на второй этаж, – снова начали любить друг друга. Это было подобно плаванию в море в самый страшный шторм – взлетаешь на высокой волне, а потом резко падаешь вниз, и так снова и снова, в надежде, что вот-вот перед тобой откроется непостижимая тайна этой потрясающей воображение глубины.
Итальянка не позволила мне проводить ее домой. Когда на следующий день я проснулся в своей каморке в Бривурте, первой моей мыслью было скорее ее разыскать. Я надел куртку, сунул руку в карман и обнаружил там три сотенные купюры. Я тут же помчался в «21». Джек отвел меня в сторону и сказал: «Послушай меня, Эрни, лучше бы тебе остыть. Я должен был сразу предупредить тебя, что это девушка Джека-Брильянта и он возвращается в город сегодня в пять часов».
Мы заказали столик в «21», и Эрнест повел меня в свою спальню. Там он открыл потрепанный портфель и вытащил рукопись.
– Мне хочется, чтобы ты был с нами в эту осень. Похоже, будет совсем неплохо. Одна моя приятельница из Венеции написала, что едет в Париж. И если ты тоже поедешь с нами и верстка будет с тобой, мы могли бы вместе все быстро сделать. А в свободное время поедем в Отейль на скачки. Жорж обо всем позаботится – ну тот Жорж, бармен в «Ритце». Знаешь его? Он замечательный парень, все может! Мы бы так славно все устроили! Черт, чем больше я об этом думаю, тем больше расстраиваюсь, представляя, как мы будем наслаждаться, в то время как ты сидишь в своей конторе на Пятой авеню и вкалываешь, не разгибая спины.
Он задумчиво покрутил ус.
– Ну что ж, Папа, – сказал я, – все зависит от предложенных условий.
– Условия назовешь сам, дружок. А сейчас сделаем вот что… – Он взял рукопись и отделил часть страниц. – Ты отнесешь это своему боссу и скажешь, что здесь все, за исключением нескольких последних глав, которые я взял с собой, поскольку хочу еще немного над ними поработать.
Когда я вручил рукопись Герберту Майеру и сообщил ему о судьбе последних глав, он чуть не выпрыгнул из кресла.
– Боже мой, вы же знаете, ему нельзя верить! Он пьет! А у нас нет окончания! Езжайте за ним! Не спускайте с него глаз! К первому января мы должны иметь последние главы романа у себя – чего бы нам это ни стоило!
Когда я вечером вернулся в отель, Эрнест сидел в кресле и читал книгу. Даже не взглянув на меня, он спросил:
– Когда ты выезжаешь?
Глава 3
Париж, 1950
Приехав в Париж, Эрнест и Мэри остановились в своем любимом «Ритце» на Вандомской площади. Джигги жила в номере под ними, а я, не страдая ностальгией, устроился в «Опале», маленьком и уютном отеле на улице Тронше, где как-то провел несколько дней во время войны. С тех пор удобства в отеле особенно не изменились. Хемингуэи и Джигги прибыли во Францию на лайнере «Иль-де-Франс», и я, вылетев из Нью-Йорка через пару дней после отплытия корабля, приехал в Париж почти одновременно с ними. Эрнест очень обрадовался, узнав, что осенние скачки в Отейле, в самом сердце Булонского леса, начинаются на следующий день. Он тут же предложил нам сделать то, что ему всегда хотелось, но до сих пор не удавалось, – ездить на скачки каждый день.
– Вы войдете в замечательный ритм – это как ежедневная игра в мяч. Вы будете все знать, и никто не сможет вас надуть. Кстати, там на вершине горы, прямо над ипподромом, есть прекрасный ресторанчик, где замечательно кормят и откуда удобно смотреть скачки. Вам будет казаться, что это вы несетесь к финишу! Во время заездов вам трижды, вместе со сменой блюд, подадут котировки лошадей, и вы сможете делать ставки тут же, в ресторане, не вставая со стула. Не надо никуда бежать, чтобы поставить на свою лошадь. Потрясающе!
Мы с Хемингуэем организовали то, что Эрнест назвал «Синдикатом Хемхотча», – внесли в общий фонд определенную сумму денег и договорились, что будем пополнять капитал синдиката по мере надобности. (Позже, когда наша деятельность стала более разнообразной, Эрнест даже официально зарегистрировал компанию в Нью-Джерси, назвав ее «Хемхотч, Лтд».)
В Европе принято носить в бумажнике множество визитных карточек, и мы, следуя этому правилу, а также дабы отметить рождение нашей компании, придумали для визитки замечательный текст:
«М-р. Эрнест Хемингуэй и м-р. А. Е. Хотчнер, эсквайры, объявляют об образовании компании „Хемхотч, Лтд“, целью которой является удовлетворение интереса ее учредителей к скачкам, бою быков, охоте на диких уток и танцам фанданго для женщин».
Однако в ту осень мы смогли достичь лишь уровня простого сотрудничества. Обычно в день скачек в Отейле мы заваливались где-то около полудня в «Литл бар» отеля «Ритц», и пока Бертен, маэстро этого заведения, готовил нам свою бесподобную «Кровавую Мэри», изучали списки участников заездов и выбирали, на кого поставить. Иногда Жорж, или Бертен, или кто-нибудь еще из барменов подходил к нам и просил сделать ставки за них. Бертен был особенно неутомим, причем в своем выборе он руководствовался не строгим научным анализом, а, скорее, какими-то мистическими соображениями. Однажды он вручил Эрнесту список из восьми лошадей, которые, как он полагал, придут первыми в восьми заездах того дня. Эрнест изучил список и сказал:
– Знаешь, Бертен, что я сделаю? Я поставлю десять тысяч франков на каждую лошадь, а выигрыш поделим пополам, идет?
Все лошади из списка Бертена проиграли, но, когда мы вернулись в бар, Эрнест вручил Бертену пять тысяч франков.
– Одну из твоих лошадей сняли с состязаний, и мы получили ставку обратно, – сказал он.
Не думаю, что когда-нибудь мне еще будет так хорошо, как в те дни в Париже. Лошади и жокеи Дега на фоне пейзажей Ренуара; серебряная фляжка Эрнеста с выгравированной надписью «От Мэри с любовью», а во фляжке – замечательный выдержанный кальвадос; бурный восторг победы и бокалы, осушаемые в одно мгновение; советы жокею и ностальгия Эрнеста, скрытая от посторонних глаз.
– Знаешь, Хотч, больше всего в жизни люблю встать утром, пораньше – птицы поют, окно открыто, и слышно, как где-то неподалеку скачут лошади.
Мы сидели на верхней ступеньке трибуны и разговаривали. Погода была отвратительная, Эрнест кутался в свое огромное пальто, на голове – его всегдашняя кепка, борода спутана. Мы только что пообедали – устрицы, омлет с ветчиной и зеленью, сыр и холодное вино «Сансерре». В седьмом забеге мы не делали ставок. Эрнест, наклонившись слегка вперед, смотрел в бинокль, взятый напрокат, на ипподром, где к беговому кругу медленным серпантином тянулись лошади из паддока.
– Когда я был молод, – вспоминал Хемингуэй, – я был единственным чужаком, кому позволялось приходить на частные ипподромы в Ашере и Шантильи. Они разрешали мне даже пользоваться секундомером с остановом – как правило, никто, кроме самих хозяев, к нему не прикасался. Это здорово помогало мне правильно делать ставки. Там я узнал об Эпинаре. Один тренер, Дж. Патрик, эмигрант из Америки, которого я знал еще со времен Первой мировой войны – мы с ним познакомились в Италии, еще мальчишками, – рассказал мне, что у Джина Лея есть жеребец, из которого может получиться скакун века. Это его слова, Патрика, – «скакун века». «Эрни, – сказал он, – мать жеребца – Бададжос-Эпина Бланш из конюшни Рокминстера, во Франции ничего подобного не видели со времен Гладиатора и Большой Экюри. Мой тебе совет – займи или укради сколько можешь и все поставь на этого двухлетку в первом же заезде. Потом уже все увидят, что это за лошадь, но сейчас, когда его еще никто не знает, поставь на него все, что у тебя есть».
Тогда я у меня был период «полной нищеты». Порой не хватало денег даже на молоко для Бамби, но я все-таки последовал совету Патрика. Я выпрашивал наличные у приятелей. Даже одолжил тысячу франков у своего парикмахера. Я приставал к иностранцам. Кажется, в Париже уже не осталось ни единого су, на который я бы не позарился. И вот, когда Эпинар дебютировал в Довилле, я поставил на него все добытые с таким трудом деньги. Он выиграл забег, и на полученный выигрыш я смог жить месяца два. Патрик познакомил меня со многими выдающимися жокеями того времени – Фрэнком О’Нилом, Фрэнком Кохом, Джимом Уинкфилдом, Сэмом Бушем и потрясающим наездником Жоржем Парфремоном.
– Как ты помнишь все эти имена, ведь прошло столько лет? – спросил я. – Ты что, встречался с ними потом?
– Нет. Но я всегда помню то, что хочу помнить. Никогда не вел никаких дневников, не делал записей. Я лишь нажимаю нужную мне кнопку памяти – и все. Вот, например, Парфремон. Я вижу его так же ясно, как сейчас тебя, слышу его так же отчетливо, как во время последнего с ним разговора. Именно Парфремон на Борце Третьем из конюшни Анси принес первую победу Франции на Больших скачках в Ливерпуле. Это один из труднейших стипль-чезов. Жорж увидел Парфремона в первый раз за день до скачек. Английские тренеры показывали ему большие барьеры. И Жорж повторил мне слова, которые тогда сказал им: «Размер барьеров не играет никакой роли, единственная опасность – это сбиться с темпа». Бедняга Жорж! Он предсказал свою собственную судьбу. Погиб, преодолевая финальный барьер в Энгиене, причем высота барьера не превышала и трех футов. Энгиен – старый, простоватый, но порой такой коварный! Раньше, когда еще не перестроили трибуны, заменив все на холодный и безразличный бетон, Энгиен был моим любимым местом скачек. Там ощущалась какая-то особенно теплая атмосфера. В один из последних приездов в Энгиен – кажется, с Эваном Шипманом, профессиональным наездником и писателем, и Гарольдом Стирнсом из парижской редакции «Чикаго трибюн», мы делали ставки каждый день. Я выиграл шесть раз из восьми возможных. Гарольд страшно мне завидовал. «В чем твой секрет?» – спросил он меня. «Все очень просто. В промежутках между заездами я спускаюсь к паддоку и нюхаю лошадей. Побеждают всегда те лошади, за которыми лучше ухаживают, и с помощью обоняния вы сможете предсказать, какого скакуна ждет победа».
Встав, Эрнест принялся разглядывать людей, толпящихся у окошек, где делались ставки.
– Слышишь, как стучат каблуки по мокрому асфальту? В этом влажном воздухе, в тумане все выглядит удивительно красиво! Господин Дега мог бы прекрасно изобразить их, ему удалось бы уловить этот приглушенный свет – да, пожалуй, на полотне эти люди выглядели бы более настоящими, чем в жизни. Это и должен делать художник. На холсте или листе бумаге изобразить натуру настолько верно, с такой силой, что она останется с людьми надолго. В этом – основное отличие журналистики от литературы. Литературы вообще очень мало – гораздо меньше, чем принято считать.
Он достал из кармана расписание забегов и некоторое время изучал его.
– Вот настоящее искусство, – задумчиво проговорил он. – Ну что ж, сегодня нам не везло. Жаль, у меня уж не тот нос. Теперь я ему не доверяю. Я мог бы проследить угасание его провидческих способностей с той зимы, когда мы с Джоном Дос Пассосом приехали сюда поиграть на ипподроме. Оба в то время много работали – каждый писал роман, мы отчаянно нуждались и не знали, как переживем зиму. Я расхвалил ему мой способ оценки лошадей, он поверил в мои силы, и мы сложились, чтобы делать ставки. Одна из лошадей, участвовавших в седьмом забеге, как мне казалось, пахла особенно обещающе, и мы поставили на нее весь наш капитал. К несчастью, она завалилась после первого же барьера. У нас в карманах не осталось ни единого су, и пришлось добираться пешком до дома.
Тут к нам подошли два парня и предложили дать сведения о победителе следующего забега. Говорили они на ярко выраженном кокни. Эрнест очень вежливо отказался от их услуг. Симпатичный молодой человек в полувоенном пальто, стоявший в проходе, обернулся, взглянул на Эрнеста и робко приблизился.
– Мистер Хемингуэй! – заговорил он по-французски. – Вы меня помните?
Эрнест озадаченно посмотрел на него.
– Я – Ришар.
– О, Рикки! – Узнав юношу, Хемингуэй радостно заулыбался и крепко его обнял. – И правда, Рикки. – Он снова посмотрел на него. – Ничего удивительного, что я тебя не сразу узнал – ведь в первый раз вижу тебя без формы.
Эрнест объяснил мне, что Рикки был членом партизанского отряда, который Эрнесту удалось сколотить после битвы при Булже. Хотя Эрнест должен был лишь исполнять обязанности военного корреспондента журнала «Колльерс», он участвовал в боевых операциях и вместе с группой французских и американских партизан оказался среди тех, кто первым вошел в Париж. Отряд Эрнеста захватил отель «Ритц» и уже отмечал это событие с шампанским, когда генерал Леклерк торжественно входил в Париж со своими частями, думая, что именно они – первые.
Во время беседы Эрнеста и Рикки я вспоминал рассказ военного фотокорреспондента Роберта Капы, который некоторое время сражался в отряде Хемингуэя. Партизаны были убеждены, говорил он, что Эрнест – генерал: ведь при нем были офицер, занимавшийся связями с общественностью, адъютант, повар, шофер, фотограф и даже запас спиртного. Капа сказал, что у отряда было самое лучшее американское и немецкое оружие, более того, у него складывалось такое впечатление, что у бойцов Хемингуэя больше снаряжения и спиртного, чем в целой дивизии. Все партизаны носили немецкую форму, но с американскими знаками различия. Фотокорреспондент пробыл в отряде недолго. Спустя несколько месяцев он въехал на джипе в Париж в полной уверенности, что здорово всех опередил, но, оказавшись у входа в отель «Ритц», с удивлением узнал в солдате с карабином наперевес, охранявшем вход в отель, Арчи Пелки, шофера Эрнеста. «Привет, Капа, – в манере, присущей Эрнесту, сказал Пелки. – Папа захватил отличный отель. В здешних погребах есть на что посмотреть. Иди скорее наверх».
Когда Рикки ушел, мы спустились в бар, и Эрнест заказал шотландское виски с лимоном, а я – шампанское.
– Дьявол, а не человек этот Рикки, он проворачивал такие дела…
И Эрнест унесся в воспоминания, медленно потягивая свой скотч: он отпивал немного, а перед тем, как сделать глоток, несколько секунд держал виски во рту, согревая жидкость и смакуя ее.
Затем он вытащил из кармана карандаш, которым заполнял бланки заездов, и стал что-то писать на салфетке. Закончился последний заезд, бар заполнился людьми, стало шумно, но Эрнест, глубоко сосредоточившись, ни на что не обращал внимания. Он заказал еще одно виски, мял одну исписанную салфетку за другой и бросал их под стол. Когда же наконец он засунул карандаш обратно в карман и протянул мне салфетку, в баре осталось лишь несколько человек. Оказалось, он сочинил стихотворение, в нем было шестнадцать строк, а называлось оно «Через границу». В этом стихотворении переплелись жизнь ипподрома и воспоминания Эрнеста о военном прошлом и Рикки.
Неожиданная встреча с Рикки так сильно взволновала Эрнеста, что в его памяти стали оживать и другие образы прошлого, и несколько дней спустя он сочинил стихотворение, ставшее одой погибшим на войне. В моменты сильных переживаний, душевных потрясений он часто писал такие небольшие стихотворения, импульсивные, эмоциональные, помогавшие ему пройти через те или иные испытания. Особенно памятна мне элегия из одиннадцати строк, которую Эрнест написал в память о любимом коте Безумном Кристиане, растерзанном его же собратьями-котами. Эрнест утверждал, что они просто ревновали и завидовали Кристиану, потому что тот был весел, молод и красив и познал все тайны жизни.
Когда в Отейле не было заездов, мы гуляли по городу. Однажды в холодный декабрьский день, когда небо заволокло серыми тучами и жесткий ветер срывал последние листья с деревьев, Мэри, Эрнест, Джигги и я решили пойти на Монмартр на Пляс-дю-Тертр. В это время там уже не было ни туристов, ни продавцов открыток, ни уличных художников. На углу площади и улицы Норвин располагался старый ресторанчик «Охотничий рог», где когда-то давно, еще в двадцатые годы, в первое время после приезда в Париж Эрнест частенько обедал, когда у него появлялись деньги. На мраморной доске над входом в ресторан было написано: ICI ÉTAIT EN 1790 LA PREMIÈRE MAIRIE DE LA COMMUNE DE MONTMARTRE[5]5
В этом здании в 1790 году помещалась первая мэрия коммуны Монмартра (фр.).
[Закрыть].
В тот день мы оказались единственными посетителями ресторана. Как только Эрнест появился в дверях, хозяин, мсье Франсуа Деметр, величественный старик с роскошными усами, сразу же его узнал. Он подошел к нам, радостно улыбаясь, назвал Эрнеста по имени и обнял. Нам нужно было согреться, и он быстро смешал для нас аперитив. Нас усадили как можно ближе к плите за большой круглый стол. Слегка прихрамывающая такса мсье Франсуа терлась о ногу Эрнеста, пытаясь добиться его внимания, что в конце концов ей и удалось.
После великолепного обеда Мэри и Джигги пошли в магазин «Элизабет Арден», где они должны были с кем-то встретиться, а мы с Эрнестом остались в уютном тепле у горячей плиты и с не менее горячим «Шатонеф-дю-Папе».
– Когда-то мы с Полин жили совсем недалеко отсюда, – сказал Эрнест. – Старая подружка Полин. Тогда она была влюблена в Майка Уорда. Майк – из самых крутых парней, которых я знал в своей жизни. Правда, он был глуховат, но так предан мне, что Полин как-то заметила: «Если Эрнест убьет свою мать, Майк лишь скажет: что ж, имеет право, ведь это же его мать, не так ли?»
Никогда не забуду то время, когда я работал над гранками романа «Прощай, оружие» в кабинке у финишной линии шестидневных велосипедных гонок. Там было неплохое и недорогое шампанское, а когда мне хотелось есть, я получал крабов по-мексикански из Прунье.
Я переписывал конец романа тридцать девять раз, а потом тридцать раз переделывал его уже в гранках, стараясь добиться нужного мне результата. Наконец я был удовлетворен. Как-то ночью, когда я работал, ко мне завалился Майк. Его левая рука страшно распухла. Вы когда-нибудь выращивали сквош? Так вот, его рука напоминала «гордость вашего сада». Присев, Майк объяснил, что вечером был в баре «У Генри» – этот бар в Париже знают все, там еще стены увешаны фальшивыми чеками. И вот глуховатый Майк вдруг услышал, как два сидящих неподалеку парня произнесли мое имя, но в какой связи, не понял и, решив прояснить ситуацию, подошел к одному из них и спросил: «Вы друг Эрни?» Тот ответил: «Нет», тогда Майк хорошенько его поколотил. «Я подумал, нечего ему говорить о тебе, раз он не твой друг. Но может, я был не прав, а, Эрни?» – спросил он меня.








