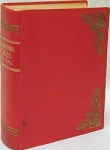Текст книги "Полынь (СИ)"
Автор книги: Tigrapolosataya
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
___________
Арыки – каналы
Парсанг, фарсанг – персидская мера пути. Равнялся примерно 4,5 км.
Тельпек – лохматая туркменская папаха. В ней не холодно зимой, и не жарко летом.
Тюбитейка – квадратная шапочка. Зачастую весьма красиво и дорого вышитая.
Аркан – верёвка из конского волоса. Для ловли лошадей. Очень прочная и жёсткая.
Вай дод – чтто-то типа «Караул», «Помогите», «Беда». Когда кричат «Вай дод», значит, случилось что-то действительно страшное.
Айил – селение кочевых каракалпаков и туркмен.
Чийя – тростник, камыш. Из неё плели циновки, занавеси, тонкие перегородки в домах, корзины.
Мадий – реально историческое лицо. Предводитель ишгаузов в 6 веке до н.э.
Бешбармак – блюдо из отварного тонко раскатанного теста, на конском бульоне, с отварной кониной и сырым репчатым луком.
8.Яд
Уходили и уходили из домов мужчины. В домах, даже крестьян и ремесленников, появилось оружие. Закрылись лавки, замер базар. На улицах древней Мароканды появилась ночная стража. Не было дождя, и город рано потерял летние краски. Небо выцвело до грязного серого. Рано посыпались пожелтевшие листья. Мир оголился, потускнел. Затих смех. Ветер приносил запах гари. Люди ждали.
И боялись дождаться.
Темна, тепла ночь. Листва ночного сада черна. Тьма под деревьями подобна спекшейся крови.
Над мраком сада сияет серебряное небо, и тонкая струя ручья отсвечивает в ответ небесным светилам, постукивая камушками дна, словно перебирая перламутровые зерна нескончаемых четок.
А в небе, между черными крыльями ветвей, вспыхивают звезды. Меркнут, трепещут, то будто на краю ветвей, то будто в непонятном далеке. И если они далеки, – велики, а если на краю ветвей, – подобны огненным бабочкам.
Душно! Невозможно сидеть в доме. Невозможно спокойно есть, спать. Невозможно взять в руки лютню. Невыносима тяжесть взгляда старого нукера. Снятся ночами чёрные, как беззвёздная ночь, глаза. Руфин метался по саду.
Как он мог оставить Кебета?!
Как посмел бросить человека, который жизнь ему спас?!
Боги, где вы?! Предвечные, не допустите!
Почему нет вестей?
Почему никто ничего не расскажет?!
Боги-Боги! Смилуйтесь!
Неподвижно, сторожко лежали псы у ворот. Большие, свирепые. С круглыми ушами, обрезанными, чтобы слух их был чутче. С хвостами, обрубленными, чтобы шаг их был легче. Но глаза псов тревожно косились на лёгкий топоток, на неясный лепет измученного, мечущегося по дорожкам человека, мешавшего слушать сад.
Опять прислали паланкин из дворца шада Мароканды. А Руфин не то что петь, слова сказать не может. Ничего не может. Больно ему. Как мог он предать Кебета?
Почему приходит Нехо? Что он увидел в синих глазах? Вот он взял руку Руфина – и поцеловал узкую ледяную ладонь. Чем привёл в смятение.
Смеётся? Чему? Печали в глазах Руфина?
Темно у калитки. Чёрная хмурая ночь по-осеннему легла на кривую улочку. А Нехо не отпускает ладонь, ведёт губами по ладони, запястью, тонкой руке. Сильная рука обвивает узкие бёдра певуна.
– Ааах, Руфин… – сладким стоном. Горячими чреслами.
А Руфин не видит богатой одежды наследного принца. Не чувствует горячего тела. Тяжести золотых браслетов, надеваемых на тонкую руку постылым ухажером.
Он видит глаза, сверкающие от ненависти. Фарруд стоит в воротах. Старого нукера трясёт от злобы.
– Шлюха. – Шипит он сквозь зубы.
***
На узорчатой скатерти белая лепёшка. И целая гора белого и чёрного винограда. От его сладости липнут пальцы и губа прилипает к губе. Так он напитался солнцем. До прозрачности. В белом хусайне* все зёрнышки видны. Продолговатые ягодки светятся. В круглые глянцевые бока чёрного чораза* глядеться, как в зеркало можно. Мелкий розовый лайли* одуряюще пахнет мускатом. Прекрасный полдень. Уже не жарко. Осень началась. Полдень тёплый, светлый, яркий. Под шёлк навеса занесло паутинку. Значит, долго ещё продержится тепло. Руфин опустил голову. И усталость его была какой-то непривычной, непонятной, тяжкой, – не тело устало, тело ему повиновалось, устала воля: не было желания ни встать, ни идти, ни спать. Всё умирало в нём.
Кебет говорил нукеров рядом держать. Никуда не отпускать. Никуда одному не ходить. Чтобы они стали тенью Руфина.
– Чтобы с твоей головы, ясноглазый, ни один волос не упал. – Кебет улыбается.
А Руфин плачет – Ауминза сгорела. Никто не спасся. Ни один человек не вышел из пылающего города. От дома рода Таллах остался один фундамент.
– Помни обо мне... – Кебет достал откуда-то из складок пояса небольшой кривой кинжал в сафьяновых ножнах с усыпанной рубинами рукояткой. – Он меня в дороге хранил; пусть хранит и тебя на твоих дорогах.
И слышится Руфину в словах молодого вельможи что-то столь горестное, что прижимается он губами к ледяному лезвию. Хрусталём скользят слезинки по драгоценному булату.
– Счастья тебе, звонкоголосый. – Слышен въяве голос молодого вельможи.
Кто скажет теперь ему это? Кто будет дразнить виноградинкой? Поднося её к самым губам и отдёргивая руку? В чьих руках он будет засыпать? У кого ещё такая широкая и надёжная спина, что можно за неё прятаться. От всего мира прятаться.
Даже от узких глаз старого нукера, пылающих ненавистью и презрением.
***
Он появился в городе спустя неделю после скорбных новостей. Глаза навыкате. Волосы вздыблены. Тельпек обгорелый в неживой руке мотается. С головы до ног в пыли. Густой и жирной лёссовой* земле Хорезма. Струйки пота пробивали у морщинок извилистые дорожки.
Спрашивали его – почему в пыли он? Почему в копоти?
Он не мог отдышаться.
– Плешивый шакал. Собачий ублюдок. Выродок. Ишак громогласный. Чтоб ему семь метров пустоты под ногами. Без пыли и без земли! Без Неба и без воды!
Руфин с удивлением вглядывается в почерневшие черты. И не вспомнит никак, когда бы ещё так ругался смиренный святоша. Не стесняясь людей. Да не выбирая выражений.
Всё начиналось благочестиво. Вернулся Байирр. Встретили его радостью – хозяин вернулся, всю зиму дома не был. Кривился хозяин, глядя на слуг и домочадцев. Чувствовалось – не по душе ему дома быть.
Потом ишгаузы пришли. Все дома в округе спалили. Родовой дом Таллах не тронули. Крепость окружили. Долго под стенами стояли. Драка большая была. Всех перебили. Дворец сгорел. Шад сгорел. Байирр потайные ворота ишгаузам, чтоб их дикие ослы растоптали, раскрыл. Сам святоша спасся потому, что в золе храма Богини Триждывеличайшей копался. Чтобы святыни спасти.
А потом и родовой дом Таллах сгорел. Вместе со всеми, кто в доме был.
– Кебет? – Упало камнем с помертвевших губ певуна.
– Младшего братца тащили в степь за лошадью. Рабом он стал у ишгаузов.
Не загремел гром. Не обрушились Небеса с престолом Всемогущих. Руфин отшатнулся. Зашатался. Побелел.
Упасть не дали. Сильные руки подхватили. Бережно опустили на подушки. Клонилось к закату ласковое солнышко. Твёрдо шелестели жёсткие листья карагачей. Пахло осенним листом. И степной полынью. Почему небо – чёрное?
Никто не увидел яркой радости, мелькнувшей в раскосых хитрых глаза святоши. От того, что больно певуну. Что сердце его разорваться готово. Старый нукер увидал. Рысьими глазами углядел посиневшие враз губы Руфина. Змеиную улыбку, скользнувшую по губам куриной гузкой святоши. Рыком из горла старого нукера вырвалось:
– Тварь!
Отшатнулся святоша, запнулся. С тяжким звоном упал вытертый хурджин с тощего плеча. Раскатились монеты с ликом Триждывеличайшей. Застучали цветные камни по полу. Украшавшие раньше престол Триждывеличайшей.
– Вай дод! – Ахнули люди. – Караул!! Да он же блудодей! Осквернитель храма! Вор! Осквернитель могил! Бей его!
Святоша метнулся к тахте, на которую уложили юношу. Что-то острое впилось в слабую руку. Певун этого даже не заметил. Его уже накрыла чёрная волна беспамятства. Чёрная, как шёлковые ресницы, как глаза, похожие на беззвёздное небо.
***
Кони топтались во дворе. Старый нукер остановил взглядом:
– Останься. Стены города высоки. Ишгаузы ушли. Здесь ты в безопасности.
– Нет – посиневшими губами.
– Здесь ты в безопасности. – Повторил нукер. – Ты болен. Останься. Будет нелегко.
– Я выдержу. – Упрямо сжатые губы. – А если нет… вот. – Блестящая рукоять кинжала смотрела на старого нукера. – Ты избавишься от обузы.
– Но…
– Прокляну. – Непримиримо.
– Боги. – Покачал головой нукер. – Боги.
Подхватил за тонкую талию певуна, кинул в седло. Что будет? Задумчиво ехали между душными шершавыми стенами из тесноты проулка, отслоняясь от низко свисавших длинных пушистых листьев лоха, отягченного бронзовыми гроздьями мелких плодов.
Мальчишка совсем плох. Когда простыть успел? Ещё вчера всё было хорошо. Лихорадит его. Губы белые. Сколько он выдержит в седле?
И полетели парсанги степных дорог под копыта теке. Идти по чёрному следу было легко. Дикари не прятались. Не нужны были рысьи глаза, чтобы видеть змеиный след. Змея, ужалившая Ауминзу, обожралась. И теперь уползала восвояси. Оставляя чёрный след на жёлтой земле.
Лишь на пятый день носы путников уловили смрад дикого войска. Увидели дымы костров. Впереди замаячили островерхие кибитки.
Не раз и не два оборачивался в пути Фарруд. Певун был плох. Как ещё держался в седле? Тонкие полоски поводьев из сыромятной кожи резали слабые руки. Холодный пот тёк по побелевшему лицу. Глаза почти всё время были закрыты. Нукеры качали головами. Плохо дело. Надо останавливаться.
Сильные руки стянули с седла. Укутали в грубый шерстяной плащ. Пусть колко. Зато тепло. Руфин горел. Не хватало воздуха. Он задыхался от боли в груди. Не понимал, где он, что с ним.
Его уложили на попонах, не решаясь лишний раз коснуться хозяйского имущества. Сидели вокруг, перешёптываясь, устраиваясь на ночь. Готовые по утру сразу сесть в седло, едва мальчишка откроет глаза.
Тонкую воспаленную царапину на тыльной стороне ладони певуна заметил Рохбор – самый молодой из нукеров. Старый нукер схватился за голову – яд! Старый совсем стал, шакал! Совсем глаза потерял, шакал! Убить его надо, дурака старого, зачем жить ему? Где были его глаза? Почему не увидели. Не убережёт мальчишку, как посмотрит в глаза молодому хозяину?
Глаза бояться – руки делают. Царапину разрезать, выпустить дурную чёрную кровь. Прижечь. Белый сладкий корень ферулы* приложить. Туго перевязать. Завернуть певуна поплотнее – пусть потеет. Напоить молоком овечьим. Где взять молока? Где-где! Вон за горкой отары ишгаузов! Пошли, щенки-недопёски! Быстро побежали овец доить! Не женщины?! Зачем нукер, который не может сохранить собственность хозяина? Дармоеды, а не нукеры! Быстро!
Сложно разжать стиснутые зубы. Трудно влить тёплое молоко в пересохшее горло. Трудно держать корчащееся от боли тело. Сложно спрятать костерок, когда враг так близко. Но нужен чай. Нужно дать отвар из маковых головок, чтобы боль отпустила. Мак поможет уснуть измученному юнцу. Нужна горячая вода, чтобы смыть пену с посиневших губ. Выживет ли? Что сказать хозяину молодому и старому на пороге предвечного Неба?
***
Мечется душа. Ищет пресветлых Богов, чтобы припасть к белым ногам их. Все знают, что Боги живут в Небесах предвечных высоких. За седьмыми Небесами, над самым Раем, стоит их трон незыблемо. И грамотный знает. И неграмотный. И простой пахарь. И жрица Треждывеличайшей. А мятежная душа мечется. Как просить Богов, чтобы они склонили головы к молящему? Как рассказать, чтобы поняли Боги, что нет в мире подлунном никого, кто был бы нужен певуну? Никого, кроме мужчины с самыми шелковыми ресницами шириной в палец? Поймут ли?
Душно. Душно. Больно. Почему небо – чёрное? Почему луны нет? Кто звёзды яркие украл? Пить. Пить. Пить.
Два раза вставало солнце, и три раза выплывал на бархат неба месяц. А мальчик так и не открыл глаз. Нукеры сели на совет.
– Мы должны идти.
– Должны.
– Младший хозяин ждёт.
– Ждёт.
– Утром выйдем.
– Утром.
– Рохбор с певуном останется. Если не вернёмся, отвезёшь в Мароканду, в дом. Псом у ног ляжешь. На всю жизнь тенью станешь.
Мечется во тьме мальчик. Больно ему. Телу больно. А душа горит – в сто тысяч раз больнее чистой душе от невольного предательства.
Легкие ветры подхватили чистую душу, отнесли к порогу предвечного Неба. Услышали Боги плач израненной души певуна. Склонили мудрые головы перед болью красивого юноши. Прошлась белым лебяжьим крылом Пресветлая Мать по почерневшему от муки лицу. Живой водой промыла чистейшие сапфиры глаз. Опустил свою тяжёлую длань Отец Нерожденных, согрел в горсти слабое сердце. Омыли Братья Ветры лёгкие ноги, перевеяли русый шёлк волос. Слетел с плеча Триждывеличайшей хумаюн*, закапали хрустальные слёзы, закрылись раны мальчика. Само Небо опустилось к изголовью певуна. Легонько коснулось высокого чистого лба поцелуем. Вернуло жемчужную душу страдальца в бренное тело.
____________
Хусейне – виноград «дамские пальчики»
Чораз – очень крупный чёрный виноград (особо крупные виноградины иногда бывают размером со сливу)
Лайли – винный сорт винограда. Очень душистый.
Лёсс – плодородная земля. Пересохшая земля крошится в тончайшую тонкодисперсную пыль. На лёссовых землях растут самый лучший ячмень и самый вкусный рис.
Ферула – пустынный эфемероид. Немного похож на европейский борщевик. Молодые растения съдобны. Корень считается у степняков слабеньким противоядием (сама как-то лечилась от скорпионьего жала)
Хумаюн – птица счастья. В европейской традиции – феникс. У славян назывался гамаюном.
9.В плену.
Не раз за эти дни брался за кнут Байирр. Дни шли. А он всё так же стоял перед израненным, усталым и истерзанным человеком. Кебет молчал. Кусал губы, когда били. Когда жгли. Иногда пленник кричал от боли. Иногда давился кровью. Но всё чаще ник в руках палачей, так и не сказав ничего занятного.
– Где он? Куда ты спрятал его?
Короткий свист. Кнут вспарывает ссохшуюся кровавую корку на спине. Течёт алая кровь по смуглой коже. Молчит несчастный пленник. Не может кричать – сил нет. Даже на хрип уже сил не осталось. Вздрагивает всем телом от обжигающего объятья кнута из воловьей кожи. Молчит, глотает слёзы бессилия и унижения. Связанные запястья ободраны колючей верёвкой. Волосы слиплись от крови и пота.
– Где он?
Лишь вздёрнутые кверху руки не дают упасть пленнику.
– Где он?
Ноги не держат, и пленник повисает на руках. Незаживающие багровые полосы на запястьях наливаются алым.
– Где он?
Пленник опять никнет. Душа уплывает в предвечную Высь.
Байирр вяло махнул рукой, останавливая палача – что толку, если он забьёт брата насмерть? Не это нужно ему. Щенок нужен… Пусть отольют брата и привяжут снова.
Он расправлялся с огромной костью, как со злейшим врагом. Рвал зубами мясо, грыз хрящ. Где эта тварь?! Где юнец?! Куда брат мог спрятать его?!
О-о, найдёт он его! О-о, кровью умоется пёсий сын! Умирать будет долго! Молить о смерти будет! Языком сапоги вылизывать, волосами землю под ногами подметать! Кебету понравится подарок брата. Байирр подарит братцу столь любимые им синие гляделки щенка. На серебряной тарелочке поднесёт суюнчи! Кебет сто раз пожалеет, что поперёк встал, что брата на худородного променял!
Байирр не находил себе места. Метался по становищу, как волк по клетке. Кебет молчал. Один за другим возвращались посланные в оазисы лазутчики. И не было у них никаких новостей для предателя. Мальчишка как в воду канул. Пропал. Исчез. Байирр начал терять терпение.
Ещё дошёл слух, что святошу поймали на базаре Мароканды, когда он торговался со скупщиком за камни из трона Триждывеличайшей. Байирр зло ухмыльнулся – так по-дурацки попасться! Скот жадный и глупый!
Сыт Байирр – один четверть барана одолел. Ничего, справился. Хмелён Байирр – сладкое вино было в погребах Ауминзы. Целый бурдюк один усидел. И даже не очень пьян. Так, благодушен. Икает, позёвывает. Вот-вот вздремнёт, жар полдневный домаривает. И пока не доморил, надо лечь в юрту – там прохладнее. Проходя мимо пленника, нарочно пнул в почерневший бок.
Кебет дёрнулся от острой боли. Захлебнулся мучительным кашлем.
– Не расскажешь, где мальчишка… – ещё один тычок по сломанным рёбрам, – на ремни порежу. Утром я снова приду, и ты мне всё скажешь.
***
За двадцать пять лет своей жизни Кебет проехал много дорог, крепко сидя в седле. Много стран проехал. Городов и садов, деревень, степей, гор... Он был государственным человеком. Оком государевым. Во всём мог шад Ауминзы положиться на своего вельможу. Были битвы, укрепление городов, наказание непокорных, после которых без сил падал на ковры Кебет. Но были и древние хроники, и тишина покоев, и щебет садов, в которых душой отдыхал Кебет.
Мирный труд земледельца в его роду всегда считался почти забавой, недостойной настоящих людей. Человек должен быть воином. Ибо чем больше воинских доблестей в человеке, тем почтеннее человек. Человек должен быть торговцем. Ибо чем тяжелее сундуки в доме его, тем больших можно пятой придавить. И тем крепче власть всего рода.
Этому Кебета учил отец. Сын послушно, но не без колебаний усваивал поучения.
И порой случалось, что, позабыв отцовы наставления, долговязый, сутуловатый барич завистливо смотрел на крестьян, заскорузлой рукой понукавших ослов, бивших землю острыми мотыгами, блистающими на солнце, увязавших босыми ногами в вязкой, ласковой глине, когда направляют воду на свои поля.
Они жили, осененные спокойным Небом. Им некуда было спешить со своей зеленой, ими выхоленной земли. Их овевали ветры, полные запахами плодов, цветов, ботвы, сырой земли. Вокруг цвели деревья и гряды. Ворковали ручьи или голуби. Играла в радужных струях маринка*. И вся земля, далеко окрест покрытая рядами рисовых чек* и купами садов, вся она была украшена, пробуждена, оплодотворена ударами круглых, сверкающих мотыг. Словно в них скрывалась колдовская сила, какой не было ни в молниеносных ударах сабли, ни в могучих ударах копья, ни в магических боевых кличах, ни в пыльных страницах.
Часто стоял Кебет, разглядывая, удивляясь, как красив на вороном коне простой желтый сыромятный ремень сбруи. Как забавно выглядит осел, весь серый, как мышонок, но с черными ушами, длинными, как у зайца. Как статен старик, царственно шествующий с пастушеской палкой, хотя халат старика обтрепан до колен и на плече распоролся. Как шаловливы и смелы ребята, бегущие, играя, среди лошадей и арб.
И они любили! Крестьяне любили тех, к кому сердце тянулось! Кто светом очей был! Кого они сами себе выбрали! Они смели любить.
А он не смел. Он прятал свою любовь ото всех. Давно она поселилась в сердце. Много лет уже будоражили сон яркие синие глаза, тонкий стан и пушистые волосы.
Младший сын вырос, чуждаясь общих забав со сверстниками. Избегая разговоров с кем-либо из ровесников. Он ни с кем не делился ни мечтами, хотя мечтал о многом. Ни мыслями, хотя нередко задумывался над тем, что видел. Ни радостями, хотя случалось, что удачи радовали его. Тем суровее и молчаливее становился он всякий раз, чем сильнее было в нем желание поделиться своими чувствами. Постепенно раздумья и склонности его стали тайными. А тайные мечты и раздумья сильнее владеют человеком, чем чувства открытые и высказанные. Он учился молчать о том, что лежит на сердце. О том, кто снится ночами.
Цела, не растрачена, хоть и затаена была в нем, та душевная нежность, какую в младенческие годы мы все еще не умеем скрывать. Но дома нельзя было показать ту заботливую, любовную приязнь, с которой он хотел оберегать, опекать или одаривать ясноглазого мальчика. Лишь изредка прорывались наружу тайные чувства Кебета. Лишь тогда, когда он напевал, подыгрывая себе на лютне. Ему казалось, что не им сложенный напев и не им сочиненные слова надежно скрывают его затаенные чувства. Но у хищников не бывает такого горячего и чистого голоса. И если б его сердце было мертво, оно не трепетало бы от простых, печальных, ласковых слов, когда он вспоминал старинные песни.
Когда видел, как трепещут пепельные ресницы. Изгибаются мягкие губы. Лукавством светятся синие глаза. Когда бабочками порхают лёгкие пальчики над серебряными струнами…
***
Не один уже день, и не одну уже ночь умирал Кебет. Душа рвалась в пресветлую Высь. Рвалась из искалеченного тела. Но сильное сердце не сдавалось, билось неистово. Он призывал Чёрного Демона, молил освободить его душу. Чувствовал, что немного осталось до того, что не выдержит боли израненное тело, предаст своего хозяина, развяжется непослушный язык. Сильна любовь к ясноглазому. Крепка воля сильного и умного мужчины. Но и боль сильна. Слишком много её. Много-много боли. Медленно-медленно, но перемогала боль волю.
В степи говорят – если и падать, то с настоящего теке. Если любовь у тебя, то пусть она длится вечность. Кебет опускал ресницы – пусть не въяве, но увидеть певуна. Его руки маленькие. Его глаза синие. Его губы мягкие. Его стан тонкий и гибкий… Вот склонил голову на плечо певун, тяжёлая прядь потекла по щеке. Движеньем головы прогнал её за спину. Поднял голову – плеснули глаза-озёра. Всё чаще гасло сознание пленника. Всё громче звенел колокольчик смеха сладкоголосого.
Тело кричало от боли. Но душа была спокойной и умиротворённой. Всё верно он сделал, отослав от себя ласкового, приставив к нему мудрого нукера. Старый Фарруд псом станет у ног сладкого, не даст свершить безрассудного.
Боги да примут душу старого нукера. Они видели, что не сам раб ушёл, оставив воспитанника, последнюю волю хозяина младшего выполнил. Пусть Боги дадут ему долгую жизнь – чтобы долго ещё был жив и беззаботен певун. Фарруд разумен. Фарруд обо всём позаботится.
Верно поступил он, написав письмо царевичу Нехо. Пусть рука никогда не оскудеет его. Пусть Боги широко раскинут крылья свои над горделивым сыном Мароканды. Нехо сохранит райскую птичку. Он щедр, он красив, он справедлив и беззлобен. Руфину будет хорошо с ним. Нехо могучий воин. Не даст в обиду. Но Нехо и мягок с теми, кого он любит. Полюбит. Никогда не обидит.
А как же иначе? Разве можно видеть Руфина, слышать смех его, и не любить его? Разве можно поднять руку на это сокровище?
Ночь уже на исходе. Путаются мысли в голове. Пересохшие губы молят о глотке воды.
Чем ближе рассвет, тем страшнее пленнику. Выдержит ли он ещё один день? Как сохранить секрет? Как не закричать, выдавая мальчика? Как умереть, унося с собой в могилу тайну? Унося любовь свою с собой…
__________
Маринка – небольшая рыба, живущая в чистой проточной воде речек, ручьёв и арыков. Ближайший родственник форели.
Чеки – заливные поля. На них выращивают рис.
10.Побег
Под котлами загорались костры. Тысячи дымов вытягивались к небу. От края до края земли горели костры, застилая на сотню парсангов Небеса тяжелым жирным дымом. Людские голоса, звон наковален, конское ржанье, стук тесаков по бревнам, мычанье стад. Всё это чужое, незнаемое, наполняло окрестности. Удушливый смрад кочевья тянулся по ветру.
На невысоком холме лежали люди. Лежали, стараясь не дышать. Стараясь слиться с жёлтой землёй, с розовыми зарослями тамариска, чёрными в темноте. Терпеливо ждали они, оглаживая бока своих теке, когда погаснет последний костёр в становище ишгаузов.
С рассветом на дальних холмах замаячили силуэты всадников. Как всегда, перед рассветом небо потемнело. Звёзды погасли. Звезды хороши, когда ты преследуешь врага. Они никуда не годятся, когда тебя преследует враг. Когда тебе нужно подкрасться незаметно и скрытно. И всё же, небо казалось светлее земли. Среди высоких холмов сгустилась непроглядная темень. Не стало видно даже всадников и коней, стоявших рядом на самой дороге. Тихо шли они к спящему лагерю, ни звука не раздавалось в предрассветной мгле. Мягко ступали по сухой земле обмотанные тряпьём копыта коней. Трава, вложенная в ножны, не давала звякнуть и оружию. Тенями спустились к спящему лагерю нукеры.
Старый нукер окинул взглядом лагерь ишгаузов. Остановился, прислушался. Слушал долго. Торопливость тешит нечистого и гневит Богов. Ибо, как ни торопись, предназначенное тебе сбудется, а что не суждено, то не достанется.
Немало провез он свернутых в трубочку писем, писанных хозяином. Много раз прокрадывался мимо вражеских дозоров. Много писем, засунутых за голенище сапога, с тайными указами шада перевёз он по степи. Бывало, что и скакал, не щадя коней, пересаживаясь с запаленных на застоявшихся, не имея при себе ничего, но бормоча на память несколько непонятных слов, чтобы шепнуть их в конце пути на ухо нужному человеку. Всё бывало в долгой жизни нукера. Но никогда ещё он не прокрадывался в чужой стан. Никогда ещё так не колотилось сердце. Никогда ещё он не ждал так и не боялся так. Никогда ещё не сводило скулы от страха. От тоски и ужаса.
Движением руки старый Фарруд послал вперёд молодого нукера. Остальные сторожко заоглядывались. Скоро вернулся посланный на разведку. С белым от ужаса лицом. С трясущимися губами. Молча указал, куда идти надо.
Кебет висел на столбе на вздёрнутых руках. Вывернутые руки были в запёкшейся крови, текущей из истерзанных запястий. Голова бессильно поникла, слипшиеся волосы завесили серое лицо. Нукеры боялись прикоснуться к израненному телу господина. Не причинить бы лишней боли. Не потревожить ран. Не задеть обожжённых ног. Боги, вмешайтесь! Не дайте проснуться нечестивцам.
Осторожно разрезать верёвку на опухших руках. Осторожно опустить тяжёлое тело на плащ. Старый плащ, застиранный. Зато домотканина, зато мягкая – не потревожит ран случайной складкой, не оставит волокон в сочащемся лопнувшем ожоге. Пусть не уберегли. Но пусть дозволят добрые Боги помочь. Боги-Боги, смилуйтесь всемогущие! Дайте очиститься перед ликом великим Вашим.
Фарруд осторожно влил несколько капель воды в пересохший рот. Осторожно уронил из крохотного фиала белёсую мутную каплю опия* в приоткрытые губы. Подождал, жадно вглядываясь в почерневшее лицо. Сжал зубы, увидев затрепетавшие ресницы. Дал ещё воды. Дождался невнятного стона.
Мелькают серые силуэты в предрассветной мгле. По разгорячённым лицам течёт пот. Страшно. Не за себя – нукер смерти не боится, ибо не принадлежит ему его жизнь. Его жизнь в руце хозяина. Всё, что есть у нукера – душа его. А захочет ли Небо принять того, от кого хозяин отвернулся? Кто жизнь хозяйскую не уберёг?
Взлетел в седло Сюник, – огромной мощи нукер, – принял на руки безвольное тяжёлое тело. Поморщился, почувствовав, как по рукам, побежало тёплое, липкое. Скривился – из раны в боку шёл дурной запах. Осторожно пристроил на плече тяжёлую умную голову. Кивнул, успокаивая старого Фарруда. Он справится со скорбной ношей. Можно уходить.
Старик махнул рукой. Медленно, крадучись уходили из становища ишгаузов. Перехватывало от страха дыхание. Немели руки. Быстрей-быстрей-быстрей.
Вдруг тропу пересекла собака. О, Боги! Громадный волкодав, мохнатый и жуткий в неровном свете раннего утра. Подобралась, оскалилась. Придержали лошадей, остановились. Фарруд спрыгнул с седла, пошёл прямо на животное, глухо заворчал по пёсьи. Оттесняя с дороги, – хвала Пресветлым, умеет с собаками обращаться. И собака, не тявкнув, опустила лобастую голову, пошевелила мохнатыми комочками обрезанных ушей, посторонилась с тропы. Вновь тронули пятками бока теке.
За холмом поспрыгивали с лошадей нукеры, сорвали с тонких ног лошадиных тряпки. Застучали копыта по пухляковой* тропе. Быстрее. Рохбор уже заждался их.
Да и мальчик… как-то он там?.. Жив ли?
***
Душный день ещё только занимался. Но уже стало ясно, что не довезут верные нукеры младшего хозяина до Мароканды. Умирает Кебет. Тяжело умирает. Слишком лихо ему пришлось. Слишком поздно помощь пришла. Что делать теперь? Остановиться в степи нельзя – Баийрр наверняка уже знает о пропаже пленника. Наверняка уже взлетели в седла желтолицые узкоглазые пришельцы. Сколько у них есть ещё времени? Что делать? Остановиться нельзя. И спрятать раненных тоже негде. Вся надежда на лошадей. На их выносливость.
Фарруд понукал коня, но не дорогу он видел перед собой. Только гневно сведенные к переносице лохматые брови. Старший хозяин гневался. Не уберег его сына. Младшего, любимого. Не сумел помочь вовремя. Не был рядом, когда нужны были помощь и защита. Не ослушался глупого приказа младшего хозяина. На что годен нукер, не сумевший уберечь? Чего стоит душа его? Грех повиснет тяжким камнем на ногах. Не даст душе подняться в Небеса Предвечные. Отвернёт пресветлый лик свой Триждывеличайшая. Опрокинет гнилую душонку в смрадную яму Чёрный Демон. Гореть ему вечность в ней!
Но ещё страшнее гнев в глазах младшего хозяина. Он доверил самое сокровенное. Доверил душу свою. Сердце своё. Доверил мальчика. Нужно быть слепцом, чтобы не видеть, как мягчеет взгляд хозяина, обращённый на светлую голову певуна. Как тихой радостью дышит лицо вельможи, когда тонкие пальчики бегут по лунным дорожкам струн. Сколько ласки плещется в пасмурных обычно глазах Кебета. Как любит господин этого мальчика. Красивого. Ясноглазого.
Чистого.
Уж он-то видел в жизни продажных! Уж он-то видел…
Певун чист, как роса у престола Предвечных.
Серое лицо у певуна. Откроет ли ещё глаза? Споёт ли? Сердце сжалось от жалости.
Жалость всегда казалась ему слабостью. Когда случалось, спутники жаловались на зной, на стужу, на жажду, он один молчал. Мог не пить, если остановка отдаляла победу. Мог спать на голой земле, если для удобного ночлега пришлось бы сворачивать с прямой дороги. Мог и вовсе не спать, если надлежало опередить противника. Мог ехать, не сходя с седла. Когда даже тело деревенело от усталости, ехать! Он дрался с врагом остервенело. Он грудью закрывал хозяина. Он преследовал врага, пока тот не валился на землю бездыханным. Никто не уходил от расплаты. Всегда так было – не было страха, не было боли, не было усталости.
Ни разу за всю жизнь не возникло у нукера желания потакать своим слабостям. Ехали за ним молодые нукеры, каждый на своем месте – спутники, охрана, воины. Верные слуги господина своего. Он не потерпел бы, если б кто-нибудь замешкался. Если б чья-нибудь подпруга оказалась слабой. Если б чьи-нибудь ножны не пристегнулись к ремню. Он давно всех приучил жить так, чтоб каждую минуту мог повести их, куда б ему ни приказал хозяин. Зато никто из молодых нукеров, взятых им под свою руку, не смел жаловаться, когда в нем не было пощады себе самому.
Фарруду и в голову не приходило каяться, просить у Пресветлых пощады и милости. Он нукер – такое дело, плошать нельзя. Страшно было: десятки раз кидался Фарруд в битвы, кидался на смерть, уцелевал. Тут не уцелеть. Сейчас на его ладони лежат две искорки. Две души. Но не уберёжет он две искорки, едва теплящиеся в измученных телах. И в свой срок встанет пред светлейшими ликами. Ожидая последнего, горького слова Триждывеличайшей. Что скажет она ему? О чём он сможет поведать ей? Как оправдается? Да и можно ли будет оправдаться ему?