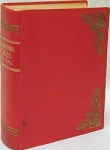Текст книги "Полынь (СИ)"
Автор книги: Tigrapolosataya
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Еще было счастьем то, что жёны не приняли мальчика, как соперника. Как подругу приняли. Или младшего братишку. Не расспрашивали. Помогали. Выхаживали.
– Ничего, притерпится, – утешала старшая.
– Боги милостивы, – вздыхала средняя.
– Они не оставят тебя, – поддакивала младшая.
По утрам они помогали дойти до бассейна с тёплой водой и осторожно обмывали израненное тело. Мазали мазями исполосованные кнутом спину и бёдра. Старшая, Асия, очень ловко умела вправлять вывихнутые пальчики. Средняя таскала с женской половины в широких рукавах конфеты и фрукты для Руфина. Младшая, Эйя, осторожно меняла повязки. И говорили-говорили-говорили… рассказывали обо всём на свете.
Далеко заполночь они помогали дойти до его коморки, укладывали, укрывали. Эйя приносила с кухни запотевший кувшин с холодным соком, сладкие египетские фиги.
– Это правда, что ты пел раньше?
– Правда, – шевелились разбитые губы.
Как-то раз Эйя принесла лютню, потихоньку стащив у святоши ключ от кладовой.
– Спой нам. – Попросили Руфина женщины.
– Я не могу. – Из синих глаз покатились слёзы.
– Почему, милый? – Асия помогла опереться на подушки. Напоила холодным соком.
– У меня голос иссяк… вдали от дома…
– Теперь, – вздыхают женщины, – твой дом тут навсегда.
Гасли светильники. В окна заглядывало ночное небо со звёздами. Малая толика его. Женщины эти выросли под этими звёздами. Им не понять дикой тоски Руфина…
***
Уже и лето на исходе. Побелевшее, выгоревшее под беспощадным солнцем небо снова прозрачно заголубело. Рассветный ветер приносил в открытые окна терпкие запахи степи. Осенью степь тоже красива. Не как весной, но всё же…
Об отце не было никаких известий. Тревога за старика не оставляла ни на один день. Как справился он с несчастьем? Знает ли он где сын? Знает ли, что творит безжалостный Байирр с его сыном? Как несёт эту стыдную ношу?
Прильнуть бы израненным сердцем к целительной душе отца. Передать бы привет. Получить бы в ответ благословение…
Вернулся из далёкого посольства младший брат хозяина. Жёны научили его подойти к младшему хозяину. Он добрее старшего брата. Он не откажет в просьбе. Может быть.
– Любезный младший братец… Простите ничтожного… – Руфин опустил глаза долу, как учил его святоша. – Пусть разрешат мне взять коня и навестить батюшку. Он слаб и стар. И теперь уж верно совсем расстроился здоровьем. Простите, ничтожного, что досаждаю. – Он не выдержал и опустился на колени: – Умоляю…
Сильные пальцы тронули его за подбородок. Руфин вскинул глаза. И встретил сострадательный взгляд Кебета. Больше ни у кого в волчьем роду не было такого взгляда. Но он был младшим братом хозяина. И ему это прощалось. Маменькина гордость и любимец.
Он учился у известнейших богословов. И решил посвятить себя Богам. Слишком ранила действительность нежную душу. В детстве часто блестели слёзы в пушистых ресницах. Прекрасных пушистых ресницах, как у отца в молодости.
У Байирра такие же, но как же страшно глядеть в тёмные волчьи прищуренные глаза! Какие одинаковые ресницы у братьев. И какие разные Боги у них же!
Кебет ласково провёл пальцем по свежему шраму на верхней губе Руфина:
– Какие у тебя глаза! Словно небо весной!
И пошёл дальше. Руфин разочарованно сгорбился. Никто не поможет…
Кебет обернулся:
– Я дозволяю тебе навестить отца. Святое дело – беспокоиться о стариках. Вот только коня тебе не дадут – наложники должны ездить в паланкинах. На коня может сесть только свободный человек.
– Я свободен… – шепчут сухие губы.
Кебет услышал, сухо рассмеялся:
– Глупенький. Не вздумай сказать этого при моём старшем брате или его духовнике. – Он с любопытством заглянул в синие глаза юноши. – Ты и в правду очень красив. Даже моему брату не удалось за столько времени растоптать столь красивый цветок…
Но через час он склонит перед мальчиком голову в белоснежном тюрбане*:
– Прости.
Но Руфин уже и сам всё знает. Святоше взбрело в голову, что семья покровителя давно не выезжала в Верхние Храмы на богомолье.
– Прости.
Горло сдавило, в глазах померк свет, побелевшие губы шевельнулись:
– Что вы… Спасибо, что выслушали… – Боль стала оглушающей. – Помолитесь, если можно, за моего отца…
– Помолюсь. – В кротких глазах метнулась тоска. – Непременно.
Упавшего в обморок мальчика Кебет сам отнёс на руках в свою спальню. Отодвинул плечом сунувшегося было святошу. Пусть отдохнёт маленький мученик. С братом он сам объясниться.
***
На богомолье собрались лишь весной. Несколько дней перед этим была оживлённая суета. В будничную жизнь богатого дома, замкнутую и бедную событиями, вошло лихорадочное оживление. На кухне было не протолкнуться – там пекли, жарили, варили. На женской половине повсюду были разбросаны лоскутки и целые отрезы бархата и парчи, нежнейшего шёлка и толстой шерсти. К хозяину приходили ювелиры и ростовщики. Лишь Руфин был заперт в крохотной комнатушке на хозяйской половине.
Появилась в доме и старшая сестра Байирра Таша. Став в свои неполные двадцать пять вдовой, она поистине была гадюкой по крови. Если жён брата она просто презирала, то Руфина – люто возненавидела, лишь мельком увидев его однажды.
А, застукав как-то Асию в комнатке у наложника, подняла крик на весь дом.
– Кормить замарашку с фамильного серебра! Нищего уродца обряжать в бархат!
Рука у Таши была тяжёлой. Пальцы, унизанные перстнями, оставляли на худых щёках юноши синяки и ссадины. Асия кинулась за Кебетом.
Кебет еле утихомирил разъярившуюся женщину. С трудом ему удалось увести её. А потом он вернулся и бережно взял на руки плачущего взахлёб юношу.
– Чтоб тебе пусто было! – Прошипел яростно всегда кроткий Кебет, вытирая слёзы с исхлёстанных щёк наложника.
– Нет-нет! – Ужаснулся Руфин.
Как можно желать другому того, чего и врагу-то не пожелаешь?
Кебет часто пропадал из дома – всё же служба при дворе шада требовала много времени. Отнимала силы. Но как бы он не уставал, у него всегда находилось ласковое слово для певуна.
Руфин молча сносил издевательства Таши и побои Байирра, бесконечную нудятину святоши. Больше, меньше – какая уже теперь разница?
Иногда он плакал в подушку:
– За что меня – так?!
– А разве ты не догадываешься? – Спросила Асия. – Твоя красота им нож острый.
– Посмотри, как перекашивает змеюку при твоём появлении. – Эйя передразнила Ташу, скривив совсем уж несимпатичную физию. – Уж она и цацками обвешана и в шёлка завёрнута… да только где ж ей переспорить синеву твоих глаз, Руфин.
Эстер, средняя жена Байирра, скривившись, прошествовала мимо них, пародируя то, что сама Таша считала царственной походкой. Счастливица, она во всём умела видеть смешное. И сама насмеётся и других насмешит.
В последний день, перед самым отъездом, в комнатку Руфина вошла Таша. И швырнула в лицо мальчика ком одежды. Женской.
Руфин побелел:
– Я не одену.
Волчьим, байирровым взглядом впилась в него молодая вдова. Вихрем вылетела из комнатки. А потом вернулась. Не одна.
Байирр совсем обезумел от злобы. Сбил с ног наложника, посмевшего дерзить его сестре, пытавшегося закрыть руками лицо. Истоптал, иссёк кнутом вздумавшего перечить невольника. Сломал ребра, перебил руку, разбил о мраморный пол голову.
Исполосовал жён, пытавшихся вступиться. Поднял руку на брата… Верным нукерам едва удалось оттащить его от обеспамятевшего мальчика, корчившегося в луже крови и рвоты.
_____________________
Тюрбан – головной убор из широкой полосы мягкой ткани, особым образом обёрнутой вокруг головы. Концы часто крепились драгоценными брошами и эгретами.
4. Куда делись Боги?
Пьяный Байирр с плетью, зажатой в кулак, ввалился на женскую половину.
– Т-т-тыы! – неопределённо ткнул плетью. – Т-т-тыыыыыы…
Руфин понял, что хозяин обращается к нему. С того «богомолья» прошёл год, но он так и не отошёл, закаменел в своей боли и тоске. Он не испугался. Не испытал прежнего ужаса. Уже было всё равно. Он перестал дрожать за свою собственную жизнь. Жизнь стала совсем не мила. Даже страшный грех перед Богами уже не останавливал отчаявшегося юношу. Его уже два раза вынимали из петли. По приказу Кебета с него не спускали ни днем, ни ночью глаз. И если жены были чем-то заняты, то Кебет сам держал подле себя строптивца:
– Прочти мне этот отрывок. Переведи другой.
Байирр больше не брал его на своё ложе. Даже позволил обращаться с просьбами. Но у Руфина не было просьб. Как не осталось и слёз и страха.
Глухая тоска съела всё без остатка.
Кебет хвалил умного юношу. Признавал за ним недюжинный талант к языкам. Но похвальбы ни обрадовали, ни огорчили. Как всё в этой жизни.
Совершенно не нужной ему…
Целый год не оставил по себе никаких воспоминаний. Несколько месяцев непрерывной боли… целитель не слишком старался облегчить страдания юного наложника. Потом каморка на хозяйской половине. Комнаты Кебета. Когда молодой вельможа ночевал дома, то Руфину случалось просыпаться на широкой хан-тахте* младшего хозяина, заботливо укутанным в тёплое волчье одеяло. На столике рядом с кроватью его всегда ждал кувшин горячего вина на травах. Маленькие чашечки с мёдом и творогом.
Только небо менялось. То летним жаром обдаст. То серым дождём сеет. То снежной крупой колотится в ставни.
Как-то раз, в отсутствие Кебета, наведался Байирр. Ярился, терзая бесчувственное тело, бесился, пытаясь вырвать с разбитых губ стон. Ничего не было – ни прежней боли. Ни надломленности…
– Т-т-тыыы! Эй, ты! Ты-ты! Твой отец сдох! Ик… скончался старый…
Жёны заплакали, заголосили, как то и было положено.
– А… пересе…лился, ик! – вспомнила пьяная образина ритуальную форму оповещения о смерти.
***
Дюжие носильщики несут богатый паланкин. Вокруг него гарцуют на конях нукеры. Паланкин отделан благородным сандалом, полог дорогого златошвейного бархата. Внутри мягкий ковёр, атласные подушки.
Только ведь Руфину оно всё безразлично. За него всё решили. Как и с кем он поедет. Кому и что подарит. Что скажет. Кому поклонится. Всё скажут – и что есть и когда спать.
– Скоро будет уже ваша степь. – Склонился в поясном поклоне молодой нукер.
– Хорошо. – Безжизненно.
– А вот ваш колодец. Хотите напиться? – Всё не унимается молодой нукер.
Он очень хочет растормошить несчастного невольника. Что с того, что тот увешан золотом и дорогими каменьями? Он всё равно пленник. И нет ему счастья в богатом доме.
Шевельнулся полог:
– Нет, не хочу…
Не было радости возвращения. Не было горя потери…
Разумом Руфин понимал – у него огромное горе. Ушёл единственный человек, которого он любил. Который его любил. Умер до времени, от разлуки с ним. Разумом он понимал, как горько было отцу в его последний час. Успел ли он сказать последнюю молитву?
А сердце молчало. Да и не стало его. Так… кусок камня. Даже жёны упрекали его – слезинки не проронил. Да видно, не осталось слёз.
Он исполнит свой долг. Помолится за безгрешную душу, чтобы не бродила неприкаянной по свету. Выпьет терпкого вина за помин души.
А потом сжуёт горький цвет белены.
И Боги всеблагие поселят их души вместе где-нибудь – Гёзу-певуна, его смешливую Ани, и их несчастного сына – Руфина… И тогда его сердце оттает. В другой уже жизни.
Руфин сжимал в кулаке белену, сорванную у кладбища, куда не посмели сунуться нукеры хозяина. Стоял у могилы отца. Аккуратной, с надгробием. «Тётушка Сома», подумалось ему. Он шагнул к поминальному угощению, разложенному тут же, у надгробия. «Тётушка Сома»…
Только подумалось, а тётушка уже явилась перед ним. Издаля поприветствовала, ровно чужого. Поведала, что до последнего часа была со старым Гёзой. Рассказала, как он ненадолго пришёл в себя перед самой кончиной. Повёл незрячими глазами.
И вдруг спросил:
– Сома, а куда делись Боги?
– Но может быть, он бредил. Разве скажешь такое в здравой памяти?
Они стояли. И старая Сома не верила, что вот этот блестящий красавец – Руфин. Сколько же по нему плакано! А он ничуть не рад встрече… «Кто бы мог подумать, что человек в богатстве может так измениться?».
Сома ушла, оставив и нежданного гостя, и поминальную трапезу, которой этот гость побрезговал. До смерти б ей не видеть этого равнодушия. Вперил взгляд не в землю, где отец родной лежит, а в поднебесье, где звенит золотой жаворонок.
***
Высоко-высоко в весенней сини пел жаворонок. Маленькая птичка, оглушающая громадную степь. Вестник жизни и весны. Будь счастлива, вещая птица! А Кебет укачивал в сильных руках хрупкого юношу.
Жизнь пахла сладким ветром степи и горькой полынью. Солнечной степью и беспредельным небом. Всем тем, по чему так стосковалась душа певуна. А потом, в горьком мареве боли, перестало волновать. По истончившемуся лицу текли слёзы, солёный вкус которых был тоже навсегда забыт…
Кебет был счастлив, что успел, разжал кулак, в котором были стиснуты привялые цвета белены. Руфин всё плакал и плакал. А младший хозяин бережно нёс драгоценную ношу между надгробий над склепами.
Вельможа осторожно уложил Руфина на потёртый ковёр. Родной дом. Пусть мальчик ещё немного побудет в нём.
Тётушка Сома заметила, как заострились красивые черты сладкоголосого. Видно, несладко живётся в вельможном доме ясноглазому.
Вот и покойник тоже всё сокрушался, что попал его сын к нехорошему человеку в дом. О Байирре дурная слава шла. Что неверен он своему шаду, что промышляет разбоем, что красивые мальчики, попадавшие в его дом, очень быстро гибли, не выдержав насилия.
– Но, может, он в семье благочестив?
– Не дайте, добрые Боги – Вырвалось у младшего хозяина.
– Выходит, прав был покойник, плохо живётся его сыну?
– Плохо…
Старая Сома покосилась на уснувшего юношу в богатых украшениях:
– Но богато?
– Кровью он платит за это богатство…
– Оставь его у меня. Дом есть, степь, я есть. Я помогу ему.
– Я не могу. Байирр убьёт тебя, вырежет всё селение… забьёт мальчика насмерть.
Конечно, не стоило бы говорить такого при нукерах, и надо бы попросить, чтобы не докладывали братцу о разговоре со старухой, заплатить за молчание.
Но гордость взяла верх.
***
Вокруг стояли нукеры. Соглядатаи и рабы своего хозяина. Кебет осторожно уложил совсем истончившееся тело на мягкий ковёр, осторожно приподнял русую голову, подложил подушки. Выдернул из роскошных волос золотые шпильки, стянул с натёртых до крови щиколоток и запястий тяжёлые браслеты, вынул из ушей тяжеленные серьги, снял с шеи драгоценные ожерелья. Расчесал гребнем мягкие волосы, напоил горячим вином, укрыл одеялом – к ночи сильно холодает.
Руфин пролежал всю дорогу до дома Байирра молча. Остановившимся взглядом пугая носильщиков и нукеров. Отказываясь от еды и воды.
Байирру доложат о разговоре. И хлопотах младшего хозяина. И он дождётся вызова младшего брата ко двору шада. А потом будет бить. Ногами. По животу. В пах. В грудь.
За неверность – ему лично и пресветлым Богам.
Руфин уже будет пускать кровавые пузыри, когда в его каморку заглянет вернувшийся из дворца шада Кебет.
Неизвестно откуда в руках всегда кроткого младшего братца возьмется кнут, но визг Таши, не раз и не два вытянутой этим кнутом, услышат все в доме, как и проклятья в адрес святоши, не вовремя кинувшемуся на помощь благодетельнице. Только братца Байирра с его нукерами не окажется в доме…
И хорошо, что не окажется… Боги не прощают братоубийства.
– Братец Кебет от злости совсем ума решился. – Будут шептаться слуги по тёмным углам.
Тяжёлый бархат парадного жэгде* станет мокрым от крови, когда Кебет возьмёт на руки юного наложника и понесёт его в свою спальню.
Лучшие лекари не смогут помочь, и будут пожимать плечами и качать головой – зачем спасать того, кто этого не хочет? Не лучше ли сделать милость и позволить уйти к предкам в предвечное Небо измученной душе? Ведь никто не ждёт, что раздавленные тяжёлым сапогом путника почерневшие лепестки тюльпана снова станут шёлковыми…
Кебет будет просиживать на краю широкой тахты с резным оголовьем ночи напролёт. Чутко вслушиваясь во влажные хрипы. Боясь, что яркий огонёк навсегда погас в синих глазах.
Он отринет гордость и плюнет на честь своего древнего рода. Забудет слова мудрого предка о том, что ссору братьев могут решить только клинки и Боги. Забудет о том, что дети рода Таллах никогда ни перед кем не ломали шапок. Что их древний род идёт от самой Богини Триждывеличайшей.
Он упадёт на колени перед шадом, умоляя вырвать юного певуна из рук изувера, своего брата.
Пусть Небеса не примут его!
Но пусть сладкоголосый хоть последний свой вздох сделает свободным человеком.
Шад был умным человеком и по судороге, кривившей полные губы своего придворного хрониста и философа, понял, как крепко неравнодушен этот человек к невольнику. Он нахмурился – Байирр совсем совесть потерял, если даже его брат ропщет. Казалось, что ничто не сможет переполнить чашу терпения младшего брата. Но видно, что всему есть предел. И пообещал помощь в щекотливом деле.
***
– Я слышал, что ты прячешь в своем доме прекрасный цветок. – Шад задумчиво разглядывал шахматную доску.
У его короля было совсем безнадёжное положение.
– Разве посмеет ничтожный спрятать что-то от ясных глаз своего шада? – Байирр сломался в глубоком поясном поклоне.
– А ты – посмел! – Шад оторвал тяжёлый взгляд от чёрной фигурки.
– Нет! что Вы, господин!
– Посмел! И не перечь мне! А я желаю видеть мальчишку! И слушать его песни!
– Но мальчишка болен…
– Но?! – Выгнулась дугой соболья бровь. – Ничтожный червь посмел сказать своему шаду «но»?! Или я ослышался?
Байирр испуганно попятился:
– Что Вы, мой господин…
Шад тяжело глянул в налитые кровью глаза конеторговца, прищёлкнул пальцами:
– Я желаю видеть его! Завтра!
– Если такова воля пресветлого шада… – Байирр волчьим взглядом одарил брата.
– Да, такова моя воля. – Шад уже утратил интерес к посетителю. Отвернулся в сторону. – Ходи!
Как же всё-таки сходить? Как спасти короля и партию?
Вскинул тёмные глаза на оппонента:
– Доволен?
Кебет молча кивнул и, прикрываясь широким рукавом, незаметно сдвинул свою ладью в сторону, давая вывести чёрного короля из-под удара. Зачем дразнить повелителя?
Шады всё-таки не шибко любят проигрывать…
Байирра трясло от злобы – он не выпустит щенка из дому, забьёт до смерти, искалечит, но не выпустит! Кебет ещё пожалеет, что перешёл дорогу старшему брату!
У самых ворот дворца его нагнал царедворец и передал приказ шада. На шёлковой бумаге было начертано высочайшее соизволение:
Мы желаем наслаждаться прекрасным цветком.
Пусть завтра его доставят во дворец.
Что ж… завтра мальчишка пусть споёт для повелителя, а сейчас…
Чёрным вихрем ворвался Байирр на женскую половину. Он рассчитается с этими сучками! Со всеми тремя! Мстя за насмешку в глазах младшего брата, немилость шада, за то, что баловали щенка в его отсутствие!
Мстя за поругание авторитета.
______________
Хан-тахта – богато украшенная резьбой (иногда и вставками из полудрагоценных камней) очень широкая кровать на низеньких фигурных ножках.
Жэгде – роскошная придворная одежда, распространенная у туркменов и каракалпаков. Как правило, была украшена тончайшими вышивками и камнями, широченные рукава такой одежды были часто украшены золотыми кистями
5. Жаворонок
Опять паланкин. Руфин с трудом открыл глаза. Да, паланкин – над головой колышется тончайший лазоревый шёлк. Всё равно… пушистые ресницы опустились.
О Боги трижды превеликие! что же это твориться в подлунном мире?!
Творилось что-то непостижимое – за грязной уличной шлюхой, за нищим потаскушкой из дворца прислали паланкин самого шада! Голосил святоша, призывая на голову Руфина, все мыслимые кары всех Богов. Ему вторила Таша, засидевшаяся во вдовах. Все женихи знали про огромное приданое, но все так же знали и про паршивый нрав вдовы и про её волчий взгляд. И от того, – судили жёны, – превратившуюся в совершенную гадюку. Когда она, достойнейшая из женщин! пришла с нижайшей просьбой во дворец, то её, вдову тысячника, не подпустили к трону пресветлого шада! А эта грязь будет петь в царских покоях?! Лицезреть пресветлый лик всемилостивейшего?! Мыслимое ли дело?!
О Боги! где ваши глаза!?
Самого Байирра с его нукерами опять не было видно.
Жёнам же было приказано сидеть у себя. Носа во двор не казать, убьют. А им так хотелось попрощаться с синеглазым мальчиком. И каждая из них трижды крепко дунула за ворот своего расшитого платья – пусть Боги отведут беду от красивого мальчика, пусть опустят они свои белоснежные крылья над русой головой. Три женщины, плача, обнялись во дворике, где столько пережито-выстрадано, где на мраморных плитах двора, казалось, навсегда осталась кровь несчастного юноши.
***
Крепостная стена вокруг дворца высока. Это вам не дувал*, сплетённый из камыша и обмазанный глиной. Обожженный кирпич уложен так плотно, что между звонкими желтыми кубиками не просунешь и кончик ножа. Дюжие носильщики с блестящими от пота спинами внесли роскошный паланкин в тенистый дворик. Осторожно опустили его на землю. Тяжело ухнули створки окованных блестящей медью ворот. Руфин вздрогнул, но так и не открыл глаза. Всё равно…
Широкоплечие носильщики осторожно вытянули из паланкина ковёр, покрепче ухватились за углы и понесли драгоценную ношу в глубину дворца. Двое носильщиков видели то, давнее теперь, состязание певцов на площади, слышали звонкий голос синеглазого певуна. Шёпотом пересказывали другим, какой чести удостоил их шад. И все шестеро, не сговариваясь, шагали в ногу, стараясь не сбиться, крепко держа углы ковра, укачивая измученного невольника. Им было жаль новую игрушку шада.
Отведённые певуну покои утопали в роскоши. В большой комнате были лепные потолки с позолотой. Расписные ниши с дорогой посудой. Мраморные полы и дорогие тончайшие ковры. На резных столиках вино и фрукты, открытые кувшинчики с благовонными маслами. Старик, приставленный к певуну, суетился, раскладывая атласные подушки, позванивая ключами на поясе. Со знанием говорил:
– Теперь уже таких ковров не ткут. В прежние времена разводили особых овец. Тонкорунных. Пастухи таких укрывали своей одеждой от дождя. Через броды носили на руках. Такую нить мастерица не один день пряла. Посмотри-ка, нить тоньше паутинки. На такой ковёр, пожалуй, жизнь двух-трёх мастериц уходила… Да-аа-ааа…
Только неба не было видно из этих комнат… Руфин опустил ресницы. Всхлипнул – одна тюрьма сменилась другой.
***
Чуткие пальцы лекаря несли облегчение, под ними боль отступала, и юноша засыпал под мерный шелест крохотного фонтанчика. Он замкнулся, отказывался от еды. Каменно замолчал. Даже стоны теперь не срывались с подживающих губ.
Дни пролетали, не задевая русой головы невольника. Почти всё время он спал. Иногда его будил лекарь, иногда красивые служанки в прозрачных шальварах, заставляющие выпить исходящего паром хаша*, поесть фруктов. Выпить горячего вина. Иногда приходил священник и творил молитвы за скорейшее выздоровление цветка столь прелестного и пленительного, что рядом с юношей маки краснеют от стыда за своё несовершенство.
По вечерам заходил усталый Кебет, ласково гладил по исхудавшему лицу, целовал прозрачные руки, уговаривал поесть. Слуги удивлённо качали головами – надо же, такой большой и богатый человек и так беспокоится о худородном мальчишке, столько терпения в нём… И как не благодарен щенок. Не улыбнётся. Не вздохнёт. Даже головы не повернёт в сторону радетеля.
Руфин не знал, что посмотреть на него приходил и сам шад. Долго стоял над спящим. А потом сказал:
– Детей рода Тад всегда видно. Ты не обманул меня, Кебет, мальчик действительно очень красив. Посмотрим, так ли он сладкоголос, как о нём рассказывают люди.
И распорядился выполнять любое пожелание, любой каприз прекрасного невольника.
Вот только не было у Руфина пожеланий. И капризов тоже не было. Пустым оставался его взгляд.
Дни летели. Лето сменилось осенью, осень – зимою. Каждое утро ученик лекаря подолгу растирал плохо гнущиеся опухшие искалеченные пальцы. Руфин начал вставать, осторожно ходил по своей золочёной клетке, подолгу вглядывался в хрустальные струи фонтанчика.
В один из дней Кебет принёс лютню. Дорогую, с серебряными струнами и перламутровыми цветами на деке, с тонкой резьбой на колках из слоновой кости. Осторожно вложил в неживые руки, тихонько провёл пальцем по струнам. Руфин вздрогнул, вскинул испуганные глаза. Молодой вельможа тепло улыбнулся.
В разорённом доме отца осталось единственное сокровище – настоящая лидийская лютня, вырезанная из столетней урючины, украшенная замысловатой резьбой на грифе. Когда-то он учился играть на ней в доме Саббаха. Где-то она теперь? Чьи песни сопровождает чудесный перезвон?
Лютня отозвалась на прикосновение неловких пальцев чистым серебром. Зазвенела колокольчиком. Заплакала вдовушкой. Всхлипнула сиротой. Плеснула чистым ручейком. Залилась жаворонком. Руфин с удивлением вслушивался в привычные когда-то звуки. Долго бездумно перебирал серебряные струны. Вглядывался в себя.
Всё так же молча склонил голову, благодаря за щедрый подарок.
***
На излёте морозной зимы Кебет принёс клетку с жаворонком. Серенький нахохлившийся комочек перьев ничем не походил на золотого певуна вольной степи. Руфин захотел было выпустить птаху на волю, но в его покоях не было окон. С удивлением всматривался тоненький юноша в крошечного певуна. На раскрытой ладони протягивал просяные зёрна. Птаха лишь отворачивалась, скучнея.
Когда вечером в покои невольника заглянул Кебет, Руфин несмело тронул его за рукав, повёл глазами на клетку с птахой.
Молодой вельможа подавил досаду, вздохнул:
– Что, сладкий?
Юноша потянул за бархатный рукав. Выразительно глянул.
Кебет усмехнулся:
– Руфин, я не понимаю тебя. Скажи, чего ты хочешь?
Непокорный невольник печально опустил глаза.
Кебет нахмурился, приподнял за подбородок, заглянул в яркую синеву:
– Руфин, прошу тебя… повелитель начал терять терпение.
Руфин виновато поник головой, отвернулся.
Мужчина вздохнул:
– Поговори со мной… я не прошу многого.
Руфин вскинул мокрые глаза.
Кебет покачал головой, притянул к себе на колени, ласково задышал в ушко:
– Хочешь, завтра мы выпустим птаху?
Тихим ветерком прошелестело в ответ:
– Хочу…
Широкой улыбкой согрел невольника Кебет, подхватил на руки, закружил по залу:
– Умничка сладкоголосая! – Чмокнул в кончик носа испуганную драгоценность.
И услышал в ответ тихий смех колокольчиком.
Евнух неодобрительно качал головой, глядя на такое непотребство, но не забывал кланяться долу – шад будет доволен, когда узнает, что золотой невольник заговорил. Да за такую новость можно, пожалуй, и суюнчи* попросить!
Вельможа кормил с рук робко улыбающегося невольника. И Руфин ловил губами липкие от сладкого сока сильные пальцы, пил сладкое хмельное вино из одной с господином чаши. И жался к сильному теплому телу, безмолвно прося защиты.
А всесильному шаду, стоящему у потайного окошка, вдруг остро захотелось оказаться на месте младшего из рода Таллах. Чтобы на него смотрели с таким восторгом, чтобы ему лучись чистейшие сапфиры глаз. Чтобы на его плечо плеснула русая шёлковая волна. Счастлив будет тот, на кого обратит свою ласку синеглазый певун! Глупый-глупый Байирр! Разве можно топтать цветок, когда хочешь пить его сладость?
Юноша так и уснул в тёплых объятьях Кебета, прижавшись щекой к широкой груди, прикрытый полой златошвейного халата. И младший из грозного и мстительного древнего рода воителей и торговцев просидел до рассвета, боясь шелохнуться.
***
Печально звенела лютня в непослушных руках. Пальцы совсем не слушались. Мелодия не складывалось в звонкий полноводный ручеёк. Молодой вельможа не сдержал слова – не поехали они назавтра в степь выпускать жаворонка. Хотелось плакать от горечи, что скопилась в сердце, но не было слёз. Разве можно поверить богатому? Позабыл, дурак, что не ровня ты младшему хозяину. Ты – игрушка. Забыл, потаскушка, о своём месте? Без сил лежал Руфин на роскошных коврах, глядя в потолок мёртвыми глазами. А из клетки на него печально смотрел другой пленник – маленькая серая птаха, которая уже никогда не станет золотым певцом в широкой степи…
Но не дали в этот раз долго тосковать невольнику – большие праздники скоро, будут гости со всех шести углов света. Хочет удивить своих гостей шад.
Пришёл лекарь. Долго мял в тёплых узких ладонях искалеченные пальцы певуна. Спрашивал, где болит, постукивал по опухшим суставам тонкой палочкой. Хмурился.
Потом пришёл толстый евнух, а с ним ещё двое. Заставили встать на низенький столик, начали крутить во все стороны. И такой отрез приложат к бледному лицу невольника, и другой, и третий… Проворные пальчики евнуха в мгновение ока раздели Руфина. Он потянулся руками прикрыться, цыкнули:
– Стой ровно!
И он стоял. А его крутили во все стороны, как неживого.
Потом так же ловко и одели его. Но уже в изумрудный муслин. Жарко полыхнули щёки юноши – он и одет вроде бы, а на деле ничего не прячут полупрозрачные шаровары и кафтан. Портной заулыбался – юноша поистине прелестен!
Потом его потянули за руку. Он ещё никогда не был за пределами своих покоев и потому с любопытством оглядывался. На резьбу и тяжёлые зеркала, на ковры и сюзане, на посуду золотую и серебряную, на расшитые кисейные занавеси, колеблемые легчайшим ветерком, на беломраморные чаши фонтанов с говорливыми струями. Наконец, они пришли и его втолкнули в комнату. С огромными распахнутыми окнами.
Но ему не дали полюбоваться на небо. Ювелир разложил перед ним с полсотни мешочков индийского сафьяна. В каждом мерцал чудесный камень.
– Выбирай!
Руфин испуганно зажмурился. Помотал головой.
На плечо легла тяжёлая рука, шею обдало горячим дыханием:
– Выбирай! Всё, что ты выберешь – твоё.
Ахнул ювелир, поспешно плюхаясь на колени и утыкаясь лбом в ковёр. Жирный евнух, оба нукера, днём и ночью маячившие у дверей в покои певуна, все они простёрлись ниц. Руфин обернулся.
Статный широкоплечий мужчина глядел на него тёмными смеющимися глазами. Синие шаровары и синий камзол в талию, да ещё перетянутый чёрным кушаком с серебряными кистями, держал его фигуру прямо. Он лучился силой и осознанием власти. Стоял молодцевато. Хотя разменял на жизненном пути пятый десяток. Лишь чуть седины в ухоженной, короткой не по возрасту, бородке.
Руфин окаменел от ужаса – шад!
– Выбирай. – Властно повторил мужчина.
Потянул к себе певуна за широкую штанину, тяжёлая рука обвила узкую талию.
Опять весело глянул на золотых дел мастера:
– Что ж, устоз*, давай посмотрим, чем обрадовал нас караван из Мидии.
Всё новые камни появлялись на свет, пуская вокруг себя радужных зайчиков. Всё больше становились глаза у невольника, никогда не видевшего таких богатств. Шад задумчиво перебирал камни, цепко вглядывался в прозрачную глубину самоцветов. Бросал загадочные взгляды на юношу.