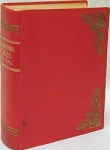Текст книги "Полынь (СИ)"
Автор книги: Tigrapolosataya
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Наконец, он отложил несколько камней в сторону:
– Эти! К ним добавишь чёрного жемчуга. Заказ должен быть готов через четыре дня. – И вышел.
Зло глянув на евнуха.
Обратно они шли уже не так. Никто не тащил Руфина за руку. Никто не тыкал черенком нагайки* в спину.
По утру Руфин пришёл на балкон. Долго стоял, глубоко, до головокружения дыша сладким воздухом. Раскинуть бы руки. Взлететь в синее небо… Серенький взъерошенный комочек встряхнулся на узкой ладони. Снялся с тонкой руки. Зазвенела над миром волшебная песня.
Вечером он опять взял в руки лютню. И хотя пальцы были всё так же неуклюжи, мелодия потекла, заговорила, зазвенела радостью. Шад, стоящий у потайного окошка довольно усмехнулся в густые надушенные розовым маслом усы.
И долго лились мелодии в затихшем на вечерней алой заре дворце. Люди вслушивались в сладкие лёгкие звуки, улыбались. И Руфин чувствовал, как оживают мёртвые пальцы, как оттаивает закаменевшее от обиды сердце.
Но запеть он так и не смог…
_______________
Дувал – высокий глинобитный забор вокруг дома.
Хаш – наваристый пряный бульон из телячьих ножек. Такой варят для тяжелобольных. Хорошо ставит на ноги после тяжёлых ранений и большой кровопотери.
Суюнчи – подарок гонцу, доставившему хорошие новости.
Устоз, усто – мастер.
Нагайка – конская плеть. Плетётся из узких ремешков воловьей кожи. К кончикам ремней частенько подвешивали свинцовые или серебряные дробины. Ручки отделывали резьбой и серебряной насечкой. Самые красивые нагайки привозились из Закавказья – из Армении и Нагорного Карабаха.
6. Стрелы
Кебет летел. Конь под ним хороший, сытый, напоенный. Длинны степные дороги, путаны. Гляди да гляди в оба. Развилки, обводы. Тропинки, тупики. Собьешься с утра в полшага, лишь Богам ведомо, куда придёшь к вечеру. Остановишься, – лишь Богам ведомо, когда найдут тебя. Степь огромна, людей в ней мало. Кажется, что взял чуть вправо – и расцвёл тюльпаново закат не на месте.
– Будет ветер, – озаботился Кебет.
Худо – ветер в степи, что дракон на воле. Раскалённый песок встаёт стеной. Тысячи песчинок и верблюду хребет сломят. Плохо, когда нет в ровной, как стол, степи укрытия. Засыплет песком, вовек не найдут!
Широкий плащ верного слуги своего шада почти сливался с закатом. Когда закат почти отцвёл – сиреневым, сине-серым. Серым. Чуткое ухо вельможи, привыкшего улавливать пожелания шада по лёгкости его шагов, уловило отдалённый намёт скакуна. Кебет спрыгнул с коня, ужом заполз в заросли кандыма, опутавшего песчаный бархан. Уложил рядом верного скакуна. Тёмный всадник на тёмном коне проскакал мимо. Молодой конь, лёгкий всадник. Хвала Богам, не ишгауз*.
Но ведь и ишгауз может проскакать по этой дороге. Знает вельможный посланец, что ишгаузы рыщут в дальних и ближних степях. Он не зажёг костра. И рано лег, подложив седло под голову. Ждал. Лишь к утру стал задрёмывать, вздрагивая. Утром первым делом осмотрел следы. Конь молодой, кованный новыми подковами, такими не куют ишгаузы своих низкорослых мохнатых коников. Всадник лёгкий – мальчишка, наверное.
Он раздумывал, кипятить ли ему чай. Дым в чистом воздухе пустыни издалека виден, далеко чувствуется. И не услышал двух щелчков. Не успел узнать короткого посвиста чёрных стрел.
Кебет захрипел, хватаясь за грудь. Нашаривая шёлковый лоскут с донесением. Заваливаясь во влажный от ночной росы песок. И тут послышался топот – того же коня с тем же всадником. Мужчина попробовал перекатиться за куст, авось, предрассветные сумерки укроют. Да не рассчитал. Алый плащ не укрылся в кустах кандыма.
Всадник осадил коня. Не чистый теке, видно, но резвый жеребец.
– Что за тюльпан вырос посреди кандыма?
Бестелесной пушинкой соскользнул с коня всадник. Худенький, как подросток, пожилой мужчина склонился над раненным. Воистину милосердны Боги. Когда ждёшь злого духа, он посылает доброго. Воистину велики Вы Боги Трижды величайшие!
– Боги! – Цокнул языком старик. – Кебет!
Ловко отторочил небольшой хурджин* и деревянный бочонок. Разжёг костёр. Привесил котелок для чая. Уложил раненного. Отломил оперение у чёрных ишгаузских стрел.
И Кебет решился. Пусть больно. Но как легко стало на сердце. Кто ещё, если не добрый знакомец, должен доставить донесение, зашитое за подкладкой кафтана? Он не так важен, чтобы возится с ним. Плохие новости вёз он своему шаду. Да не довёз. Страшно умирать одному в степи. Но что уж сделаешь… Шад должен получить послание.
Жаль, не увидеть ему больше синеглазого певуна…
***
Пришла на землю новая весна. Чтобы не случилось в подлунном мире – горе ли, беды ли, смерти, рождения – всё равно весна. Праздник всего сущего. Поднялось высоко небо. Заголубела яркая синева. Солнце стало золотым, а ветры мягкими. Принесли вольные ветры полынную горечь степную. От каналов запахло пригретой водой. Мутная вода, напоённая илом, отбрасывала на желтые оголившиеся берега коричневые блики. Пробивалась травка. Вётлы покрылись цыплячьим пухом. Только туранги ещё стояли тёмными, впитывали в себя соки земные.
Руфин стоял на балконе. Ловил губами, пил сладкий ветер. Подолгу перебирал струны, вспоминая древние сказания о могучих героях. Сейчас, увешанный драгоценностями, с тщательно подведёнными глазами и раскрашенными хной пальцами, он ничем не походил на ту бледную тень, что три дня назад держал за тонкую талию шад. Он жмурился на ласковом весеннем солнышке и мурлыкал детскую песенку:
На крыше сидели две птички.
Они полетели на речку.
Речку всю иссушили.
Рыбку всю всполошили.
Тяжело ухнули ворота. Руфин глянул вниз. Ахнул и зажал себе рот руками. Чтобы не закричать. Широкоплечие нукеры снимали с седла едва живого Кебета. Застучали по ступеням каблуки сафьяновых сапожек – шад сам вышел встретить скорбного гостя и его спасителя.
Невольник отшвырнул жалобно тренькнувшую лютню. Кинулся со всех ног.
– Кебет!
Пересохшие губы раненного раскрылись:
– Сподобили Боги…
***
Сядь рядом. Сядь. Не красней.
Лекарь глупость придумал. Мне не нужны эти юные гурии. Не хочу отдыхать. Не беспокойся. Лучшее лекарство для моей души – ты здесь. Может быть, я услышу ещё, как ты будешь петь. Ты прекрасен, цветок. Лучший певец на земле. Опять краснеешь? Глупый.
Мне нельзя говорить? Глупости. Это лекарь придумал. Мне нельзя молчать. Иначе невысказанное разорвёт сердце. От тяжести. От горя твоего. Ты же не дашь разорваться глупому сердцу прежде времени? Спасибо. Ладно, не буду. Не буду…
Я всё время тебя ждал. Верил, что придёшь в конце концов. Тревожился. За тебя. Спасибо, подушки удобные.
Спасибо-спасибо. Я попрал завет предков. Я поднял руку на брата. На сестру. Я ведь из худого роду. Не спорь. Злого, – от которого никогда не знаешь, чего ждать. Самодурный наш род. Я себе выговариваю. Что не смогу продлить дни свои. Помочь бы, как ты заслуживаешь. За жизнь твою многострадальную. За долготерпение. Чистоту, на которую ни разу не пала тень мимолётного облачка.
Что ты, сладкоголосый… Что ты. Я про тебя всё знаю. Много больше, чем ты думаешь. Сын певуна Гёзы – не вспомнишь ли мальчика, обкормившего тебя халвой? Подарившего тебе ладанку? На золотой цепочке золотой медальон? С большой розовой жемчужиной, врезанной в него. Нет-нет, сын старого Гёзы. У тебя его тут же отобрали, отхлестав по щекам за воровство. Проснувшись утром, я нашёл оберег у своего изголовья.
Волшебный певун, сказали мне, прислал с ветром прощальный привет и золотую волшебную ладанку. Волшебному певуну вовсе не нужны обереги. Но обереги всем нужны, – возразил я. Для тебя оберег, сказали мне, для него – напасти. Разве я хочу напастей для чудесного синеглазого мальчика? А что же, – допытывался я, – что же для него – оберег? Буланый кинжал, – сказали. И дали кинжал. А где певун? – я спросил. С ветром петь полетел, – сказали мне. Ещё встретится.
Ты пел песенку. Для детей. И дети шумели и требовали повторить. Мешали старому Гёзе начать величальную. И тогда вы спели лопар*. Гёза за юношу, ты за девушку. Все засвистели, одобряя. Что потом пел Гёза, я не помню. А я повёл тебя угощаться. И ты милостиво принимал – только медовую индийскую халву. Я был взрослым и счастливым, мне было двенадцать лет. А тебе пять.
У тебя перед глазами проходило много мальчиков, старше, младше. Дорог. Домов. Людей. У нашего рода всегда были дела в вашей степи. Отец часто брал и меня с собою. Он был против того, чтобы я учился богословию.
Минули годы. Мне стало казаться, что ты лишь дух, явившийся однажды. Но человеку нельзя без мечты – на всю жизнь. Хоть призрачной. Я лишь крепче стискивал рукоять кинжала. Но ты не был призраком моего ушедшего детства. Я тебя нашёл. Я узнал тебя. А на тебе было богатая одежда. И у тебя были зарёванные глаза.
– Певун! – Метнулся я к тебе.
Но отец удержал меня за плечо:
– Наложник досточтимого Саббаха.
– Растревожил Ваш сынок моего сладкого, – сказал Саббах за угощением, обнимая тебя. – А он только привыкать начал.
Ты заплакал, не поднимая глаз.
Маленький добрый дух, превращённый в грустного пленника. Почему? Зачем?! Как Боги попустили? Несколько дней спустя мы перегоняли большой табун текинцев. И наткнулись на твой колодец. Старая женщина дала мне напиться. И всё рассказала. Да, тётушка Сома.
А потом чудо свершилось – ты вернулся домой.
– Это Боги услышали мои молитвы. – Решил я самонадеянно.
Душно. Воздуха не хватает. Спасибо-спасибо. Да, волшебное питьё. А из твоих рук, ясноглазый, даже простая вода – райский мёд.
Нет у меня слов. Не красней. Сядь рядом. Руки у тебя тёплые.
Не могу выразить, как ты прекрасен. Душа моя. Всё бледное и ничтожное. Ничтожнее чувств, которыми я полон. Не могу. Нет. Не уходи. Не надо лекаря.
Степи возносили тебе славу, певун. Про красоту. Строгость. Неподкупную чистоту. Про клятву, будто бы данную Богам Трижды Величайшим, – никогда и ни с кем не делить подушки. Я знал, что особенно ты не жаловал нас, южан. Гёза говорил, что никогда не ступит на землю, где именем Богов пресветлых обижают женщину.
Мне пришла пора жениться. Но ты украл уже моё сердце. В последний раз я тебя видел на площади, где ты пел сказание о прекрасном принце Таоиме. Ты закрыл глаза, и склонил голову. И люди ахнули. Столько горделивости. И недосягаемости.
Я завидовал ветру, ласкающему твоё лицо. Если бы ты хоть взглянул тогда на меня. Но тебя уже целовал Саббах.
Это так давно было. Правда, не прошло. Не буду. Не буду. Прости. Не плачь. Не роняй слёз, жаворонок. Мне твои слёзы сердце рвут. Я продолжу с твоего позволения.
На том празднике был и Байирр, взявший дело в свои руки, после кончины отца. Вместо отца ездивший торговать – а может, красть? – лошадей. До сих пор не разобрался. Он наблюдал за мной. Он умный. Он понял больше, чем я хотел.
– Хорош, а? – Сказал он мне. – Хочешь, украдём для тебя?
Если бы я мог предположить!
Ну, ладно. Не надо слёз. Должен же я хоть попытаться оправдаться. Я знал, что Байирр ездил к вам. Я знал, что обид он не прощает. Но разве мог я предположить, что он станет мстить мальчишке и слепцу? Отец, с которого Байирр – копия, не падал так низко.
Если бы я мог предположить! Но я ничего не знал. И я поступил на службу к шаду, чтобы реже бывать дома. Если бы я знал! Я охранял бы тебя днём и ночью. И, не захоти ты видеть меня во плоти, я обернулся бы духом бесплотным. Тенью стал бы твоей.
Я бы уговорил брата. Кинулся бы под копыта его коня. Задави, только тогда возьмёшь. Я был бы согласен подписать отказную на свою долю в наследстве. Или, смирив гордость, согласился бы, чтобы украли для меня. Чтобы ты жил со мной под одной крышей. Чтобы только видеть тебя. Не касаясь. Столько всего можно придумать, когда уже поправить ничего нельзя!
И когда я вернулся из посольства к ишгаузам, преступление уже совершилось.
– У меня новый наложник.
Гордый тюльпан с разбитым лицом, в женских обносках. О Боги, где ваши глаза?!
Я не решался выступить против брата. Испугался, лишь когда увидел тебя там, на кладбище, у могилы отца. Прости меня за это, жаворонок золотой. Прости.
Не смогу помочь тебе, как собирался. Не облегчу жизнь. Не верну свободу. Не воздам должное. Ничего не требуя взамен. Я бы и теперь не признался бы ни в чём. Конец близок, ясноглазый. Он мне язык развязал. Прости родной. Не отталкивай.
Прости родной. Люблю тебя, сладкоголосый. Всегда любил.
Будь счастлив, жаворонок.
Кебет тяжело перевёл дыхание, сглотнул копившуюся во рту кровь.
– Иди теперь. Не смотри. Спасибо тебе за слёзы. Прости за слёзы. Спасибо тебе, мальчик. Ах, какое спасибо… Счастья тебе, сладкоголосый…
***
Голос юного певуна звенел над площадью. И многотысячная толпа, затаив дыхание, внимала подвигам великого Рустама. Певец сидел на возвышении, рядом сидели сановники, родовитые гости, послы из сопредельных стран. Шад. Никто не шевелился, никто не смел встать со своего места, пока широко лилось эпическое повествование.
Лютня гневалась, когда подлые враги обманом заточили богатыря в подземелье. Радовалась, когда Рустам бежал.
Жаловалась, как жаловались люди Рустаму.
Смеялась, как смеялась счастливица Согдиана, сидя на коленях жениха.
Плакала, когда Рустам упал, пронзённый копьём предателя.
Стонала, как стонала Согдиана над могилой любимого…
Синие глаза певуна не отрывались от балкона. Ловили гаснущий взгляд чёрных, как беззвёздная ночь, глаз. Не отпускали. Не давали уйти. Держали прочнее верёвки, сплетённой из волос семилетней кобылы.
Закрылись чёрные глаза. Опустились шёлковые ресницы. Смолкла лютня, роняя серебряную слезу. Устало опустил плечи певун. Зябко съёжился.
Площадь вздохнула в едином порыве – сколь велико могущество певца, сумевшего держать толпу в плену своего искусства! Люди засвистели, зашевелились. Грянул восторженный хор:
– Воистину велик!
_______________
Ишгаузы – древний кочевой народ. Приходили из казахского мелкосопочника, разоряли цветущие оазисы. Некоторые историки считают их предками кора-кыргызов – современных южных казахов
Хурджин, хурджун – седельная перемётная сума. Богатые хурджины шили из ковровой ткани.
Лопар – азиатские (чаще туркменские) частушки. Довольно фривольного содержания.
7. Предательство
Во времена правления деда нынешнего шада, да примут его предвечные Небеса, по степи пополз слух. Идут дикие люди. Не то с севера, не то с востока. Ишгаузы. Посмеялись во дворце над россказнями испуганных людей. Пожали плечами. Мало ли пришельцев видели в благодатном крае? И где они сейчас? Растворились бесследно в степных ветрах, не оставив в памяти даже имён своих.
Прошло много лет. Иногда доходили слухи до дворца пресветлого шада, о дикарях на чёрных косматых кониках, которые неслись по степи быстрее ветра. Над слухами смеялись. Дикари против войска шада? Обученного, могучего, сытого. На легконогих скакунах, равным которым нет, хоть весь свет обойди со всех шести углов.
Но всё чаще доходили до шада тяжёлые известия. Всё чаще в степи полыхало зарево пожаров. Всё чаще караваны выходили к засыпанным песком колодцам. Всё чаще на древних тропах степных находили людей с пробитым чёрной стрелой горлом. Ограбив и выворотив одной стойбище, они снимались с места чёрной тучей. И вскоре уже в другом месте выли шакалы, провожая души убитых в предвечное Небо.
А теперь перед шадом ниц лежал гонец:
– …держат в руках луки и стрелы. Их голоса шумят, как море. Они мчатся на конях. Много их. Как песка в пустыне много.
До рассвета не гасли светильники во дворце. Нельзя пустить варваров на благодатные земли предков. Ауминза – первый из городов на границе между степью и цветущими оазисами. Цитадель его неприступна. Глубоки колодцы в городе. Даже если перекрыть полноводные арыки*, город всё равно без воды не останется. Полны хранилища зерном и мёдом. Оружием и звонкой монетой. Было решено готовиться к осаде.
В степь полетели разведчики. В степь полетели глашатаи. Понесли повеление шада. Пусть все оставят свои кочевья и укроются в цитадели.
***
– Ласковый, – Кебет провёл слабой ещё рукой по щеке, золотившейся персиковым пушком, – Люди отвезут тебя. Сохрани себя, ясноглазый.
Прижался горячими сухими губами к узкой ладони. Коснулся светлой головы, прося Богов всемилостивейших о заступничестве. Ещё раз оглядел всадников. Кони добрые. Одежда ладная. Повязки на лицо от ветра и солнца. Воды хватит на многие парсанги* пути. Золота в потайных карманах хурджинов должно надолго хватить ясноглазому. Бумаги на дом и земли имения уже тоже давно готовы. Ничего не забыли.
Цепко глянул на рябого нукера.
– Прошу тебя…
Нукер глубоко склонился. Снял тельпек*. Под которым оказалась старая, со стёршимся шитьём тюбитейка*. Снова он оставляет хозяина. Нехорошо. Нельзя оставлять хозяина. Которого он принял вот на эти руки. За эти руки, перехлёстнутые волосяным арканом*, его приволок за своим конём старший хозяин, – когда маленькому рабу было пять лет.
Маленького раба старший господин воспитывал в жестокосердии. В пятнадцать лет доверил сына. Отобрал щенком у благочестивой матери. Выгнал белоголового многомудрого учителя. Чтобы сын не вырос слюнтяем и богомольцем. Крепко плакала юная мама о своём младшеньком. Задаривала сурового раба. Но раб был нукером – он был неподкупен. Он считал, что настоящий мужчина – жесток и храбр. Он гордился своим воспитанником. Как собственным сыном. Его господин был большим человеком. Сам шад искал совета его господина. Ничего не боялся его господин. Сутками мог держаться в седле. Его сабля пила кровь врага. И служил господину, как служил сейчас сыну.
Его грех – раны хозяина. Отпустил молодого господина одного. Хвала Богам, вернулся господин. Но не он помог господину. Его грех. А теперь он должен уехать. Из-за худородного. Из-за порченого мальчишки. По старым морщинам ползут слёзы. Никакого порядка не стало в степи.
Упал на колени раб-приспешник, коснулся морщинистым лбом сапог господина. Призвал Богов в свидетели. Он довезёт до Мароканды щенка. Он будет псом у ног щенка. Он грудью закроет худородного. Устроит его в старом доме рода Непек, родовом доме матери молодого господина. Но пусть потом ему будет позволено вернуться. Он не может остаться в тишине и безопасности, когда его господин будет стоять на крепостной стене цитадели. Пусть ему позволят вернуться!
– Нет. – Тяжело упало между господином и его нукером. – Я подарил тебя ему.
– Я не нужен теперь?
– Мне – не нужен. Ты нужен ему.
Да разверзнется бездна под тем щенком!
Склонил обритую старую голову. Коснулся губами сапог молодого хозяина. Встал.
– Чем встретит меня старый хозяин? Что скажу я ему в свой срок?
– Я сам ему всё скажу. Подумай лучше, что я тебе скажу, если с головы певуна хоть один волос упадёт… Боги пресветлые примут ли тебя?
Вельможа опустился на одно колено, второе выставив, как ступеньку. Легко взлетел в седло певун. Молча склонил голову, благодаря. Обернулся на нукеров, молча прося прощения. Склонился с седла к стоящему. Мягкие губы коснулись небритой щеки. В первый и последний раз.
Кебет едва сдержался от того, чтобы не стянуть с седла сладкоголосого. Не задушить в объятиях. Молча сжал узкие ладони в своих больших жёстких руках. Не привыкли эти руки к мягкости золотистой кожи, к её чудесному аромату. А теперь уже и не доведётся испить её сладости. Порывисто прижался лбом к грубой ткани дорожных шаровар. И – хлопнул коня по крупу.
Кони сорвались с места. Застучали дробно копыта по мощёным кирпичом узким улочкам.
Мучительно скривился рот.
– Сохрани себя… – шевельнулись губы.
– Дурак! – Глаза шада полыхали от ярости. – Зачем ты отпустил его?!
Кебет не успел ответить. Неистовый женский вопль опередил его. Вопль безмерного отчаянья.
– Вай дооооод*!!!
***
Вопль усиливали всё новые и новые женские голоса, заглушающие возбуждённый мужской говор. Такого общего плача степь уже полтысячи лет не слыхивала. Бывали плачи по дорогому покойнику. Бывал визгливый плач ссорящихся женщин. Бывал глухой плач обиды. Несчастье, обрушившееся на головы людей, было общим для всех. В день, когда влюблённый отсылает от себя любимого, могут приходить только чёрные вести. Бедствия.
Шад поспешил на балкон. Кебет шагнул к воротам цитадели. В них широкой рекой потекли беженцы, замычал скот, заржали испуганные лошади. Детей отнимали у матерей и уносили далеко вглубь цитадели. Женщины царапали лица ногтями, рвали волосы. И голосили-голосили-голосили. Война.
В этот святой для всех день якшанба – воскресенье, – степь стала чёрной от ишгаузских мохнатых коников. Жирная копоть пожаров полетела к престолу Предвечных. Молодые воины подгоняли отстающих. Быстрее-быстрее. Нужно успеть закрыть ворота, заложить их сырцовым кирпичом-саманом. Их тычки сопровождались женским плачем. С проклятиями.
Чтоб они издохли! Ишгаузы вонючие! Чтоб их гром поразил! Молния спалила! Тартарары поглотило!!! Чтоб их матери оскудели чревом! Чтоб им глаза выело!!! Чтобы по двенадцатое колено их проказа поразила!!! Чтобы. Гремело в цитадели. Чтобы. Чтобы. Чтобы…
Узорчатая калитка дворца захлопнулась. Будто можно ею отгородится от плача улицы, от страданий людских. От войны, которая воспринималась, как сгоревший родной айил* и вытоптанная конями ишгаузов степь. Затворенной калиткой не отгородится от страшной беды. От войны. Будет большой совет.
***
Байирр вошёл в дом так, будто не он отсутствовал всю зиму. Будто только что вышел и вернулся. На нем не были пыли странствий. Одежда не потрепалась и не выгорела под ярким солнцем степи. Где он был? Ничего не сказал.
Накинутый на плечи лёгкий полосатый халат сбросил небрежным движением. Не глядя. Мало ли есть кому подхватить. Подхватили. И халат, и папаху, и кушак, и камзол. Он сел на край топчана, застланного чиёй*. Вскочил, скорчив гримасу отвращения. Циновка заменилась паласом. Он сел. И протянул рабу левую ногу. Правую ногу. Пошевелил освобождёнными от сапог подошвами.
Байирр не глядел ни на кого. Все глядели на него. Женщины – с тех мест, где их застал приход нежданного гостя. Хозяина. Таша – над вышивкой. Рабы – не отрываясь от уборки. Они глядели во все глаза, не шевелясь. Будто завороженные.
Не спускали с него глаз. Ловили движение, мимику, жест – чуть приметные, как дуновение летнего ветерка, и волшебно их угадывали. Чтобы не получить пинок в зубы. В грудь. В живот. Куда не попадя, потому что пинают не глядя. А если сбивают с ног, то топчут сапогами.
Лишь святоше и вспоминать ничего не надо было. Он дождался своего часа. Он порхал, как мотылёк. Сначала безмолвный от радости. Потом возносящий щедрые молитвы благодарения Богам Предвечным. Он уменьшил свой рост согбенной спиной. Казалось, пожелай Байирр, он на животе заползает.
Байирр пил чай, громко хлюпая. Кидал в рот сразу несколько засахаренных орешков-казинак. Перемалывал их с треском зубами. Диким, исподлобья, взглядом удостаивая своих домочадцев. И снова кидая казинаки в рот. Эту идиллическую картину прервал истерический женский вопль с улицы. Война.
Байирр доволен:
– Большааааая война началась. Слава Богам!
Дребезжащим тенорком подхватил святоша:
– Слава Богам!
– Демон возмездья широко крылья раскинет.
– Раскинет.
– Ишгаузы не дураки.
– Не дураки.
– Пусть силу их оружию Боги дадут.
– Боги дадут.
Совершенно поглупел от счастья святоша. Ему милостиво разрешается присесть рядом. Он чуть опирается задом о край тахты.
– Теперь Кебет у меня попляшет!
– Попляшет! – хмелея больше Байирра, соглашается приспешник.
И получает тычок рукоятью хлыста:
– Переодеться. Домашнее.
– О Боги… Боги всесвятые, – шепчут жёны Байирра. – О Боги! Небеса предвечные…
Не зная, чего просить у Богов.
Три раза подули за ворот своих платьев. Богов всесветлых можно поминать через слово. Про нечистого молчат. Но водится, подслушивает. То хорошо-хорошо, потом – сто напастей.
***
Вот они – сто напастей. Даже тысяча. Сто тысяч. Стоят под станами древней Ауминзы. Застят сладкий воздух степи тяжелым смрадом прогорклого бараньего жира и немытых тел. Водится нечистый дух. Существует.
На многие парсанги растянулось кочевье ишгаузов. Шли, взметая пыль. Тысячные косяки лошадей. Табуны теке. Отары овец. Тянулись, неимоверно скрипя сплошными деревянными колёсами, обозы с несметной добычей, с войлочными кибитками. Подобно саранче было нашествие – мёртвая земля оставалась там, где проходили ишгаузы.
По ночам налетают тёмные тени на войлочные кибитки. Горят шатры вождей ишгаузов. Щёлкают тетивы, свистят в ночи стрелы. Захлёбываются в крови тысячники и сотники ишгаузов. А тёмные тени снова растворяются во мгле ночной степи.
Опускаются невидимые во тьме мосты через каналы. Дробным эхом отдаётся от древних стен топот копыт тонконогих теке. Открываются тайные проходы, впуская защитников. Тут же закрываясь снова, сливаясь с жёлтыми стенами. Чтобы следующей ночь снова открыться, выпуская погибель ишгаузов. Капля в море. Но и она камень точит.
Но долго это продолжаться не могло. Тысячи тысяч ишгаузов принесли песок в своих лохматых шапках. Засыпали каналы, несущие к Ауминзе благословенную подать Богов – воду Арсу. Воздух стонал от жара пылающей степи. Но стены цитадели стояли неприступными. Уже были сожжены все дома в округе. Выпотрошены древние храмы с дарохранительницами. Сметёны были уже даже руины дворцов знати.
Лишь имение дома Таллах стояло нетронутым ни огнем, ни людьми. Со стены смотрел Кебет на дом предков, и плакала его душа.
Но армию надо кормить. А ишгаузы уже разорили на сорок дневных переходов всю степь вокруг. Урожая не было – конница вытоптала плодородные поля. Вырубила сады и виноградники на топливо для костров. Вода уходила из пересыхающих колодцев, которые дикари не умели чистить. Арыки и полноводные каналы тоже были уничтожены. Цитадель незыблема. Её не взять ударом в лоб. Осада затягивалась. Держать в повиновении дикую вольницу невозможно. Голодные люди делают глупости. Мадий* – вождь племенного союза ишгаузов, – начал терять терпение.
***
В южной стене цитадели были ворота. Потайные ворота. Мало кто знал о существовании этих ворот. На беду Ауминзы и её шада о тайных воротах Байирру рассказал когда-то отец. Старшего из рода Таллах часто призывал старый шад. Прося совета. Отсрочки долга. Тёмными ночами приходил он во дворец, поворачивая во тьме скрытые рычаги, сделанные искусными инженерами. Старший из рода Таллах надеялся, что старший сын его будет такой же опорой для нового шада.
И Байирр, вспомнив о тайне, поспешил поделиться ею с Мадием. Никто не смеет вставать поперёк воли Байирра. Кебет ещё пожалеет, что посмел заглядеться на собственность старшего брата. Байирр ещё посмотрит, как будет корчиться в цепях братец, когда его нукеры будут один за другим драть худородного и спереди и сзади. Он ещё посмотрит в глаза подлого попирателя заветов предков, когда будет резать ремни со спины щенка… Он… он посмотрит!
Мадий бесстрастно смотрел на мощные укрепления Ауминзы. Вот он взмахнул камчой. И необузданная орда ринулась к стенам цитадели. Ишгаузы текли лавиной. Тучи стрел с тлеющей паклей на концах взлетали молниями. Разили стоящих на крепостных стенах защитников города. Впивались в стены. Балки. Кровли. Запылала крыша Храма Богини Триждывеличайшей. Огонь захлестнул храмовые постройки. По сухим балкам побежал ко дворцу шада… Всё смешалось. Кричали люди, ревели животные. Трещали крыши и своды. Гулко били тараны в окованные медными и железными полосами ворота.
Северная стена цитадели пылала. Взметнулись арканы из сыромятной кожи. Впились в древние стены корявые крючья. На стены полез чёрный рой. Их обливали маслом, пронзали стрелами. Раскраивали черепа топорами и булавами. Сотни и тысячи штурмующих летели с воплем вниз. Но всё новые и новые волны накатывались и откатывались от стен цитадели. Вниз полетели тела защитников крепости.
– Настал твой черёд. – Мадий насмешливо смотрел на нетерпеливо ёрзающего в седле Байирра.
Байирр даже не дождался конца речи ишгауза. Рванул вперёд коня. Три десятка ишгаузов подлетели к южной стене. Байирр уверенно повернул нужные рычаги. Узкие ворота со скрипом распахнулись. Копыта мохноногих степных коников застучали по древним плитам цитадели. Перебив стражу южных больших ворот, ишгаузы, возглавляемые предателем, распахнули ворота настежь. Через эти ворота в цитадель хлынуло всё степное воинство.
Теперь дрались повсюду. В домах и на улицах. Во дворах. На крышах полыхающих домов. Во дворце. Пылающие крыши обрушивались, одинаково погребая под собой и защитников и захватчиков. Три месяца осаждённые защищали свою крепость. Свои жизни. Своих Богов. Которые отвернулись от своих детей. Три месяца отчаянья и тоски. Страха. Но устоять не смогли.
Кочевники покинули разорённую цитадель на третий день. Унося с собой всё, что смогли унести. Выкапывая из дымящихся обломков рухнувших зданий сплавившиеся комки серебра и золота. Плющили драгоценные сосуды. Выковыривали сверкающие камни. Ссорились из-за ценных клинков. Резали бесценных теке на бешбармак*. Гордых вельмож Ауминзы делили по жребию. Шад погиб в пламени своего дворца, предпочтя смерть плену и позору.
Байирр бесился, не в силах дождаться, когда же головорезы Мадия доставят ему брата и райскую птичку, ставшую предметом раздора между братьями. Боясь, что шальная стрела пробила горло младшего брата. Или тяжёлый зубец обрушившейся башни погрёб его под собой. Или он сгорел в пожаре. Лишая тем самым святой мести.
Кебета нашли в угловой башне у Восточных ворот. Тяжело раненный вельможа был полузасыпан обломками рухнувшей стены. Его за ноги выволокли на скользкие от крови плиты улицы. Певуна нигде не было. Ни среди мёртвых. Ни среди живых. От Кебета ничего не удалось добиться. Несмотря на калёное железо и кнут. Руфин как в воду канул. Байирр озверел. Накинул на шею брата аркан и поволок за своим конём.
Благословенный дом предков пылал. Далеко в степи было видно алое зарево. Больно. Что ждёт его среди диких кочевников? Чьим рабом он станет?
Нет, не станет ничьим. Непокорных убивают. Его убьют скоро. Кебет только устало и безразлично прикрыл мутные от боли глаза.
– Будь счастлив, ясноглазый. – Шевельнулись лопнувшие губы. И сомкнулись упрямо.
Скрипели огромные несмазанные колёса. Подпрыгивали на кочках, вязли в песках. Сознание Кебета уплывало. Руфин смеялся колокольчиком.
А пепелище на месте древней всегда цветущей Ауминзы ещё долго дымилось. Унося души защитников крепости прямо к порогу предвечного Неба… Ишгаузы никогда не брали пленных… и им не нужны были рабы.
Тяжело уползала чёрная змея, набившая брюхо. Оставляя чёрный след на жёлтой земле степи. Мадий решил, что никуда не денутся цветущие оазисы древнего Маверронахра*. Он придёт снова. Весной. Дикое войско откочёвывало на зимовку в стылый мелкосопочник.