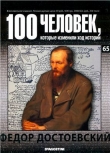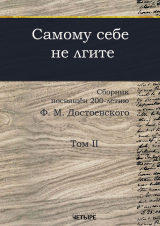
Текст книги "Самому себе не лгите. Том 2"
Автор книги: Сборник
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Юсуфджон Ахмедзаде

В литературном кругу признан как поэт и писатель, которого во многом отличают правдивость и жизненность.
Кроме серьёзных, фундаментальных работ он написал немало стихотворений и рассказов для детей. Поэмы, повести и сказки Ю. Ахмедзаде, отражённые в произведениях: «Гулдаста» («Букет», 1978), «Мургоби чи мекобй» («Что ищешь, гусь», 1981), «Хурсандй» («Радость», 1982), «Хулбу» («Мята», 1987), «Панчох барг» («Пятьдесят листов», 1996), «Марзи баланд» («Поклонная гора», 1997), «Садсола шав-е, Дурроч» («Живи сто лет, Дурродж!», 1989), «Оинаи дидор» («Зеркало души», 1999), «Хумори ишк» («Ностальгия любви», 2003), – пришлись по душе читателям и стали узнаваемы народом!
В 2001 году увидела свет первая часть его исторического романа «Хафт Руъё» («Семь сновидений»). В нём правдиво отражены события времён завоевательских нашествий арабов на земли Хурасана и то, как народ отстаивал своё священное право быть свободным. Роман наглядно повествует о временах правления Саманидов – их взлёте и падении.
В 2012 году вышел роман «Любовь к девушке в шляпе», в 2017-м – книга стихов-газелей «Сеть воображения» («Ѓирболи хаёл») и для детей «Кошечка миляк словно хандаляк» («Гурбачаи танбалак, Танбалаки њандалак»).
Стихи для взрослых
Газели
1
Упасть зерном хочу опять в полях твоей любви
Или пятном тюльпана стать в полях твоей любви.
Тебе неведомы мои сокровища души:
Узнай! – велела б закопать в полях твоей любви.
К чему затворницею быть, когда цветёт весна,
Я дом свой начал забывать в полях твоей любви.
Налил вина мне винодел – я пью всегда один,
Чтоб одному потом лежать в полях твоей любви.
Гляжу на пальцы свои – их наглость злит меня,
Желаю граблями лежать в полях твоей любви.
Дождём весна меня поит который год подряд:
Меня пора бы закопать в полях твоей любви.
2
Где ты теперь, любовь моя, живёшь в стране какой?
А я всё там же, боль моя, ни мёртвый, ни живой.
Ко мне приходишь лишь во снах – спасибо и на том!
Но даже там, любовь моя, обходишь стороной.
Я сорок лет тебя любил, люблю и буду вечно
Любить, поверь, душа моя, любой – родной, чужой!
Зарю любви у нас с тобой украли почему?
Теперь восход, любовь моя, встречаю не с тобой.
Я в прошлой жизни счастлив был, наверное, друзья,
Раз в этой скверно жизнь моя обходится со мной.
Когда вернёшься в край родной, ты друга навести,
Возьми цветы, любовь моя, на кладбище с собой.
3
Плод созревший я снаружи, у ядра же кисловат,
Потому меня, наверно, морщась недруги едят.
О моих заслугах всюду говорить какой резон?
Враг и так боится правды – той, в которой я зачат.
Счастья свет из глаз струится: дар поклонников моих,
«Добродушие смиренных – поздним на руках!» – твердят.
У меня, я знаю точно, есть в запасе мир иной:
Потому как в этой жизни мне, поверьте, каждый рад!
Умрёт как царь поэтов Рудаки, желаю я,
Потому не бью поклоны – это плохо, говорят!
Растворил я в правде сердце – смесь в чернильницу залил,
Потому Юсуфа строки алым пламенем горят.
Мир, в котором свято верил, злу меня не научил,
То ли был учитель бездарь, то ли я – с ушей до пят!
4
Долгожданная на небе туча грозная видна…
Ждут поля напрасно влаги – не прольёт её она.
Кто весной солёным потом окропит поля, зимой
Будет что солить: тогда-то с честью вспомнится весна!
Полон дом у злого скряги – нет лишь сердца и души:
В этом доме гость желанный – только хитрый сатана!
Мотыльком влюблённый кружит над любимою своей:
Обжигает любовью, больно, сладко – всё сполна!
Розам жёлтым предпочтенье отдал любящий в ответ:
«По душе мне цвета сердца или красного вина!».
У воды Юсуф вздыхает – та уносит боль души:
В этой боли жизнь Юсуфа, и она ему нужна!
5
Свобода сердца моего быть начеку должна.
Заметил: недругов моих не радует она.
Их злость понять мне мудрено: что, в сущности, такого
В желанье видеть этот мир не так, как сатана!
В саду весеннем жизни я уж точно не ворона,
И это только потому, что роль её скучна.
Быть камнем во дворце любви не заслужил я чести,
Но на пути у зла я вмиг воздвигнусь как стена!
Став родником, поить луга желаю дни и ночи…
Полезным словом быть хочу: ну в чём моя вина?!
6
Твой образ, схожий на рассвет, любовь мою разбудит.
В саду души моей росой живительной пребудет.
А я горю в огне любви – мне этой влаги мало!
Пускай заплачут небеса – хоть толк какой-то будет.
Одним желанием к тебе мне разве подобраться?
Мечтать о мёде губ твоих преступно – вмиг осудят!
В страданьях век свой проведёт желающий любви
Или сгорит, как мотылёк, и мир о нём забудет.
На всё согласен нынче я: умру, омойте тело
Любовной розовой водой – а после будь что будет!
7
Я согрешил, любя тебя, – прости меня, прости.
А ты во всём винишь себя – прости меня, прости.
Признают ли свою вину пропойцы, отрезвев?!
Я в их числе, я пьян, любя, – прости меня, прости.
Кто пьян в любви, не может быть безгрешным, говорят.
Но трезвый я живу, скорбя, – прости меня, прости.
Вино любви твоё испил без спроса, с той поры
Я не могу узнать себя – прости меня, прости.
Прими таким, какой я есть: до искончанья дней
В долгу я буду у тебя – прости меня, прости.
А если вдруг решишь прогнать, как волны гонит берег,
Я каплей задержу себя – прости меня, прости!
8
В ночи любимый образ твой мне сердце растревожил.
Счастливый выход из груди в гортани словно ожил.
Казалось, с именем твоим душа ушла из тела:
Как без неё я столько дней на свете белом прожил?
Враги бывали, есть сейчас и, к сожаленью, будут:
До скорбных дней моих один из них, я рад, не дожил.
Пришла любовь, когда мне лет уже совсем немало:
Я доживал, теперь живу, я вновь как будто ожил!
Подвластно времени лишь то, что называют телом:
В ком разум был в ладах с душой, при жизни множил.
Но я от этого далёк – я счастлив был недолго…
Зачем на склоне лет своих вновь душу потревожил?!
9
Не вздумай выпустить из рук, что нажито трудом,
В нём жизни нашей соль, мой друг, и сладость жизни в нём.
Сердцам влюблённым не дано ночами реже биться:
Работать нужно за двоих и ночью им, и днём!
Взгляни, Всевышний, что творят влюблённые порой:
Продать готовы, как Меджнун, за взгляд любимой дом!
Влюблённым солнца круг – пустяк! Они в кругу любви
Своё светило обрели всего с одним лучом!
Вновь обнажила осень сад, за нею – не весна?!
Деревья будут ждать, как мы… Но мы порой не ждём.
«Жизнь коротка у соловья – один лишь жалкий год!» —
Так ворон думает, когда услышит трель живьём!
Юсуф, войди в цветник любви и вспомни соловья,
Который счастлив был, как ты, в несчастии своём!
Перевод с таджикского Музаффара Хайдарзаде
Маленькие рассказы для детей
Белые облака«Шип-шип… Шип-шип…»
Едва доносится до моих ушей лёгкий шелест…
Он то приближается, то отдаляется. Я прислушиваюсь.
«Шип-шип… Шип-шип…»
Ах, почему так замирает моё сердце, когда я слышу эти звуки? Что вспоминается мне? Что же?.. Может, это шуршат и шепчутся листья, колеблемые утренним ветерком? Или весенний дождь идёт, капля за каплей? Одна за другой, они жемчужным ожерельем рассыпаются по зелени травы. Вот, а теперь зазвенели, как колокольчики:
«Динг-динг… Динг-динг…»
Нет, это вовсе не колокольчики…
Может быть, это белое облако, которое, по рассказам моей мамы, подкрадывается так тихо, незаметно, но словно на цыпочках, и… приподняв маму, на своих серебряных крыльях проносит мимо моей кровати, чтобы я, её ягнёночек, не пробудился от сладкого сна?
Нет, это вовсе не сказка! Мама придумала её для меня, просто сочинила, но каждый вечер я, надеясь увидеть это облако, жду и не смыкаю глаз.
Уже утро… Не могу очнуться. Никак не вырваться мне из цепких объятий сна. Натягиваю на голову одеяло, сворачиваюсь калачиком в тёплой постели и снова никак не могу освободиться от сладостной дрёмы и узнать, чьи же это шаги… Наверное, моей матери.
Да, это шаги моей мамы.
Бедная, когда она только успела подняться? Очень рано, конечно. Я ни разу не видел, когда она ложится и когда встаёт. Мне кажется, она и днём, и ночью на ногах.
– Мамочка, когда ты успела встать?!
– Ещё солнце не взошло, ещё роса не опустилась на цветы, ещё не успели запеть утренние птицы, мой ягнёночек. Ты спи, сон детства сладок…
Я приподнимаю край одеяла и заглядываю в щель двери. Мама ходит по двору почти неслышно, мягко-мягко ступая. Особенно я люблю смотреть, как она поднимается с кувшином воды от родника.
С высоты холма, который спиралью обвивает дорога к роднику, сначала виднеется белоснежный платок, развевающийся от утреннего ветерка. В одной руке она несёт кувшин, другой придерживает платок на голове, чтобы его не унёс ветер, и широкие рукава, плавно спустившиеся к плечам, напоминают мне крылья лебедя.
Казалось, что мама появляется из-за горизонта вместе с первыми лучами солнца, и её смуглое, в морщинках лицо начинает светиться, как его пламенеющий диск.
Когда в рассветной тишине она ступает по росистой траве межи, звонким эхом отдаётся лёгкое «шип-шип» её разношенных, старых галош. Но шаги замирают возле моей кровати… замирают… больше я их не слышу.
– Почему я не слышу шагов, когда ты проходишь мимо моей кровати, мамочка?
– Я… так… – любящими, радостными глазами она смотрит на меня. Она что-то хочет сказать, но не может, только прижимает мою голову к груди, гладит её, гладит и наконец снова рассказывает эту сказку, – как только я подхожу к твоей кровати, под ногами появляется огромное белое облако и неслышно проносит мимо тебя. Чтобы ты не проснулся, мой ягнёночек…
Я слышу, как ломаются щепки и весело трещат, разгораясь. Конечно, мама уже хлопочет возле очага. Кипятит чай. Дымом кизяка пахнут деревня и даже наш дом, он проникает сквозь щёлку в одеяле и, щекоча мой нос, заставляет меня проснуться.
Теперь я отчётливо различаю шаги матери.
«Шип-шип… Шип-шип…»
Да, теперь она направляется к танурхоне[3]3
Танурхона – помещение для выпечки лепёшек.
[Закрыть] и осторожно приоткрывает скрипучую дверь. Я так чётко чувствую стук нонпара[4]4
Нонпар – плоский пестик с шипами для насечек на тесто.
[Закрыть], как биение своего сердца. Запах хлеба…
У меня невольно текут слюнки. Хочется попробовать кусочек лепёшки прямо в постели. Я знаю, что мама не разрешит. Скоро она сама подойдёт. Да, как обычно, подходит к моей постели. Сначала приподнимает одеяло, ласково целует в лоб, потом своими нежными пальцами касается век. Её руки пахнут травой, дымком, тестом и парным молоком.
Слышу голос её, тихий, как журчание ручейка.
– Ягнёночек мой резвый, вставай. Для тебя я на рогах принесла травку, во рту – водичку, в вымени – молока…
Но я нарочно притворяюсь спящим. И всё время слышу журчание ручейка.
«Шир-р-р… Шир-р-р…»
Нет, это вовсе не ручеёк. Мама доит корову. И едва-едва доносится мычание телёнка. Наверняка он жалобно смотрит в глаза своей матери. Хочет молока… только… только… молоко выплёскивается из кувшина… выплёскивается и… и… превращается в белое большое облако. Оно приподнимает маму и… взлетает?! Летит! Летит!.. Но неожиданно подул сильный ветер и понёс облако в разные стороны: то над густым лесом, то над волнующейся рекой, то над бушующим морем. Мне страшно, я хочу закричать: «Мама! Ма-моч-ка-а!». Но голоса нет. Я уже совсем ослаб, нет сил даже пошевелиться, и вдруг я вижу, как белое облако неожиданно разбивается о каменную вершину и словно глиняные черепки падают прямо к нам во двор. Разбиваются на мелкие-мелкие кусочки…
Вздрагиваю, вскакиваю с постели и вижу: во дворе рассыпаны осколки разбитого кувшина, над которым в удивлении сидит на корточках моя старшая сестра. Капли молочной пены разбрызгались во все стороны, даже на подол синего платья, которое позавчера она надевала на поминки моей матери.
Она каждое утро относит отцу молоко и горячую лепёшку и потом отправляется прямо в школу. Бедная, теперь все заботы по хозяйству легли на её плечи.
Но отец в поле. Ему тяжело, и он голоден. Ему нужно отнести лепёшку с молоком.
ПодарокЗавтра у мамы день рождения…
Что же ей подарить?..
Лежу, смотрю в небо…
А небо – синее-синее. А звёздочки как заячьи следы. Интересно, когда эти шустрые зайцы успели пробежать? И отчего так быстро? Куда? Наверное, они тоже ищут подарок своей маме.
Завтра у мамы день рождения. Что же ей подарить?
Отец принёс сегодня большой свёрток. Убрал его в шкаф, а ключи положил в карман. Не показал.
– Завтра у мамы день рождения, – сказал он и кончиком пальца щёлкнул меня по носу. Конечно, купил что-нибудь дорогое. Вот мама обрадуется, когда увидит…
Завтра у мамы день рождения. Даже не знаю, что ей подарить…
Брат на первую свою зарплату купил чакан[5]5
Чакан – яркое, расшитое узорами таджикское платье.
[Закрыть]. С гордостью его разглядывал и говорил:
– Видишь, какая вышивка! Вот, смотри: это солнце, а вокруг цветы, а вот это – гора и у её подножия – родник… А вот это журавли летят.
Подождите, журавли! Возьмите меня с собой! Я из самого далёкого города привезу подарок своей маме!..
Завтра у мамы день рождения. Ну что… что ей подарить?..
…Отец и брат подарили маме свои подарки, а я забился в угол дивана и сидел тихо-тихо. Мама подошла и поцеловала меня:
– Смотрите, – сказала она, – какой Манучехр сегодня послушный. Разве может быть для мамы подарок дороже?
Урок математикиПарвизджон учился в первом классе. И только на отлично.
Выучив весь «Букварь», легко преодолел «Книгу для чтения».
Но больше всего он любил уроки математики.
Однажды, читая своим сестричкам стихи и сказки из детской книжки, он предложил:
– Давайте играть в школу!
Эта затея понравилась девочкам.
– Давай! Давай! – закричали они наперебой.
Парвизджон посадил девочек за обеденный стол, раздал им бумагу и карандаши, а сам вышел в соседнюю комнату. Там он нашёл отцовские очки, взял папку под мышку и вернулся.
Девочки, увидев его, очень удивились.
Парвизджон же сердито воскликнул:
– Ну, чего вы сидите? Разве вы не знаете школьных правил? Вставайте!
«Ученицы» покорно поднялись со своих мест.
– Когда учитель входит в класс, ученики встают и здороваются. Понятно? Ладно, теперь садитесь, – сказал Парвизджон, доставая из папки толстую тетрадь и что-то старательно записывая в ней. Потом снял очки и произнёс торжественно:
– Ну вот, а теперь слушайте внимательно. Сегодня у нас будет урок математики!
– Какой урок? – не поняла Парвина.
– Урок математики?! – переспросила Мехрогин.
– Тише!
Парвизджон хотел объяснить девочкам, что же такое математика, но не знал, как это сделать. Он задумался – и вдруг вспомнил слова учительницы. И серьёзно начал:
– Математика – очень трудная наука и очень необходимая. Без математики никто ничего не сможет сосчитать. Ну вот, например: мама вчера на базаре купила десять груш. Две из них съела Парвина. Сколько осталось?
– А вот и нет! – воскликнула Парвина. – А вот и неправда! Я не ела груши! Ты сам их съел, сам!
И, не сдержавшись, девочка горько заплакала.
Перевод с таджикского Гулбахор Мирзоевой
Снежные звёздочкиПадал первый снег…
Он шёл и шёл…
Он падал и падал…
И наконец где-то за полночь остановился…
Под утро курочка вызволилась из курятника.
Одна…
Пошла по двору…
Двор с оградой…
Она удивлённо глядела по сторонам…
Она свободна?.. Свободна!..
От радости захлопала крыльями…
Вытянула вверх шею…
И громко закудахтала:
– Ко-ко-ко-ко!
Наверно, благодарила небо, Бога за то, что послал снег…
Да-да! Снег свободы!
Разве есть что-нибудь ещё слаще воли?!
Цену свободе могут знать птицы в клетке, и только!
От радости она бегала по двору…
По толщине выпавшего снега…
Бегала и бегала…
Всё бегала и бегала…
Мама пошла в сарайчик – набрать в чашку зерна.
В уголочке хлева насыпала реденько зерна.
И нежно-нежно подала голос:
– Цып-цып-цып!
Курочка бегом прибежала со двора и только торопливо принялась клевать корм, как мама ловко схватила её и, ласково приговаривая: «Ты моя курочка, лохматые лапки, не гуляй далеко, не летай высоко», – заперла её в курятнике.
Мы завтракали, сидя вокруг стола, как вдруг проснулся мой братишка Ардашер. Подошёл к окну. Посмотрел. Увидел следы куриных лапок, которых видимо-невидимо осталось на снегу. И радостно закричал:
– Посмотрите! Снежные звёздочки!
И нетерпеливо спрашивал он:
– Что ли, они ночью с неба попадали, да?!
Папа в ответ улыбался, а мама целовала его в лобик…
Да и вправду в нашем дворе было полным-полно звёздочек…
Снежных звёздочек…
Перевод с таджикского Н. Раббимдухт
Арье Барац

Родился в 1952 году в Москве, в 1976 году окончил медико-биологический факультет 2-го МОЛГМИ (РГМУ), во время учебы в котором участвовал в работе философских семинаров Л. Черняка, М. Туровского и В. Сильвестрова. Более десяти лет работал врачом в лабораториях московских городских больниц.
С 1992 года проживает в Израиле, в Матэ-Биньямин, на границе между Иудеей и Самарией. С 1993 по 1996 год обучался в сионистской йешиве «Бейт-Мораша» в Иерусалиме. В течение нескольких лет работал в русскоязычном отделе поселенческой радиостанции «Аруц-Шева» («Седьмой канал»), вплоть до ее закрытия в 2003 году.
С 1992 по 2018 год сотрудничал с израильской газетой «Вести», где за это время опубликовал более тысячи публицистических и религиозно-философских статей.
С 1999 года по 2018-й вел в этой газете постоянную еженедельную религиозно-философскую рубрику, в которой освещал иудейские представления по возможности в наиболее широком контексте мировых религий и секулярной культуры.
Автор нескольких религиозно-философских и художественных книг: «Лики Торы» (1993), «Презумпция человечности» (1998), «Два имени единого Бога» (2004), «Теология дополнительности» (2007), «Там и всегда» (2008), «Мессианский квадрат» (2012).
В 2019 году издал трилогию «День шестой», 1-я («1836») и 3-я («2140») части которой – литературно-исторические исследования, а 2-я («1988») – автобиографическая повесть. Расширенный и дополненный вариант «Дня шестого» был переиздан в 2021 году.
Книга представляет собой интеллектуальный триллер, основанный на столь же реальных, сколь и загадочных событиях жизни автора и приоткрывающий таинственную связь между разбросанными в веках творцами мировой культуры.
Вниманию читателя предлагается фрагмент книги.
1836
19 апреля (1 мая)
Москва
В тот воскресный день профессор русской истории Московского университета 36-летний Михаил Петрович Погодин собрал на обед полтора десятка своих коллег и друзей.
Дни в Златоглавой стояли теплые, и впервые в этом году пообедать можно было не в гостиной, а в просторном саду погодинского дома на Девичьем поле.
После обеда все разбрелись маленькими кружками. Рядом с Погодиным оказались «басманный философ» Пётр Чаадаев, редактор «Наблюдателя» Василий Петрович Андросов и профессор филологии Владимир Печерин.
– Вы слышали, господа, что вышел наконец первый номер «Современника»? – поинтересовался Андросов.
– Не только слышал, но вчера уже вертел его в руках, – с некоторым пренебрежением ответил Чаадаев. – Но что за название такое – «Современник»? Современник чего? XVI столетия, из которого мы никак не выкарабкаемся?
– Оставьте, Пётр Яковлевич, – усмехнулся Погодин. – Для того этот журнал, наверно, и задумывался, чтобы вырвать Россию из Средневековья. А название мне кажется замечательным. Мы ведь живем в какое-то особенное время, в которое человечество окончательно повзрослело. Вам разве не кажется? Отныне все люди, которые придут после нас, будут нашими современниками. Кант и Шеллинг превратили свое время во время всех бывших и будущих эпох!
– С этим я, пожалуй, согласен, – произнес Чаадаев. – История подошла к своему завершению. По этому вопросу даже Шеллинг с Гегелем не спорят. Конец Великой Поэмы, авторство которой Шеллинг приписывает Мировому Духу, не за горами.
Слова эти были глубоко прочувствованы. Пётр Яковлевич не сомневался, что таинственный час действительно приближается, и даже решил внести в историю свою лепту. На эту встречу на Девичьем поле он принес рукопись своих «Философических писем», чтобы передать их Андросову. Вдруг тот решится опубликовать их в «Московском наблюдателе».
– Не помню такой теплой весны, – проговорил Погодин. – Не помню, чтобы когда-нибудь в середине апреля вот так сирень расцветала.
– Это у нас апрель, а в Европе сегодня уже 1 мая, – заметил профессор Печерин.
– В чем-то мы отстаем от Запада на 12 дней, а в чем-то – на 12 веков! – проронил Чаадаев. – Примерно столько столетий минуло с тех пор, как в Римской империи повально стали освобождать рабов. А у нас рабство и поныне цветет как майская сирень.
– Но подумайте только, – горячо возразил Андросов, – как народ наш преобразится после того, как это рабство повсеместно отменится и крестьянские дети отправятся в школы!
– А у меня, признаться, воображения не хватает это представить, – уныло выговорил Печерин. – Везде это холопство, отовсюду оно прет и повсюду все подавляет. Я тут раз возвращаюсь домой и вижу – на крыльце сидит нищая старуха. Оказалась моей крестьянкой из села Навольнова.
«Видишь ты, батюшка, – говорит, – староста-то наш хочет выдать дочь мою Акулину за немилого парня, а у меня есть другой жених на примете, да и сама девка его жалует. Так ты вот сделай милость да напиши им приказ, чтоб они выдали дочь мою Акулину за парня такого-то».
Я взял листок бумаги и написал высочайший приказ: «С получением сего имеете выдать замуж девку Акулину за парня такого-то. Быть посему. Владимир Печерин». В первый и последний раз в моей жизни я совершил самовластный акт помещика и отослал старуху. Весь этот наш с вами протест, господа, в рамках того же барства протекает. Не имеем мы никакой опоры, чтобы вырваться из этой трясины.
– Опора – в религии, – многозначительно возразил Чаадаев. – На Западе первые случаи освобождения были религиозными актами, они совершались перед алтарем, и в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: pro redemptione animae – ради искупления души. А у нас закабаление идет при полном попустительстве церкви.
– А мне иногда кажется, что это размеры погубили Россию, – заметил Печерин. – У нас народ никогда всерьез с властью не боролся, просто бежал на Восток, бежал на Дон, к казакам. В такой ситуации образованным людям не остается ничего другого, как бежать на Запад.
В 1831 году Печерин окончил филологический факультет Петербургского университета, а в 1833-м уехал на стажировку в Берлинский университет.
«Оставь надежду всяк сюда входящий!» – вырвалось у Печерина, когда прошлым летом он, возвращаясь после стажировки домой, пересек германскую границу и оказался в пределах Российской империи.
В тот же миг он ясно осознал, что не сможет в ней оставаться, и через полгода после начала своей профессорской карьеры в Московском университете окончательно решил оставить Россию. Разрешение съездить на лето в Берлин Владимир Сергеевич получил довольно быстро и через месяц собирался навсегда покинуть страну. Распространяться об этом он, однако, не стал и лишь заметил:
– Помните, как Мельгунов в «Путевых очерках» описал свое первое чувство, с которым сошел с корабля на европейскую землю?
– Не помню, но могу догадаться, – усмехнулся Чаадаев.
– Он писал о «неизъяснимом чувстве блаженства», о «чувстве заключенного, который после долгого заточения вдруг был выпущен на свет Божий», что-то в этом роде.
– Надо же! – удивился Чаадаев. – И цензура пропустила!
6 (18) мая
Москва
Пушкин отогревался душой в атмосфере неспешного уклада нащокинского дома, где никто не торопился вставать, а встав, чем-то важным заняться. Первые три дня Пушкин с Нащокиным только домоседничали и играли в вист, хотя дел было намечено немало. Нужно было побывать в архиве Коллегии иностранных дел, разобраться с распространением «Современника», который в Москве продавался еще хуже, чем в Петербурге, а также встретиться с некоторыми авторами «Московского наблюдателя» и постараться заинтересовать их своим журналом.
В числе множества приглашений, пришедших Нащокину на имя Пушкина в эти дни, было получено приглашение и от Чаадаева. С него Пушкин решил начать свои выезды.
42-летний Чаадаев жил во флигеле дома Левашовых, на Новой Басманной улице.
С Пушкиным Чаадаев познакомился в 1817 году, когда вступил в расположенный в Царском Селе лейб-гусарский полк. Все офицеры были на короткой ноге со старшими лицеистами, прозванными Чаадаевым «философами-перипатетиками» за их пристрастие к прогулкам по тенистым царскосельским аллеям.
Но с Пушкиным, как раз завершавшим в том году свою учебу, Чаадаев сблизился особенно. Покоренный его живостью и поэтическим талантом, Пётр Яковлевич очень хотел пристрастить юношу к своим идеям, зародившимся в 1813 году в занятом русскими войсками Париже: у человечества нет иного пути, кроме европейского. Любой другой путь ведет в никуда!
Пушкин, казалось бы, так же восхищенный глубокомыслием своего друга, оставался большей частью при своем мнении. Друзья спорили о значении религии, о судьбах России и Европы, спорили жарко и аргументированно и каждый раз удивлялись, особенно Чаадаев: как это его собеседник отказывается понимать очевидное?!
Чаадаев часто сетовал на то, что им с Пушкиным так и не удалось соединить их жизненные пути, что не пошли они рука об руку.
Он и сейчас готов был повторить своему гостю эти слова. Он был убежден, что предложи тот ему, Чаадаеву (а не Гоголю), стать вторым лицом в «Современнике», публика набрасывалась бы на журнал как на горячие бублики. Но Пушкин без восторга относился к «Философическим письмам» своего друга, и темы сотрудничества благоразумнее было бы не затрагивать.
Между тем совсем удержаться от проблемы распространения своих идей Чаадаев не мог и не преминул поделиться наболевшим.
– Сегодня я к себе Андросова жду. Он мне рукопись должен вернуть – русский перевод моих «Философических писем». Не берет «Наблюдатель» мою работу.
– Опомнитесь, Пётр Яковлевич. Нет цензора, который такое пропустил бы. Андросов тут ни при чем. Это я вам как издатель говорю. Вы не представляете, с какой чиновнической тупостью приходится по журнальным делам сталкиваться… Хочется порой плюнуть на Петербург и удрать в деревню.
– Не представляю, как бы вы могли себе это позволить с вашим семейством…
– Отчего же? Что вы имеете в виду?
– Такие супруги, как ваша, Александр Сергеевич, для затворничества не созданы… Поручусь, немало у вас с ней забот.
– Да какие там заботы? Расходов, конечно, семья немалых требует, но я очень счастлив в браке.
– Правда? Охотно вам верю, хотя сам я к браку не расположен.
– Но почему? – Александр Сергеевич оживился, получив неожиданную возможность задать давно вертевшийся на его языке вопрос. – Вы были блестящим офицером, Пётр Яковлевич, вы – герой войны. Выправка у вас, вкус в одежде необыкновенные, наконец, вы и танцор замечательный. Не раз про себя это отмечал. И, как вы знаете, мой Онегин некоторые ваши черты унаследовал. У вас блестящий ум философа, но вы притом не какой-нибудь книжный червь вроде Канта, который на смертном одре благодарил Бога за то, что в жизни ему не пришлось совершать нелепых телодвижений, лишенных метафизического смысла… Не может же быть, что вы никогда не состояли с какой-либо особой в романтической связи? Неужели и вы не находите в определенных движениях никакого смысла или я просто не все знаю? Ответьте мне, Пётр Яковлевич: была ли в вашей жизни любовь?
Чаадаев приподнял брови и ответил:
– Помните, как сказано у Экклезиаста: «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? – Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел».
– Замечательные слова, но они все же никого пока не заставили от самого поиска отказаться, а некоторые, как я, например, даже готовы с этими словами и поспорить.
– Дорогой Александр Сергеевич, – медленно выговаривая каждое слово, ответил Чаадаев, глядя Пушкину прямо в глаза, – когда я умру, вы все сами узнаете.
В этот момент слуга Чаадаева Иван Яковлевич, которого за его благородную осанку, ум и манеры все всегда принимали за барина, доложил о приходе бывшего любомудра, главного редактора «Московского наблюдателя» Василия Петровича Андросова.
Андросов степенно подошел к беседующим. Он церемонно пожал руку хозяину и лишь затем протянул ее Пушкину.
Андросову было за что себя уважать. По происхождению мещанин, дворянскую грамоту он получил вместе с университетским дипломом, а нынешнего своего положения издателя и ученого достиг напряженным трудом.
Писал Андросов на самые разнообразные темы, начиная философией Канта и кончая хозяйством России. Репутацию добросовестного автора и беспристрастного исследователя ему принес изданный в 1832 году справочник «Статистическая записка о Москве», в котором приводились исчерпывающие сведения о Первопрестольной: климат, состав населения, число храмов, театров и даже самоубийств.
Пушкин держал в своей библиотеке эту книгу, даже почти до половины разрезал в ней листы, но до чтения дело так и не дошло. Весь этот энциклопедизм, сказавшийся также и на облике «Московского наблюдателя», особого вдохновения у Пушкина не вызывал.
Взглянув в проницательные, но поблекшие глаза редактора «Московского наблюдателя», Пушкин живо вспомнил другого Андросова – юного тщедушного студента, по памяти цитирующего Шеллинга. Тогда в нем сверкала какая-то искра, тогда его глаза горели.
– Пожалуй ведь, мы не встречались с вами со времен общества любомудров? – улыбнулся Пушкин.
– А вы помните еще наше «тайное общество»? Помните споры о Канте и Шеллинге до утра?
– До утра я, конечно, с вами, философами, не досиживал; диалектика все же – не вист, но то, что «Мировой Дух пишет не столько историю, сколько поэму», это я усвоил.
– Что ж, вы ухватили главное, – улыбнулся Андросов. – Как сказал великий Шеллинг, «поэтический вымысел творит действительность»! Вы, поэты, – главные поверенные Мирового Духа! Не чета нам, философам и статистикам.
– Да, – подтвердил Чаадаев, поймав на себе ироничный взгляд Андросова, – в этом вопросе у Шеллинга с Гегелем решительное расхождение. По Гегелю, Вселенский Дух пишет ученый трактат, пишет «Феноменологию духа», а по Шеллингу – Поэму.
– Однако Гегель, как я вижу, излишней скромностью не страдал, – усмехнулся Пушкин. – А кого, интересно, Шеллинг занес в соавторы Мирового Духа, коль скоро сам на эту роль не претендовал?
– Ну как, кого? Шекспира, Гёте, Гомера, – стал вспоминать Чаадаев.
– Имя Гомера Шеллинг, конечно, не раз упоминает, – заметил Андросов. – Но в том отрывке, где идет речь о Великой Поэме Мирового Духа, он говорит только о Новом времени. Давайте проверим. Вы не дадите мне «Философию искусства», Пётр Яковлевич?
Чаадаев подошел к полке, вытянул нужный томик и протянул Андросову, который быстро разыскал нужное место.
«В искусстве мы имеем как документ философии, так и ее единственный извечный и подлинный органон… Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывающуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию; мир этот находится в становлении, и современная поэту эпоха может открыть ему лишь часть этого мира; так будет вплоть до той лежащей в неопределенной дали точки, когда Мировой Дух сам закончит им самим задуманную великую поэму и превратит в одновременность последовательную смену явлений нового мира…»