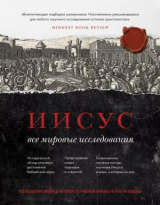
Текст книги "Иисус. Все мировые исследования"
Автор книги: Сборник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Обсуждая критерии аутентичности в изучении исторического Иисуса, крайне важно помнить о простом факте: насколько мне известно, очень немногие из таких критериев, известных нам, проникли в другие сферы исторических исследований. Майкл Грант, специалист по Античности, полагается на эти критерии в своей книге об Иисусе[182]182
M. Grant, Jesus: An Historian’s Review of the Gospels (New York: Scribner, 1977), с. 201–203.
[Закрыть], но, похоже, не пользуется ими ни в каких других своих исторических исследованиях, – по крайней мере так открыто, как в книге, посвященной Иисусу. И возникает вопрос: а соответствуют ли данные критерии своему предназначению в той мере, в какой их используют в дисциплине, основанной на истории?
Историографический и лингвистический метод
Здесь я хотел бы рассмотреть критерии аутентичности в том виде, в каком они часто формулируются при изучении исторического Иисуса, и проанализировать их в отношении к тем вариантам критериев, которые применяются в историографии наших дней. Подобный очерк легко мог бы превратиться в подробный разбор современного историографического метода, но вместо этого я отмечу несколько принципов, сформированных на основе современных историографических исследований Древнего мира, и использую эти принципы в качестве отправной точки для оценки критериев аутентичности. Эпоха постмодерна пытается опровергнуть сами основы историографического исследования, желая свести все факты просто к нарративу. Здесь неуместно спорить об этом предмете, отмечу лишь, что споров таких было немало, и велись они, в частности, об онтологической основе, которая позволила бы выдвинуть утверждение, отрицающее истинность подобного представления.
Исторический метод[183]183
При написании данного раздела я многим обязан источнику: Bebbington, Patterns, с. 1–20.
[Закрыть], приложенный к античным текстам, в самую первую очередь интересуется источниками: письменными или какими-либо иными. Историки полагаются на свидетельства, по сути своей ограниченные и требующие оценки с точки зрения их надежности. Эта проблема касается и эпохи Нового Завета, что подтверждает одна работа по историографии Рима, в которой говорится: «Мы не можем создавать историю (в современном смысле этого слова) начальных этапов Римской империи на основании одних лишь литературных источников, дошедших до нас»[184]184
B. W. Jones and R. D. Milns, The Use of Documentary Evidence in the Study of Roman Imperial History (Sydney: Sydney University Press, 1984), c. xi.
[Закрыть]. Это ответ на вопрос о том, насколько допустимо использовать древние документы. Отчасти недостаток таких источников объясняется капризами истории. Кроме того, у римлян история появилась не так быстро, как у некоторых других народов, и они полагались на греков, которым было интересно прошлое Рима[185]185
C. P. T. Naudé, «An Aspect of Early Roman Historiography», Acta Classica 4 (1960): 53–64, особ. с. 54.
[Закрыть]. Есть и еще одна важная величина – сам историк, и ее значение не так давно во многом пересмотрели. Да, некоторые продолжают воспринимать историка словно машину или компьютер (позитивистский подход) – но таких историков не существует. Дэвид Фишер называет «ошибкой Бэкона» представление о том, будто «историк может действовать, не полагаясь на заранее готовые вопросы, гипотезы, предпосылки, теории, парадигмы, постулаты, предрассудки, допущения или общие исходные представления любого рода»[186]186
Fischer, Historians’ Fallacies, с. 4. См. также критику «зонтичной гипотезы» в работе: W. Dray, Laws and Explanation in History (Oxford: Oxford University Press, 1957).
[Закрыть]. Сюда входят даже такие виды философии истории, как историзм или позитивизм. Долгое время считалось, что подобная ориентация непременно пагубна. Да, она может оказаться именно такой – в том смысле, что историография пострадает, если неправильно обращаться с фактами или злоупотреблять ими. Но она может стать и благом, потому что способствует страстному вовлечению историка в решение историографических проблем, – и такое вовлечение вовсе необязательно влечет за собой искажения. На этом уровне нередко можно увидеть максималистский и минималистский подходы к истории, в зависимости от неизбежной приверженности историка тем или иным свидетельствам[187]187
См.: Banks, Writing the History of Israel, с. 205–218. Сказанное можно проиллюстрировать с помощью такого примера. Джеймс Чарлзворт относит «чудеса исцелений» Иисуса «в прямом смысле к bruta facta», иными словами, к необъяснимым деяниям Иисуса. Это заключение, на первый взгляд максималистское, основано на том, что все доступные нам источники единодушно говорят о таких исцелениях. В то же время некоторые исследователи, изучая источники, «предполагают, что какие-то их элементы “неизбежно” были придуманы» или же априори предполагают, что «события некоторого рода не могли произойти, особенно те, которые касаются чудес». Это минималистский вывод. См.: J. H. Charlesworth, «The Historical Jesus and Exegetical Theology», PSB 22 (2001): 45–63, особ. 49, 56–57; R. Wallace and W. Williams, The Acts of the Apostles: A Companion (London: Bristol Classics, 1993), с. 28.
[Закрыть]. В результате возникает так называемая «историческая пропасть», отделяющая мир современного историка от минувшей эпохи, которую историк стремится описать. Говоря об этой проблеме, Рой Харрис выделяет три типа неосознанных лингвистических философий, стоящих за попыткой историка преодолеть эту пропасть: это реоцентрическая философия, психоцентрическая философия и философия «контракта»[188]188
R. Harris, The Linguistics of History (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), с. 3–6.
[Закрыть]. В итоге историк имеет дело с обоснованными гипотезами, которые дают наилучшее объяснение фактам. Можно сказать, что «факты» становятся «данными» (или экзистенциальными фактами) в процессе эвристической интерпретации, и все эти данные сплетаются воедино, чтобы создать единое повествование, или нарратив, о прошлом[189]189
См.: McKnight, Jesus and His Death, с. 20; Dunn, Jesus Remembered, с. 102–104.
[Закрыть]. Формулировка, описывающая такой процесс, достаточно сложна, она должна учитывать такие разные переменные, как сами факты (включая те, установить которые невозможно), степень правдоподобия данных, а также меру достоверности или надежности созданного исторического нарратива. Тем не менее такое повествование отражает попытку выполнить работу историка.
Таким образом, историография отражает действующие лингвистические предпосылки и ограничения относительно того, чего можно достичь с помощью исторического описания[190]190
См.: Harris, Linguistics of History, особ. с. 1–33. Книга Харриса – это содержательное исследование лингвистических проблем, связанных с созданием исторического нарратива, и аргументированное обоснование авторского подхода, названного интеграционистским. См. также: R. Harris, Introduction to Integrational Linguistics (Oxford: Pergamon, 1998).
[Закрыть]. Многие историки используют вместо этого иные – реоцентрический или психоцентрический – подходы к созданию исторического описания, опираясь на соответствующие представления об истине, тогда как другие применяют контрактный подход, опираясь на когерентную теорию истины. И те и другие сталкиваются со своими проблемами, но каждый подход накладывает на историографию лингвистические ограничения и ставит ей рамки. Эти лингвистические темы редко обсуждаются открыто, как и их влияние на исторические труды. Тем не менее особенно важно то, как используется язык по отношению к миру и как язык, на котором говорят об истории, подобно любому другому, передает сообщение. Как указывает Харрис в своем проницательном исследовании лингвистики истории (заметьте, уточняет он, не истории лингвистики!), нам требуются не релятивизм и не упрощенная историчность – нам нужна «интеграционистская перспектива», в которой «слова представляют собой не ярлычки для вещей или идей, а интегральные компоненты попытки вступить в творческую коммуникацию»[191]191
Harris, Linguistics of History, с. 170.
[Закрыть]. Если это и есть важнейшая лингвистическая основа для успешной работы историографа, данный стандарт следует приложить и к использованию критериев аутентичности в изучении исторического Иисуса. Впрочем, как мы увидим, использование данных критериев часто не соответствует условиям подхода к историографии, принятым в интеграционизме.
Оценка критериев
Я сосредоточу внимание на восьми критериях, но очень вероятно, что это позволит представить довольно широкий спектр тех из них, о которых идет речь на дискуссиях подобного рода.
1. Критерий двойного несходства[192]192
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 70–76.
[Закрыть]. С точки зрения описанной выше исторической процедуры критерий двойного несходства порождает многочисленные проблемы. Если цель истории – дать повествовательное описание прошлого, собрав в едином сценарии коммуникативные эпизоды, то критерий двойного несходства в лучшем случае представляет собой частный метод, а в худшем – вводит в заблуждение, мешая собирать нужные свидетельства и находить обоснования для повествования подобного рода. Исторический метод переходит от использования источников, которые, как считается, содержат факты, к данным, ставшим повествованием. Иными словами, существующие маленькие свидетельства становятся частью более широкого нарратива, тогда как критерий двойного несходства есть движение в ином направлении, от предполагаемого всеобъемлющего знания об окружении к минималистскому результату – возможно, такому минимальному, что его невозможно превратить в повествование. Даже когда его используют в критике традиций, этот критерий лишь выявляет уникальные отличия от иудаизма или ранних форм христианства. За этим стоит такая предпосылка: тот Иисус, которого ничто важное не связывает ни с иудаизмом, ни с ранними формами христианства, скорее всего, и есть Иисус истории. Да, такой образ не обладает описательной силой – но это тот Иисус, который почти непостижим и непонятен для своего окружения. С такой точки зрения – по определению предполагающей минималистский подход к источникам – Иисус предстает как тот, кто соответствует своему окружению или составляет с ним единое целое. И более того, этот Иисус оторван и отчужден от первичных источников, по которым мы изучаем его образ. Я уверен, что написать повествование о жизни или учении Иисуса, используя критерий двойного несходства, в прямом смысле невозможно.
Возможно, те немецкие исследователи, которых отождествляют с так называемой «эпохой без поиска»[193]193
Существует стандартное разделение поиска на три периода, но, хотя оно пользуется широкой популярностью, я полагаю, что оно неудачно описывает развитие поиска исторического Иисуса, о чем я еще расскажу в заключении. См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 28–62; W. P. Weaver, The Historical Jesus in the Twentieth Century, 1900–1950 (Harrisburg: Trinity Press International, 1999).
[Закрыть] и с критерием двойного несходства – скажем, Рудольф Бультман[194]194
R. Bultmann, History of the Synoptic Tradition (trans. J. Marsh; 2nd ed.; Oxford: Blackwell, 1968), с. 205.
[Закрыть] – пришли к выводу о невозможности создать такое повествование не потому, будто им не хватало свидетельств как таковых (этих свидетельств хватало их предшественникам, современникам и тем, кто работал после), но из-за метода, первичный критерий которого заставлял выбирать для повествования свидетельства, не обладавшие описательной силой, а возможно, даже уводившие на неправильный путь. Сам Эрнст Кеземан, который, как считают, снова призвал некоторые круги вернуться к этому поиску (утверждение в лучшем случае сомнительное) и наиболее строго определил данный критерий, признавал, что критерий несходства не дает нам ясного представления «о том, что связывало Иисуса с его палестинским окружением и с его возникшей позже общиной»[195]195
E. Käsemann, «The Problem of the Historical Jesus», в кн.: Essays on New Testament Themes (trans. W. J. Montague; SBT 1/41; London: SCM, 1964), с. 15–47, особ. с. 37.
[Закрыть].
Это показывает, что мы вряд ли имеем дело с критерием, подходящим для исторического исследования. По сути, это позитивистский (а не просто гипотетический) критерий, и похоже, в других историографических источниках его не считают надежным инструментом для исторического исследования. Более того, как отмечает Фишер, этот критерий может вводить нас в заблуждение во многих вопросах (например, из-за него историк может задавать себе два вопроса одновременно, бездоказательно считать вопрос заранее решенным или ставить сложный вопрос, на который нужно дать простой ответ) – или, что, вероятно, лучше, в вопросах противоречивых, когда два отличительных признака порождают образ человека, непредставимый ни в каком из миров[196]196
Fischer, Historians’ Fallacies, с. 8, 34. Николас Томас Райт вводит критерий двойного правдоподобия, это попытка сделать шаг в противоположном направлении; см.: N. T. Wright, Jesus and the Victory of God (COQG 2; Minneapolis: Fortress, 1996), с. 131–133.
[Закрыть]. И эти искажения нивелируют перспективу творческой коммуникации, о которой говорят интеграционисты.
2. Критерий минимальной отличительности[197]197
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 79.
[Закрыть]. Критерий минимальной отличительности тесно связан с критикой форм. Он предполагает, что опознаваемые литературные формы обладают стабильной структурой и что аутентичный материал ей соответствует, а вариации отклоняются от правил литературного жанра и потому указывают на то, что перед нами – нечто более позднее. Этот явно минималистский критерий основан на позитивистской идее когерентности, у которой есть два серьезнейших недостатка. Во-первых, когерентность способна создать правдоподобное повествование, но не может показать связи с миром за пределами текста. Во-вторых, данный критерий представляет собой отражение немецкого историзма, поскольку приписывает особый дух литературным формам, используемым в древности в Палестине; при этом интерпретируются данные тексты в рамках немецкой критики форм, за которой стоят такие ученые, как Карл Людвиг Шмидт, Мартин Дибелиус и Рудольф Бультман[198]198
Общеизвестно, что трое основоположников расходились во мнениях, но результаты их трудов привели к возникновению критики форм. См.: K. L. Schmidt, Der Rahmen der Geschichte Jesu: Literarkritische Untersuchungen zur ältesten Jesusüberlieferung (Berlin: Trowitzsch, 1919); idem, «Formgeschichte», RGG (2nd ed.), 2:638–640; M. Dibelius, From Tradition to Gospel (trans. B. L. Woolf; London: Nicholson &Watson, 1934 [оригинал: 1919; 2-е изд.: 1933, издания по-прежнему выходят в печати]); Bultmann, History of the Synoptic Tradition.
[Закрыть]. Неудивительно, что именно этот критерий широко применяли немецкие исследователи исторического Иисуса в первой половине ХХ века, когда немецкий историзм все еще был широко распространен (а может, даже и процветал)[199]199
Расцвет критики форм в Германии пришелся на период, предшествовавший Второй мировой войне, когда немецкий историзм с его представлениями о языке и культуре был неотъемлемой частью подъема национал-социализма. Об историзме см. выше.
[Закрыть]. Исследование форм вне рамок, заданных немецкой критикой форм, показывает, что развитие различных литературных типов имеет куда более сложный характер и, несомненно, требует воспринимать данные с позиций интеграционизма, вопреки обычным постулатам, а не отражать упрощенческий линейный процесс, как того требуют они[200]200
Fischer, Historians’ Fallacies, с. 172–175.
[Закрыть]. Это подтверждает и труд Сандерса, посвященный исследованию (неочевидных?) тенденций синоптической традиции[201]201
E. P. Sanders, The Tendencies of the Synoptic Tradition (SNTSMS 9; Cambridge: Cambridge University Press, 1969). Сандерс указывает на многие недостатки прошлых исследований, основанных на критике форм. О недостатках склонности к обобщению см.: Fischer, Historians’ Fallacies, с. 104–130.
[Закрыть].
3. Критерий когерентности или согласованности[202]202
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 79–82.
[Закрыть]. Данный критерий стал особенно популярен в последнее время, какое бы из двух его наименований вы ни предпочли. Вероятно, лучше отличать эти две идеи друг от друга, а также не смешивать их с третьим понятием: когезией, или структурной связностью (англ. cohesion)[203]203
См. там же, с. 79–80, прим. 39.
[Закрыть]. Когезия есть лингвистическое средство, благодаря которому текст становится текстом, иными словами, это связность различных лингвистических характеристик, создающих единство текста: семантических цепочек, союзов и тому подобных частей. Когерентность (англ. coherence), она же цельность или содержательная связность, характеризует степень понятности текста, благодаря которой какую-либо его часть можно осмыслить в более широких концептуальных рамках. Согласованность (англ. consistency) – это нелингвистическая особенность текста, указывающая на наличие в нем сходных структурных компонентов. В исследованиях исторического Иисуса используются понятия когерентности и согласованности – вероятно, потому, что в них не обсуждаются особые характеристики текста (скажем, дискуссии о подлинных речениях и делах Иисуса часто касаются не конкретных слов или действий, а сути и образцов поведения). В каком-то смысле когезия, структурная связность, могла бы оказаться более удачным критерием, поскольку ее предмет – именно устойчивые текстуальные феномены. И все же при изучении исторического Иисуса термины когерентность и согласованность используются сходно, несмотря на их крайне субъективный характер и на то, что их трудно продемонстрировать[204]204
M. D. Hooker, «Christology and Methodology», NTS 17 (1970): 480–487, особ. 482–483; idem, «On Using the Wrong Tool», Theology 75 (1972): 570–581, особ. 576–577.
[Закрыть].
С точки же зрения историографии главный порок этого критерия заключается в том, что сам по себе он неадекватен как исторический критерий. Чаще всего на когерентность и согласованность или на родственные им понятия гармонии и структурной связности ссылаются при исследовании литературных текстов, не претендующих на историчность или на присутствие в них сведений, подходящих для историка. Критерий когерентности не может служить надежным основанием для интеграционистской исторической модели, поскольку представляет собой только половину уравнения. Он говорит лишь о том, что опознанные элементы могут неким должным образом соотноситься с другими элементами дискурса, – но это вовсе не значит, будто указанные элементы как-то связаны с событиями, произошедшими в прошлом в какой-то определенный момент: они могут быть как фактом, так и выдумкой. Необходимо говорить о конкретных случаях применения такого критерия, чтобы просто предположить наличие некой связи между какой-то определенной характеристикой и тем, что Иисус реально говорил или делал, – и тем более чтобы распознать такую связь или указать на нее.
4. Критерий множественных свидетельств, или метод поперечного среза[205]205
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 82–89.
[Закрыть]. Критерий множественных свидетельств, или метод поперечного среза – это, по сути, два разных, хотя и взаимосвязанных метода: первый касается свидетельств независимых традиций, а второй – того, как об одном и том же элементе по-разному говорят разные источники[206]206
Родоначальники данного подхода: F. C. Burkitt, The Gospel History and Its Transmission (Edinburgh: Clark, 1906; 3rd ed., 1911); C. H. Dodd, The Parables of the Kingdom (London: Nisbet, 1935), с. 26–29; idem, History and the Gospel (London: Nisbet, 1938), с. 91–102.
[Закрыть]. Критерий множественных свидетельств, один из редких примеров критерия, созданного вне сферы влияния немецких исследователей и, в частности, школы критики форм, появился вслед за осознанием того, что некоторые речения Иисуса присутствовали в двух, а то и в нескольких источниках. Эти источники опознали как Евангелие от Марка и источник Q, а вскоре к ним добавились материалы M и L (особые тексты, встречающиеся только в Евангелии от Матфея или только в Евангелии от Луки. – Прим. ред.); кроме того, некоторые библеисты добавляют к числу источников Евангелие от Иоанна и позднейшие аграфы, а порой – даже апокрифические евангелия. Критерий развился, охватив множество форм: притчи, афоризмы, поэтические речения…
В каком-то смысле данный критерий близок к самой сути исторического метода, поскольку за ним стоит вопрос о содержании того или иного источника, как литературного, так и документального. Традиционно источники, которыми пользуются историки, делились на две категории: на дискретные, состоящие из разрозненных частей, и на полные. Критерий множественных свидетельств чуть ли не по определению требует рассматривать источники, по которым изучают исторического Иисуса, как частичные, входящие в более широкие, – и это означает, что о таких следует судить особо. Иными словами, одной из причин появления такого критерия стал тот якобы очевидный факт, что обнаружение в двух или в нескольких источниках эпизода с участием Иисуса или его высказывания повышает вероятность аутентичности находки. Впрочем, это сразу же ставит вопрос о природе самих источников, в которых найдены такие сцены или изречения. Несомненно, рассказывать об этих случаях и репликах стали раньше, чем появился источник. А исследователи исходят из предпосылки «чем раньше, тем надежнее» – хотя и не доказано, будто она всегда верна, и само по себе Евангелие, как источник, может оказаться не менее надежным, чем отдельные первоисточники, которые можно в нем различить. Кроме того, исследователь, используя этот критерий, по умолчанию полагается на определенное решение синоптической проблемы (приоритет Марка). И даже если оставить в стороне тот факт, что в исторических исследованиях, где задействованы внебиблейские источники, Евангелия часто используются совершенно иначе[207]207
Напр.: A. N. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the New Testament (Oxford: Clarendon, 1963), passim. Я благодарен Дэвиду Дангану, поставившему вопрос об отношениях библеистов и историков Античности. Исследования Нового Завета – это крайне сложная многосоставная дисциплина, и тут работы разных направлений обогащают одна другую: скажем, сюда внесли свой вклад историки и лингвисты, исследовавшие такие сложные темы, как историография и лингвистический метод.
[Закрыть], а именно – как отдельные и полноправные независимые источники, то все же в том, что касается развития Евангелий, этот критерий зависит от предшествующего нарратива. Таким образом, этот критерий не без труда выявляет источники и использует их, а поскольку он пытается обратиться к вопросу об их соответствии, он просто относит источники к предыдущему периоду (предположительно – в зависимости от обстоятельств).
5. Критерий феноменов семитского языка[208]208
Porter, Criteria for Authenticity, с. 89–99.
[Закрыть]. Критерий феноменов семитского языка включает в себя как использование особых черт семитских языков, так и отражение характерных особенностей Палестины. Критерий этот в ходу уже довольно долго, и о нем немало дискутировали, особенно на протяжении последних пятидесяти лет, но даже несмотря на этот факт, меня удивляет то, насколько успешно он противостоит критике, отчего широко применяется и сегодня. Хотя многим кажется, что это очень строгий и обоснованный критерий, он, быть может, зависит от исторической теории сильнее, чем любой другой. Критерий феноменов семитского языка – это прямое отражение немецкого историзма, что особенно заметно в работах таких ученых, как, скажем, Гумбольдт, выдвинувший постулаты лингвистического релятивизма, основанного на разнообразии используемого языка. В результате выделялись не только отдельные лингвистические особенности, ассоциируемые с использованием еврейского или греческого языка (хотя определить их труднее, чем принято считать), но еще и особые ментальности, которые им сопутствовали, – с тем расчетом, что сам язык предопределял способность к познанию. Такой лингвистически обоснованный национализм и, следовательно, подобное обособление прямо связаны именно с данным критерием, поскольку всех, кто говорил на семитских языках (даже владея при этом и греческим), сводили в одну группу, предполагая, что их мысли, речь и письменность обусловлены их лингвистическими и этническими истоками. А кроме того, при обращении к этому критерию начинает действовать и дихотомическое взаимоисключающее мышление, которое можно заметить в противопоставлении двух ментальностей: древнееврейской и греческой. Господствующая ментальность, ассоциируемая с критерием семитского языка, часто вносит столь суровые ограничения, что искажает картину античного мира, отчего возникает картинка, изображающая мнимое противостояние евреев всем прочим народам, – хотя сами эти евреи были эллинизированной этнической группой в греко-римском мире, этнически многообразном, но при этом стремившемся к всеохватности. Критерий феноменов семитского языка не только несет в себе ложную логику противопоставления (напоминая нам о лингвистическом релятивизме гипотезы Сепира-Уорфа)[209]209
См.: S. E. Porter, «The Greek Language of the New Testament», в кн.: Handbook to Exegesis of the New Testament (ed. Porter; NTTS 25; Leiden: Brill, 1997), с. 99–130, особ. с. 124–129; ср.: Harris, Linguistics of History, особ. с. 160–167. Гипотеза Сепира-Уорфа связана с ранними мыслями Гумбольдта и его школы.
[Закрыть], но и приводит к ряду проблем при постановке вопросов – скажем, к подмене посылки желаемым выводом или к созданию ложной дихотомии[210]210
Fischer, Historians’ Fallacies, с. 8–12. Мне кажется, на протяжении XX столетия использование этого критерия сильно изменилось. Несомненно, это отчасти объясняется тем, что важнейшие сторонники гипотезы греческого койне достаточно быстро сошли со сцены (Albert Thumb, 1915; James Hope Moulton, 1917; Adolf Deissmann, 1937; см.: M. Reiser, Syntax und Stil des Markusevangeliums im Licht der hellenistischen Volksliteratur [WUNT 2/11; Tübingen: Mohr Siebeck, 1984], с. 2). В результате на протяжении всего XX века, почти до самого его конца, важные эллинистические свидетельства просто не принимались во внимание.
[Закрыть]. Похоже, данный критерий требует для ранней Церкви наличия среды с безраздельным господством семитских языков, – хотя этому нарративу противоречат многие свидетельства[211]211
См.: Porter, Criteria for Authenticity, ch. 4.
[Закрыть]. В итоге очень трудно облечь в единое повествование и рассказы о жизни евреев в греко-римском мире (в который им приходилось интегрироваться и культурно, и лингвистически), и отчеты о их жизни в Палестине, и тот момент, что все самые ранние евангельские материалы передавались на греческом, и тот факт, что Церковь, с точки зрения ее источников и свидетельств, почти с самого своего начала была лингвистическим и культурным феноменом, связанным с греческим языком[212]212
К концу XX века на защиту этого критерия встали трое ученых: во-первых, Морис Кейси, который попытался дать обратный перевод некоторых евангельских отрывков на арамейский (Maurice Casey, Aramaic Sources of Mark’s Gospel [SNTSMS 102; Cambridge: Cambridge University Press, 1998]); во-вторых, Брюс Чилтон, обратившийся к таргумам для создания речевой и тематической когерентности (возможно, лучше все-таки говорить о когезии) (Bruce Chilton, A Galilean Rabbi and His Bible: Jesus’ Use of the Interpreted Scripture of His Time [GNS 8; Wilmington, Del.: Glazier, 1984]); и, наконец, это Крэйг Эванс с его попыткой достичь когерентности в экзегезе (напр.: Craig Evans, «Introduction: An Aramaic Approach Thirty Years Later», в кн.: M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts [Oxford: Clarendon; repr., Peabody, Mass.: Hendrickson, 1998], c. v – xxv, особ. с. xii – xiii, xv – xvii). Однако даже Чилтон не считает, будто эти изменения исправляют ошибки данного критерия, поскольку закономерности, найденные в ходе исследований, могли быть частью традиции почитания Иисуса как Господа (Galilean Rabbi, с. 70).
[Закрыть].
6. Критерий «смущения» (или противодействия редакторскому уклону)[213]213
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 106–110.
[Закрыть]. Критерий «смущения» в своем многолетнем развитии прошел ряд этапов. Он восходит по меньшей мере к работам Кеземана; впрочем, есть указания даже на то, что немцы пользовались им в XIX веке[214]214
Käsemann, «Problem of the Historical Jesus», с. 37; ср.: P. W. Schmiedel, «Gospels», в кн.: Encyclopaedia Biblica (ed. T. K. Cheyne and J. S. Black; 4 vols.; London: A&C Black, 1899–1907), 2:1761–1898, особ. 1881–1883.
[Закрыть]. Тот, кто полагается на материал, противоречащий редакторскому уклону, сталкивается с трудностью: ему необходимо предсказать и «исчислить» соответствующий уклон, а для этого нужен заранее готовый и к тому же теоретически обоснованный набор предпосылок. Кроме того, в таком случае трудно характеризовать Иисуса иначе, нежели это сделали минималисты, которые описали его как человека, чей образ совершенно не походит ни на один из тех, какие отражены во всех литературных источниках, из которых мы о нем узнаем. В результате критерий «смущения» стал более популярным в недавних дискуссиях. Его вторая форма стремится найти такой материал, который должен был бы смущать раннюю Церковь, однако сохранился в ее повествованиях. Данный критерий, как и ряд других, о которых мы уже говорили, историографически не вполне надежен, поскольку создает «отделенного» Иисуса, чьи поступки нетипичны и внушают смущение, – но это форма критерия двойного несходства, равно так же позитивистская и минималистская. Возможно, эти поступки и реплики аутентичны, но они не могут быть репрезентативными. Кроме того, этот критерий полагается на «инвертированное» чувство содержательной связности повествования, на фоне которого некоторые деяния и изречения причисляются к «смущающим» – и прямо предполагает, что существуют ясные и четкие представления об обычном или нормальном поведении Иисуса, на фоне которых можно оценить его «смущающие» дела и слова. Кроме субъективного вопроса о том, что именно смущает последователей Иисуса, тут звучит и вопрос о том, что должно было смущать раннюю Церковь, и данный критерий пытается отыскать точки соответствия, но ему не хватает содержательно связных элементов для создания целого нарратива.
7. Критерий отвержения и казни (или исторической непротиворечивости)[215]215
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 110–112.
[Закрыть]. Критерий отвержения и казни, или исторической непротиворечивости событий, связанных со смертью Иисуса, некоторые нынешние библеисты, изучающие исторического Иисуса, считают наиболее надежным[216]216
Напр.: Meier, Marginal Jew, 1:177; Evans, Jesus and His Contemporaries, с. 13–15.
[Закрыть]. Он в чем-то сходен с уже упоминавшимися критериями когерентности и «смущения» и, быть может, что важнее всего, с критерием несходства, а потому содержит в себе, пусть и наряду с немногими достоинствами, историографические пороки тех критериев. Если говорить о непротиворечивости, данный критерий основан на предпосылке о том, что существуют установленные исторические факты, связанные с Иисусом, которым могли бы соответствовать другие факты: к таким, скажем, относится то, что Иисуса казнили иудейские и римские власти. Впрочем, данный критерий не позволяет утверждать, что те события действительно произошли – он говорит лишь о том, что есть определенные другие события, которым соответствуют упомянутые. В плане «смущения» он должен установить, какое именно действие «смущает», и уточнить, для какой именно группы оно предстает таким: для последователей Иисуса – или для ранней Церкви. Что касается несходства, данный критерий уделяет внимание событиям, связанным со смертью и казнью Иисуса, и изолирует их, предполагая их отличие и их особый характер по сравнению с другими событиями и изречениями в Евангелиях, а потому его направленность носит позитивистский и минималистский характер. В лучшем случае данный критерий может занимать скромное место в историографическом отчете сторонника интеграционизма.
8. Критерий исторического правдоподобия[217]217
См.: Porter, Criteria for Authenticity, с. 116–124.
[Закрыть]. Критерий исторического правдоподобия – это попытка Тайсена и Уинтер преодолеть ограничения всех предыдущих критериев[218]218
См., в частности: Theissen and Winter, Quest for the Plausible Jesus, с. 172–211.
[Закрыть]. Он задействует два класса критериев, каждый из которых подразделяется. Первый класс – критерии правдоподобия последствий, с двумя подкритериями: противодействие редакторскому уклону и содержательная связность источников. Второй класс – критерии правдоподобия исторического контекста, где также есть два подкритерия: соответствие окружению и контекстуальное своеобразие. С помощью данного критерия Тайсен и Уинтер пытались преодолеть минималистский скептицизм критерия несходства и надежно поместить Иисуса в его контекст. Тем не менее этот видоизмененный критерий не умаляет значения иных традиционных критериев, об историографических недостатках которых мы уже говорили. Данный критерий включает в себя такие критерии, как когерентность, редакторский уклон, множественные свидетельства и двойное несходство в модифицированном виде, хотя их позитивистский ракурс, похоже, сохраняется. Все эти критерии едины в том, что каждый из них почти во всем полагается на когерентную теорию истины, а потому их направленность нельзя считать чисто интеграционистской.








