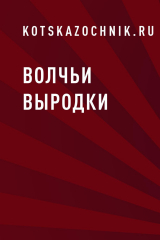
Текст книги "Волчьи выродки"
Автор книги: kotskazochnik.ru
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
– О нём мне известно предостаточно, – заметил Жогов для того, чтобы Бородин не отвлекался, а говорил по существу. – Что с вами дальше произошло?
– Ну, тогда вам, наверное, известно, как там умеют бить и издеваться, – скривил губы Алексей, не обратив внимания на реплику офицера. – Нас с матерью избили до полусмерти! Эсэсовцы отлично знают о таких жетонах и, конечно же, нам на слово не поверили.
– А что вы им сказали?
– Я им сказал, что этот жетон я снял с убитого солдата.
– Так. Что дальше?
– А дальше они очень быстро – у них разведка работает не хуже нашей – установили, что найденный у меня при обыске жетон принадлежит Сашко Николаю Ивановичу… то есть мне! – понизил он голос. – Истязать на какое-то время меня перестали и отправили в Минск, в штаб «Абвера» при дивизии Дерливангера. А когда и там услышали от меня ту же историю, что я рассказал в Сатликовичах, меня и мать отправили в Майценех, чтобы здешние эсэсовские врачи «развязали» мне язык с помощью своих опытов.
– Каким образом?
– Они мне на голову надевали нечто вроде железной колодки, а затем, сдавливая её, дробили мне череп. При этом возле каждого уха стоял огромный динамик, и из них через каждую пару секунд раздавался такой рёв, что создавалось ощущение, будто бы ты находишься в центре взрыва полутонной авиабомбы. Я сразу понял, чего они хотят добиться, – усмехнулся узник. – Если бы этого я не изучал в институте, то вряд ли догадался бы…
– Чего же они добивались? – нетерпеливо спросил полковник.
– Они хотели искусственно создать коммоцию черепа или, другими словами, создать такую контузию, при которой у человека может развиться травматический психоз и его нервная система станет бесконтрольной. В такие моменты человек с тяжёлой контузией начинает бредить и может рассказать всё, что угодно…
– Да, такое у эсэсовцев часто практиковалось, – подтвердил его слова Смоленский.
– Так я же уже сказал вам: состригите с меня волосы и вы увидите, в каких шрамах у меня голова, – опять повторился Бородин. – И вы убедитесь, что я не вру.
– Я тебе и без стрижки верю, – тихо проговорил Жогов. – Продолжай…
На мгновение Бородин остановил свой взгляд на полковнике и посмотрел ему в глаза, желая убедиться в его искренности.
– Как только я понял, чего хотят эсэсовские врачи, я не стал дожидаться, когда они из меня сделают идиота, а сам прикинулся сумасшедшим, – продолжил он, увидев, что офицер не отвёл своего взгляда в сторону. – Какое-то время они за мной наблюдали, слушали мой бред и ту ахинею, которую я нёс целыми часами… В общем, я так усердствовал, что в конце концов убедил их, что я конченный кретин, и тогда они отстали от меня.
– А как же мать пострадала из-за чужого имени, взятого тобою на себя?
– Она так же, как и я, сначала пыталась убедить эсэсовцев, что этот жетон не мой, что я её сын, а никакой не разведчик… А потом уже здесь, в Майценехе, когда она увидела меня сумасшедшим и с ранами на голове, её нервы сдали, и она бросилась на одного из врачей, пытавших меня, – это случилось во время утреннего обхода, когда гестаповские костоломы подбирали для себя подходящие «подопытные объекты» – и пыталась убить его заточенной алюминиевой ложкой, – он замолчал, пытаясь подавить подступивший к горлу ком.
– На, выпей воды, – протянул ему Жогов стакан, в который налил хрустально чистой воды, – и успокойся…
– Она не успела даже ранить этого эсэсовца, когда её в упор изрешетили из автоматов жандармы из личной охраны гестаповских врачей, – делая крупные глотки, продолжал рассказывать Бородин. – И меня в очередной раз захотели проверить, заставив сжечь её в крематории: они хотели посмотреть, как я поведу себя в такой обстановке, какова будет моя реакция! Ведь мы утверждали, что мы мать с сыном, хотя они в это так и не поверили… Похоже, что многие из врачей не верили и в то, что я ополоумел, – он поставил стакан на стол и сделал глубокий вздох. – Я понял, чего они хотят, и разочаровал их: я отправил труп матери в печь так же, как проделывал это с другими трупами – с песней и присвистом!..
Тяжёлая и гнетущая тишина нависла в кабинете над присутствующими после такого рассказа искалеченного бывшего узника концлагеря. И таких судеб миллионы – в голове не укладывается! Все присутствующие с горечью глядели на Бородина. Дорогую цену пришлось ему заплатить, чтобы выжить в концлагере! А уж какие душевные переживания – это уму непостижимо! У Анастасии Ильиничны было настоящее смятение чувств: в душе её царил ад, и она еле сдерживала слёзы.
– В личной карточке записано, что ты, Алексей, находишься в Майценехе с 1941-го года, – прервал гнетущую тишину Жогов. – Это тоже описка?
– Да, здешний доморощенный переводчик был вечно пьян. По-видимому, он был из разряда сентиментальных эсэсовских палачей и плохо переносил то, что творилось в концлагере, – с горькой усмешкой ответил Бородин. – Похоже, что немецкая пунктуальность и педантичность здесь, в Майценехе, проявлялась только во время казней, но никак не при заполнении документов.
– Похоже, что так, – согласился с ним полковник. – Анастасия Ильинична, у вас фотография сына с собой? – обратился он к Сашко.
Женщина трясущимися от волнения руками достала из дамской сумочки фотокарточку и протянула её Жогову.
– Алексей, вам знаком этот человек? – с профессиональной бесстрастностью спросил он, глядя на него в упор.
Взглянув на снимок, Бородин побледнел.
– Так это же Сашко Николай, – едва слышно пробормотал он. – Тот самый разведчик…
И опять воцарилась тяжёлая пауза. Узник с недоумением смотрел на фотографию в руках офицера и вертел головой по сторонам, бросая взгляды на Анастасию Ильиничну и на всех присутствующих в кабинете.
– Вам, Алексей, не надо долго ждать встречи с матерью Сашко Николая, – прервал воцарившуюся паузу полковник. – Она перед вами… Познакомьтесь! – показал он жестом на женщину.
Молодой человек медленно поднялся со стула и очень долго, не мигая, смотрел в глаза Анастасии Ильиничны. Чувствовалось, что в нём шла какая-то борьба: в его глазах стояли такая боль и тоска, что это невольно завораживало присутствующих врачей и самого Жогова. Что касалось матери, узнавшей о гибели сына, то она тоже молча смотрела в глаза Бородина, и по её щекам катились крупные слёзы. Неожиданный поворот событий заканчивался трепетными мгновениями, от которых так щемило сердце. Жогов отвернулся, чтобы не видеть мучительных переживаний двух людей, таких разных и совсем далёких, но в последние минуты так сблизившихся. Поистине, горечь утрат сближает людей.
– Товарищ полковник, я прошу вас: отправьте меня в камеру, – это единственное, что смог сказать Бородин после того, как Жогов представил ему Анастасию Ильиничну. – Мне надо побыть одному… – и на подгибающихся ногах он направился к двери кабинета, за которой стояли два дежурных конвоира.
Полковник не возражал против просьбы узника. Он видел его душевное состояние и приказал конвоирам не только проводить его в камеру, но от его имени отдать распоряжение дневальным, чтобы те увеличили Бородину дневной продовольственный паёк.
– Сам проверю! – бросил он им на прощание свою железную фразу, ставшую в фильтрационном пункте вроде домоклова меча для его работников.
Когда двери кабинета закрылись за Бородиным, Жогов почувствовал неимоверное облегчение. Конечно же, ему было очень жаль Анастасию Ильиничну, но рано или поздно ей всё равно пришлось бы узнать о гибели сына, а тут вдруг всё разрешилось само собой. Он не без удовольствия отметил про себя то обстоятельство, что не стал торопиться и не взял на себя грех преждевременно сказать ей об этом ещё там, в Москве. Хотя та информация о гибели Николая тогда ещё не была подтверждена.
А Анастасия Ильинична молча сидела на стуле и, закрыв лицо руками, беззвучно плакала…
Возвращаясь из фильтрационного пункта в общежитие, женщина молчала. Она не проронила ни одного слова с того момента, когда услышала о смерти сына. Жогов шёл рядом с ней и тоже хранил молчание: он не пытался её разговорить, чтобы отвлечь от мрачных мыслей, так как просто не знал, как это сделать. Да и вообще он чувствовал, что в такие минуты его попытки были бы неуместны. «Надо дать возможность, чтобы перекипела боль в душе, – думал офицер, глядя на мрачное от горя лицо Анастасии Ильиничны. – Хорошо бы ей сейчас принять какое-нибудь успокоительное и уснуть…»
– А я ведь даже не спросила его, где, в каком месте, был убит Коленька, – неожиданно сказала женщина, прервав затянувшееся молчание.
– Это не беда: вы сможете в любое время встретиться с Бородиным и расспросить его об этом, – поспешил отреагировать на её реплику полковник. – А для чего это вам, Анастасия Ильинична? Простите за любопытство…
– Я хочу там поставить памятник сыну, – кротко ответила женщина.
– Завтра я распоряжусь о вашей встрече с ним…
– И ещё выполните одну мою просьбу, Иван Николаевич, – вдруг пылко сказала Сашко. Она смотрела на него тем взглядом, на какой способна только мать. – Не отправляйте его ни в какие психиатрические лечебницы. Я вас очень прошу! Оставьте его под фамилией моего сына, и пусть он так и останется… моим сыном! – с какой-то высокой, огненной интонацией добавила она, против которой нельзя было устоять.
Шёл снег, его крупные хлопья падали на лицо женщины и мгновенно таяли, образовывая хрустальные капельки воды, которые ярко блестели на её раскрасневшихся от волнения щеках. Нет!.. Жогов не имел права отказать ей в просьбе, и он приветливо улыбнулся.
– Видать, Анастасия Ильинична, это судьба так распорядилась: сначала я выбрал вас своим секретарём-переводчиком, потом вы поехали со мной сюда, в Майценех, ну и последнее – вы вновь обрели здесь сына!
– Когда я услышала, как он в первый раз сказал о том, что я найду своего сына, а потом… потом он сказал, чтобы я его приняла в сыновья, – сбиваясь и путаясь, горячо говорила женщина, – во мне как будто что-то перевернулось!..
Жогов испытывал истинное наслаждение от того, что произошло. Казалось, что непоправимое горе, так неожиданно ударившее в самое сердце матери, нельзя ничем залечить, но как стремительно оно получило благополучный исход. И он невольно подумал: «Всё-таки нет худа без добра!..»
ГЛАВА 4.
Следующий день преподнёс ещё несколько неожиданностей. С утра Жогов узнал о постановлении высшего командования, куда он отправлял рапорта о проделанной работе, что дети женщин, работавших на гитлеровцев, также «должны быть интернированы вместе со своими матерями в лагеря для определения их дальнейшей судьбы…» Что это значило в реальности, полковник знал хорошо: все они попадут в лагерные жернова, где их ожидал непосильный рабский труд и … смерть. Таким образом, цель высшего политического руководства будет более чем достигнута: они вместе с так называемыми «выродками» очистят советский народ от детей-последышей «врагов народа», которые, по их мнению, не имели права жить и называться советскими гражданами. Как будто свинцовый груз положили ему на сердце, и на какое-то время он просто вышел из «колеи»: не мог ни работать, ни как следует сосредоточиться на предстоящем деле. Он сидел в отведённом для него кабинете один и находился в каком-то туманном забытье. Анастасия Ильинична в это время находилась в камере своего нового, приёмного, сына. Она отправилась туда, чтобы обрадовать его неожиданным её решением и желанием полковника помочь ему вернуться к нормальной жизни…
Из оцепенения офицера СМЕРШа вывел появившийся в дверях кабинета Суворов. Вопросительный взгляд Жогова заставил его потоптаться на месте, затем он пропустил в кабинет того пожилого антифашиста Эриха Крамера, который помог полковнику отыскать фильтрационный пункт Майценеха, и смущённо сказал:
– Товарищ полковник… Иван Николаевич, он уже вторые сутки добивается встречи с вами. Примите старика. Он говорит, что у него к вам есть очень серьёзный разговор… Не сочтите за труд, уважьте!..
– Уважу, – ответил Жогов. – Пусть проходит и садится. Объясните ему, – попросил он Суворова. – Я, как видите, без секретаря-переводчика… Пусть подождёт немного, если никуда не торопится, она сейчас должна подойти с минуты на минуту… Спросите, чего он от меня хочет, – через мгновение добавил Жогов, увидев, какое нетерпение испытывает старик.
– Честно говоря, Иван Николаевич, я лучше понимаю, чем говорю, – откровенно признался комендант. – У меня такое произношение, что мне в пору только с пьяным немецким поваром говорить…
– Ну, хорошо, хорошо! – вяло махнул рукой полковник. – Я вас не задерживаю… Вижу, что вам некогда…
Суворов, и правда, торопившийся в расположение комендантского гарнизона, покинул кабинет, и полковник остался наедине со стариком. Вид у немца был решительный, чем он вызвал у него искренний интерес, и на какое-то время Жогов забыл о терзавшей его мысль печальной новости. Через минуту после ухода Суворова вернулась Сашко, и они сразу приступили к разговору с Эрихом Крамером. То, что услышал он от немца, потрясло его не меньше, чем утренняя новость об интернировании бывших военнопленных детей, приравненных к статье «выродков», в российские просторы ГУЛАГа. Оказывается, в особый отдел гарнизона и в прокуратуру военного трибунала пришло распоряжение, что и немецких подростков «гитлерюгенда», особо «отличившихся» подрывной деятельностью после подписания договора о безоговорочной капитуляции, направить в спецлагеря для военнопленных немцев, расположенных на территориях советских республик.
– Я вас очень прошу, помогите! – задыхался от возбуждения Эрих Крамер, – У меня, кроме этих двух племянников-недотёп, больше никого нету!.. Ни единого родственника! Сын попал в плен на восточном фронте под Сталинградом… Жена и дочь попали под бомбёжки!.. Остальные родственники погибли так же… похоронены под руинами собственных домов!.. – запинаясь, говорил скороговоркой немец так, что секретарь не успевала за ним переводить.
– И что я могу сделать? – удивился Жогов напористости старика. – И с чего, собственно говоря, вы взяли, что я смогу помочь вам?!
– Я уже слышал от работников комендантского гарнизона и фильтрационного пункта, что вы очень порядочный человек! Об этом все говорят! Вы защищаете заключённых фильтрационного отдела!.. – просто и без тени смущения высказал старик.
– Очень лестно слышать такое про себя, – полковник улыбнулся и встретился взглядом с Анастасией Ильиничной. – Ну, а что вы на это скажете?
Она пожала плечами, и на её губах тоже появилась улыбка.
– По-моему, слухи о вас вполне справедливы, – спокойно сказала Сашко.
– Ну, и чем же я могу вам помочь, господин Крамер? – снова обратился Жогов к немцу.
– Сделайте так, чтобы моих племянников оставили здесь и не отправляли…
– Вопросами по отправке я не занимаюсь, – перебил его Жогов. – Этим занимаются «Особый отдел» и комендант гарнизона.
– Я знаю! – взволнованно выдохнул Крамер. – Сейчас комендант составляет списки, и я видел… там больше трёхсот подростков!.. Все говорят, что вы из какого-то другого «Особого отдела», что все вас здесь боятся… и комендант тоже! Вы только прикажите…
– Это распоряжение поступило от вышестоящего начальства, – отчеканил своим железным голосом Жогов. – И отменить его я не в силах!
У немца из груди вырвался судорожный выдох, и он обмяк.
– Я понимаю, – тихо сказал он. – Сначала ваших людей фашисты отправляли в рабство в концентрационные лагеря, а теперь вы гоните… – он осёкся, закрыл глаза и тяжело вздохнул. – Я понимаю и вас, и ваш народ… И всё-таки помогите! – словно в судорожной агонии, вырвалось у него. – Помогите!..
Жогов видел, что никакие доводы не убедят старика. Он задумался и помрачнел: «… в рабство! – пронеслось у него в голове. – Он думает, что мы всех, кто держал оружие против нас, включая и детей-подростков, отправляем в рабство, но уже в наши, советские, концлагеря… А ведь он прав!» – получила неожиданное завершение его мысль.
– Он прав, – тихо пробормотал себе под нос Жогов и опустил глаза, чтобы не смотреть на душевные переживания старика-антифашиста.
Ему вдруг представились большие колонны маленьких военнопленных немцев и вместе с ними ряды детей разных возрастов, которые по независящим от них причинам стали врагами собственного народа! «Господи, как это назвать? – снова подумал полковник. – Это же самое настоящее сумасшествие! Словно всех гонят в ненасытную пасть Молоха!» Теперь он закрыл глаза, последовав примеру Крамера, и вспомнил, как ему пришла в голову идея спасения этих несчастных детей. Он едва сдержался, чтобы не рассмеяться истерически: так ничтожна и абсурдна до наивности показалась она ему в этот момент. «Как непростительна моя глупость! – вертелось у него в голове. – Я позволил эмоциям захлестнуть себя… Это я-то, разведчик!.. Пришёл к этой почтенной женщине и уговорил её!.. А что я, собственно говоря, могу сам?!.. Ну, смогу я достать пару-другую паспортов или удостоверений личности, и всё!.. Тем более что малолетним детям паспорта не нужны!.. – он вспомнил, как недавно просматривал досье немецкого фабриканта Оскара Шиндлера, спасшего вопреки приказу Гитлера тысячи евреев. – А я же хотел спасти множество жизней, как немецкий фабрикант Шиндлер, на счету которого тысячи спасённых жизней… Но как? – хлестала его жестокая мысль. – Я ведь даже не продумал механизма их освобождения!.. Шиндлеру было проще: евреи ему нужны были для работы…Я не фабрикант, и у меня нет отдельно взятого лагеря, куда я мог бы отправить всех этих несчастных для их последующего освобождения… Оказывается, мне это сделать попросту непосильно и невозможно!» – с горечью завершил он свои раздумья, открыл глаза и с грустью посмотрел на старика, пребывавшего в молчаливом ожидании.
– Прости, старик, – тихо проговорил полковник. – Я ничем не могу тебе помочь.
– А отправить меня с племянниками можете? – вдруг снова оживился немец.
– Зачем?
– Они ещё совсем дети, и без помощи взрослого им будет трудно, – запальчиво ответил Крамер. – Тем более в чужой далёкой стране… Я и сына своего поищу!.. Он ведь тоже попал в плен… Я уже говорил…
– Странно… Вы антифашист, а ваши родственники и сын… – запнулся Жогов, не желая обижать старика. Он знал, что подобные случаи среди немцев крайне редки и могут восприняться с обидой или непониманием этим горячим антифашистом: ведь родственников у него, кроме двух племянников, не осталось. –Я подумаю и что-нибудь попробую предпринять, но ничего не обещаю, – поставил он точку в разговоре.
Но и этой фразы хватило, чтобы воодушевить старика: он преобразился, и в его глазах снова появился огонёк надежды. Жогову сразу вспомнилась Сашко на первом приёме – у неё были точно такие же глаза! И вот пожалуйста: какое странное и неожиданное стечение обстоятельств!.. Проводив взглядом удалявшегося из кабинета немца, офицер повернулся к женщине и грустно улыбнулся.
– Вы знаете, Анастасия Ильинична, я только что по-настоящему осознал, что всё мною задуманное – ничего не стоящая авантюра! – в его голосе звучали виноватые нотки.
– Почему?
– Потому что… потому что я безрассудный и наивный идиот, возомнивший о себе, что я всесилен! –с горечью выдохнул он. – И, вообще, зря мы сюда приехали…
– Нет, не зря! – с металлическим звоном отреагировала на его слова секретарь-переводчик. – И вы сами об этом недавно сказали!..
– Что сказал? – не понял полковник.
– Что так распорядилась судьба!.. Я узнала о смерти сына и обрела нового!
– Ах, да, простите, – снова виновато произнёс он. – Простите! Кстати, я вот что ещё забыл сказать вам, Анастасия Ильинична: Бородина… то есть вашего, так сказать, приёмного сына Николая, выпустить отсюда, из фильтрационного пункта, не получится.
– Почему?
– Потому что в этом случае мне придётся писать на него рапорт и отправлять его вместе с его документами к своему начальству, – ответил Жогов. – А оно, безусловно, сверит личность на фотографии вашего приёмного сына с фотографией настоящего Николая, которая хранится в архиве… И как будут развиваться дальнейшие события, предсказать несложно… Не забывайте, Анастасия Ильинична, ваш сын был разведчиком, а его фамилия, имя и отчество в настоящее время принадлежат другому человеку – это подозрительно!.. Тем более что многие из начальства знали его в лицо!
– Но мы-то ведь знаем, что и как… и можем подтвердить…
– А вот этого делать совсем не надо! – повысил голос полковник. – А то события могут получить совершенно непредсказуемый оборот!.. И не только для него, но и для нас!.. Подтвердить-то его рассказ мы подтвердим, но надо, чтобы ещё и нам поверили!
– Неужели могут не поверить? – удивилась женщина.
Жогов дёрнул плечами.
– Всё может быть, – тихо сказал он и, выделяя интонацией каждое слово, добавил: – Когда имеешь дело с разведкой, то… всё может быть!
– Что же тогда делать!
– Пусть он остаётся тем, кем он был – бывшим военнопленным и психически больным узником фильтрационного пункта Санько Николаем Ивановичем. Мне проще договориться здесь с врачами, чтобы они оставили всё как есть, чем потом доказывать, что мы не теневые пособники оставленного гитлеровцами «Абвера» в концлагере шпиона-диверсанта! – твёрдо заявил полковник. – А отсюда, я распоряжусь, чтобы его отправили в одну из лечебно-трудовых колоний, где проходят лечение такие же узники концлагерей, как и он… С таких спроса нет! А через пять-шесть месяцев мы его оттуда заберём, оформив на него новые документы. Об этом я позабочусь, можете быть спокойны, – уверил он женщину. – Так будет лучше! Поверьте мне…
Анастасия Ильинична в ответ только радостно улыбнулась. Увидев, что она не возражает против такого решения, Жогов успокоился. Он приступил к дальнейшей работе и теперь думал о том, что здесь, в Майценехе, его ничто уже не задерживает и надо побыстрее разобраться с кипой «Личных дел» заключённых фильтрационного пункта. Мысль о его беспомощности перед задуманным им самим подстёгивала его. Ему было стыдно, что он так позорно заканчивает, фактически не начав, такое благородное дело. Он не хотел больше оставаться даже ни на один лишний день в опостылевших в одночасье стенах Майценеха.
В этот день Жогов проработал до поздней ночи и решил не возвращаться в общежитие, а переночевать в своём кабинете на довольно-таки роскошном диване, обитом чёрной кожей. «Наверное, на нём ночевал не один гестаповец, – думал он, укладываясь на него и укрываясь шинелью. – Как, однако, интересно мир устроен: вчера на нём спал палач, сегодня – освободитель!..» Засыпая, он думал ещё и о том, сколько несправедливости вершится в этом мире – и всё по чьей-то сумасбродной прихоти… «Где же та красота, которая спасёт мир? – думал он. – Разве только красота? А как же мудрость – высший символ человеческого разума!..» – проносились в его голове обрывки мыслей. И он не заметил, как уснул.
Но долго спать ему не пришлось: через час с небольшим к нему в кабинет ввалился Суворов в сопровождении целой свиты дежурных фильтрационного пункта.
– Иван Николаевич, проснитесь, – громко обратился он к спящему, склонившись над его головой и теребя за плечо. – Проснитесь!.. ЧП у нас!
– Что? – не понял спросонок полковник, едва продирая глаза сквозь слипшиеся веки. – Как вы сказали?
– Я сказал, что у нас чрезвычайное происшествие, и я пришёл к вам, чтобы известить об этом! – чётко отрапортовал Суворов. – А заодно и посоветоваться, что делать и как действовать дальше…
Жогов уже пришёл в себя и, усевшись на диване, вяло тёр руками глаза.
– Вы хоть бы толком объяснили мне, что всё-таки произошло, – глубоко зевнул он. – А то ворвались, как… Что случилось-то?
– В секции, где содержатся многодетные женщины… ну те, которые работали здесь, в концлагере, на фашистов… В общем, одна из них свела счёты с жизнью, и что теперь делать с её детьми, ума не приложу, – посетовал Суворов.
– Как это «свела счёты»? – в недоумении посмотрел на него полковник.
– Вот так!.. – развёл руками комендант. – Перерезала себе вены заточенной ручкой ложки на обеих руках, пока дети спали… Что вот теперь делать с ними, ума не приложу, они-то, вроде бы, как и ни при чём, что их мать продалась … Что делать-то будем, а, товарищ полковник?! Ведь теперь, вроде бы, с детей автоматически снимается обвинение в том, что они «враги народа». А отправлять их без матери – так они все погибнут!.. Маленькие ещё совсем…
– Подожди, подожди, Александр Михайлович, – влезая в свои сапоги, остановил его Жогов. – Не строчи, как из пулемёта, а то у меня от твоей скороговорки настоящая путаница в голове!..
Суворов выжидающе замолчал.
– Ну-ка, для начала проводи меня в ту камеру, – распорядился Жогов, – я посмотрю, что там… А потом мы подумаем, что предпринять, – он вдруг почувствовал, как сердце его ёкнуло и что-то необъяснимое обволокло его рассудок.
Поднявшись на второй этаж, они прошли в камеру, в которую полковник ещё не наносил визита. Там, словно запуганные котята, жались друг к дружке пятеро ребятишек, а двое малышей сидели у изголовья матери и теребили её за волосы и за лицо. Один из них совсем маленькими пальчиками открывал мёртвой матери веки и, плача, просил её, чтобы она встала. От увиденного у офицера всё похолодело внутри: женщина лежала на полу в луже крови, и оба малыша, и жавшиеся друг к другу дети также были в крови с ног до головы. По-видимому, они все пытались воскресить мать – их единственную надежду на спасение и жизнь! На стене Жогов увидел надпись, сделанную кровью: «… Я не хочу, чтобы, возвращаясь на Родину, мои дети несли на себе позор своей матери. Я уношу его с собой. Простите меня за всё…» Он развернулся и вышел из камеры. За свою короткую, но насыщенную событиями жизнь он был свидетелем многих событий, но видеть плачущих, вымазанных кровью детей возле трупа матери в луже её крови – к подобным сценам он не мог привыкнуть! Казалось бы, за долгие годы войны должен, но нет! У него у самого кровь стыла в жилах, когда он видел такое… И для него не было абсолютно никакой разницы в такие моменты, кем была до этого мать осиротевших детей, так как эти несмышлёныши ещё, ровным счётом, ничего не понимали в жизни. И грех было сваливать на них вину их родителей. Он смотрел на них просто как на детей.
– Ну так что же будем с ними делать? – вывел его из оцепенения вопрос Суворова.
– Сначала уберите труп из камеры, – ледяным тоном ответил полковник. – Потом приведите её в надлежащий вид и как следует вымойте детей… А что с ними делать, будем решать завтра утром на совещании. Да!.. И постарайтесь успокоить детей, – угрюмо закончил он. – Придумайте что-нибудь, чтобы они не плакали.
В ответ Суворов лишь скривил губы в иронической усмешке и сделал вид, что разговаривает сам с собой:
– Такая задача, пожалуй, окажется нам не под силу, – пробубнил он себе под нос. – Тут, глядя на них, сам едва сдерживаешь слёзы.
И он был прав. Жогов испытывал те же самые чувства, а потому поскорее хотел уйти подальше от детского плача, разрывающего душу. Что ни говори, а они уже сполна хлебнули горя в концлагере, и смерть матери для них – это их смерть! Эта мысль не давала покоя Жогову до самого утра. «Прав Суворов, говоря, что без матери они погибнут, – думал он, лёжа на диване, укрывшись шинелью с головой. – У них и без того шансы на то, чтобы выжить, были невелики, а сейчас и подавно их не осталось. Но что же делать? Согласно приказу, смерть родителей не снимает ответственности с детей, и, следовательно, я должен отправить их в Россию… в ГУЛАГ… А там их поджидает… кривая старуха с косой!» – сверлила его мозг эта мысль. И всё-таки что-то необъяснимое витало в воздухе и подсказывало ему, что именно сейчас, использовав случай смерти матери, детей можно спасти. Именно по этой причине у него ёкнуло сердце, когда он услышал о самоубийстве женщины, и именно по этой причине он раньше времени не стал посвящать Суворова в то, о чём говорится в приказе: – «… вина родителей не снимается с детей в случае их смерти…» Но что это за тонкая интуиция, которая оставалась без ответа?
Жогов так и промучился до утра, не сумев найти реальных очертаний того необъяснимого чувства, которое заставило его сердце сбиться с обычного ритма. Утром он с нетерпением ждал коменданта, чтобы посовещаться с ним, но, к его большому удивлению, вместо Суворова пришёл Эрих Крамер, и полковник не сразу понял, чего тот хочет от него.
– Я, старик, ещё не занимался твоим делом, – откровенно и вместе с тем очень устало признался офицер. – У меня не было времени, ты уж извини, но и сейчас мне некогда: сейчас сюда должен прийти комендант, и я как раз поговорю с ним, чтобы он тебя отправил вместе с твоими племянниками. Зайди часа через полтора…
Немец, услышав перевод, замахал руками.
– Я сам от коменданта, – сказал он.
– Так ты уже сам договорился! – облегчённо вздохнул Жогов.
– Нет, я не договорился. Я пришёл вместо коменданта, – пояснил Эрих Крамер. – Он прислал меня на совещание…
– Не понял, – от удивления брови у офицера поползли вверх. – То есть как?!..
– Утром я пришёл на дежурство в котельную и от сменщика услышал, что сегодня ночью произошло здесь, в фильтрационном пункте, – стал антифашист объяснять причину такого поворота событий и свой визит вместо коменданта. – Я тогда попросил сменщика ещё немного поработать, а сам пошёл к Суворову и сказал ему, что у меня есть много друзей– антифашистов, оставшихся без семей, которые с удовольствием взяли бы русских детей себе… разумеется, оформив официальную опеку над ними, – добавил Крамер после короткой паузы. – Ведь у вас, наверное, тоже есть дети, и вы хорошо понимаете, что без семьи и детей жизнь теряет всякий смысл… Я правильно говорю? – нерешительно посмотрел он на офицера.
При этих словах сердце у Жогова в очередной раз ёкнуло и бешено забилось. Вот, оказывается, то необъяснимое, что витало над ним в воздухе, и он силился понять это ночью: вместе с погибшей матерью по одному документу можно провести и детей – так сказать, сделать из них «мёртвые души», а записать, что мать, прежде чем покончить с собой, отправила «на тот свет» своих детей. «Что ж, вполне правдоподобно, – подумал Жогов. – Тем более что моему начальству будет абсолютно наплевать на то, сколько здесь погибло людей – одним числом меньше или одним числом больше!.. Приготовить такой документ не составит особого труда!» – подвёл он черту в своих размышлениях.
– Скажите, господин Крамер, а почему бы вашим антифашистам не взять к себе на попечение немецких детей, которые остались сиротами? – решил на всякий случай проверить искренность немца полковник. – Их сейчас вон сколько обитает по задворкам и в подвалах разрушенных домов… Откуда такое рвение помочь русским детям?








