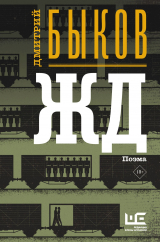
Текст книги "ЖД"
Автор книги: ДМИТРИЙ А. БЫКОВ
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Она жила в Медведкове, у черта на рогах, в доме барачного типа. Дом построили годах в тридцатых, теперь он весь проваливался снизу и осыпался сверху, и, попав к ней в первый раз, Громов чуть с ума не сошел – настолько она не вписывалась в это желтое, двухэтажное, изрисованное матом убожество с вечно пьяными соседями и бесчисленной их родней. Как ни странно, количество этой родни, заселявшейся в Машину коммуналку без спросу и документов, часами занимавшей кухню, ванную и сортир, добавляло соседям наглости: не то чтобы они чувствовали свою неправоту и винились за причиняемые неудобства – напротив, родня придавала им силы; и хотя в Москве они были точно такими же приживалами, как Маша с матерью, в самой своей многочисленности они видели залог успеха, заранее празднуя триумф грядущего завоевания. Необычайно трогательна была взаимная любовь всех этих людей: приезжал брат Коля, долго сидел с братом Мишей на кухне, они тепло смотрели друг на друга, не произнося ни слова – так только, изредка урчание или междометие. Громов нарочно три раза кряду, с получасовыми интервалами, выходил на кухню – якобы вымыть чашку, взять банку варенья – и всякий раз видел одну и ту же картину: сидели друг напротив друга не шевелясь, только в бутылке убывало. «Брат! – гордо кивал сосед на гостя. – Коля!» Коля лучился, как самовар. Его жена, беременная, желто-коричневая, в ситцевом халате, почему-то все время попадалась Громову в коридоре, ее было не обойти, она с горделивой нежностью показывала глазами на свой живот. Они не дрались, не скандалили, но эта молчаливая, полная до краев взаимная нежность была еще хуже беспрерывных драк соседей сверху, которые то и дело ломились к Маше и ее матери – самым беззащитным существам во всем подъезде. Когда однажды Маша отпихнула пьяного соседа и захлопнула дверь перед его носом, он пошел в милицию, заявил, что она его избила, – и милиция долго приходила, разбиралась, допрашивала, проверяла документы; Громов приехал в разгар разбирательства по звонку Маши. Она сидела у стола вся белая и показывала свои документы, договоры, обтерханные справочки, мать с сердечным приступом лежала в постели. Появление Громова ничего не изменило, да и не было у него никакого документа, способного перепугать мента. Пьяная сволочь наверху все это время буянила, и хоть бы кто бровью повел.
В ванне было шершавое дно, прямо над ней ржавчиной капала труба, и по стене, повторяя изгиб трещины, змеился рыжий потек. Над ванной висели бесчисленные черные ситцевые трусы, халаты, тренировочные штаны. Под сенью всего этого березового ситца Громову приходилось отмокать, вода была чуть теплая – плохо работала газовая колонка, с которой ни Маша, ни мать, ни Громов не умели толком сладить. Через десять минут в дверь начинали колотить соседи. Когда Машина мать вернулась с дачи, куда уехала бебиситтером с умеренно новорусским семейством, впоследствии разорившимся и отказавшимся от ее услуг, соседи долго ей пеняли, что у дочери ночует чужой человек. Они боялись, что Громов на кухне жрет их соленья – закатки, как называлось это на их языке. Сами они щедро угощали консервами, но постоянно подозревали, что этих добровольных даяний Громову и Маше мало, непременно по ночам еще жрут, подлецы. Делать им больше было нечего по ночам.
Эти ночи Громов вспоминал с чувством счастья, тем более острого, что рядом все время ощущались теплые братья, дружные с милицией алкоголики и подростковые банды из окрестных пятиэтажек, оравшие до трех часов утра. Из открытых окон тянуло сиренью, влажной землей, дождем, счастье ютилось на крошечном пятачке, осажденное со всех сторон и доведенное до невообразимой насыщенности. «Соскучилась, соскучилась», – бормотала Маша, тычась в него, и душа Громова выла, когда он вспоминал, что ее дом снесли в первые же дни после ее нелепой, скоропалительной эвакуации. Она никогда ничего не боялась, а тут испугалась – потому, вероятно, что давно ждала конца света, и когда война наконец началась, немедленно увидела в ней знак последних времен. У ее матери была какая-то родня на Северном Кавказе. Туда они и побежали, как многие в первый месяц побежали из Москвы – а потом вернулись, поняв, что Москве-то ничего не угрожает: Громов знал из нечастых родительских писем и фальшиво-бодрых газет, что Москва живет обычной жизнью, и если газеты наверняка врали, то родителям это было без надобности. А Маша уехала все-таки снова, и не могла теперь вернуться, потому что занесло ее далеко, да и дом сгорел, подожженый верхними алкашами, – словно только она и хранила его.
Обычно Громов шел к ней дворами, мимо странного красного здания за бетонным забором; Маша жила тут шестой год, но что делается за этим забором – понятия не имела. Как-то он предложил ей влезть в пролом, сам протиснулся следом – и тайна раскрылась, как раскрывались в последнее время все тайны: обнажилось гнойное скрытое безобразие. Там был интернат для детей с врожденными уродствами; не успели они войти во двор красного здания, как невесть откуда выбежали на них эти страшные дети – все в одинаковых синих свитерках, кто с соплей под носом, кто с бессмысленно открытым ртом, кто с заячьей губой, и еще, еще какие-то, совсем уж дикие; окружили их кольцом, задирали головы, мычали и домогались любви. Так встречали тут любого посетителя. Маша пошатнулась и, верно, рухнула бы, если б он ее не подхватил.
Почему они не поженились? И мысли такой не было. Сам этот вопрос казался кощунством. Как можно было жениться, когда все кончается? Оба жили с этим чувством и не ошиблись, как показала война. Любовники в гибнущих Помпеях – красиво, но брачная церемония под пеплом… Громов жил один, снимал комнату неподалеку от родительской квартиры, и привести Машу было куда, но жить с Машей? Заставлять Машу хозяйствовать? Просто притираться друг к другу, как делали до них бесчисленные пары? Он и теперь хотел поехать к ней, добивался отпуска только ради нее, а вовсе не ради родителей, которых вообще намеревался миновать, чтобы не травить душу себе и им: в конце концов, из Баскакова до Махачкалы можно было добраться и мимо Москвы. Но приехать в отпуск – совсем не то, что жить вместе. Она могла брезгливо, почти презрительно брать у него деньги – он понимал эту детскую самозащиту, – но жить с ним не смогла бы никогда, и сам он не пошел бы на это. В браке было что-то недостойное их обоих. Тут стиль был другой – короткие встречи. Жить рядом и притираться значило бы врать, а Маша настолько не совмещалась ни с какой ложью, что после одной его неверной интонации, случалось, отнимала руку, а то и вовсе сбегала со свидания. И ему в голову не приходило сердиться на это – тем более, что свое он обычно успевал получить. Иному пошляку показалось бы, что дело тут известно в чем, а остальное – так, бесплатное приложение; но пошлость потому и пошлость, что всегда останавливается, не доскребаясь до дна и довольствуясь половинчатостью. Да, пусть дело было только в этом, – но ведь и это было так нужно обоим потому, что здесь была правда, а все остальное неправда; эта неправда была даже в них, когда они делали вид, что продолжается обычная жизнь, в которой можно разговаривать, обмениваться новостями, рассказывать о подругах. Ложью не были их редкие выходы в кафе «Маки» – когда были деньги, Маша любила есть, ела много и с наслаждением, не стесняясь этого, и он всегда любовался ею. По тому, как она ест, или выбирает одежду, когда опять-таки случались деньги, или чинит ему рубашку, когда рвалась, – видно было, как она могла бы жить, если бы нашлось где и на что. «Где» – конечно, не в мерзком квартирном, а в более широком смысле: в мире, который не умирает каждую секунду, а если и умирает, то хотя бы чуть достойнее. Все, за что бралась, она делала хорошо и потому почти ни за что не бралась: хорошее тут было не только не нужно – оно ускоряло гибель этого мира, потому что вырывалось из его рамок, рвало истончившуюся ткань, и чем хуже было все, что предлагалось, тем горячей оно приветствовалось, ибо затягивало агонию, длило полужизнь.
Она любила одеваться красиво и ненавидела одеваться по средствам; она предпочитала обходиться вовсе без денег, чем довольствоваться небольшими и вдобавок доставшимися с бою. Другие об этом разглагольствовали, не брезгуя повторением избитостей про «все или ничего», – она так жила, как жила бы королева в изгнании, по древнему кодексу королев не имеющая права пить морковный кофе, если нет настоящего, и потому пьющая по утрам холодную воду – разумеется, из последней чашки, уцелевшей от фамильного сервиза. Он рассказывал ей эту историю и удостоился молчаливой улыбки. Маша вообще говорила мало. Может быть, тогдашний Громов, еще не закалившийся до последней стойкости, и поругивал ее за это презрение ко всем и всему – он толком не помнил сейчас, и пару раз отчитал ее вслух; кажется, вслух. Да, на Воробьевых горах. Она не убежала тогда и даже не обиделась – вероятно, потому, что сердился он по-настоящему: да, это был настоящий гнев настоящего, никем не притворяющегося получеловека, каждодневно ходящего на работу и видящего в этой никому не нужной каторге особую заслугу. А ты не делаешь ничего и еще кочевряжишься! Он тогда в первый раз купил ей брюки, без ее ведома, в порядке сюрприза, – она довольно резко отказалась их взять, сказав, что не одевается на рынках. Ну ты подумай! Ничего не делает и не одевается на рынках! Он принялся издеваться, а она с неожиданной серьезностью начала оправдываться: пойми, я не могу в этом… лучше совсем никак… Он быстро успокоился, поняв, что совсем никак – в ее случае действительно было лучше: на такую наготу надевать блошиные тряпки… Брюки эти он выбросил за парапет смотровой площадки – и тут же к пакету поспешил пьяненький бомж, штатный местный васька, подбиравший бутылки на склоне. Бутылок было много, но неформатные, шампанские, – в пунктах приема их брали неохотно; перед войной вообще стало очень много пунктов приема вторсырья – так умирающий обирается, собирается перед смертью, шарит по одеялу, по рубахе, словно подводя жалкий итог: вот я с чем остался. Васьки в основном и жили сбором вторсырья, и сами были таким вторсырьем, которое перед самой войной тоже начали куда-то собирать, – они вдруг исчезли из города: одни сбежали, других переловили. Громов и тогда, на Воробьевке, с ужасом сказал ей что-то про человеческое вторсырье, про то, как больше всего боится стать им.
– Нет, – решительно сказала она, – это как раз самый первый сорт.
– В смысле?
– Абсолютная чистота порядка. Только эти не врут.
– А я?
– Ты врешь иногда. Мы все врем. Не сердись, – прибавила она. – Знаешь, как в Индии с кастами обстояло на самом деле? Их было три. Жрецы, воины и все остальные. Все остальные заботятся о нуждах низкой жизни. Потом купцы и торговцы всяким рисом сбросились и внесли коррективы. И каст стало четыре: жрецы, воины, просто люди и неприкасаемые. Им было, вишь ты, западло в одной касте с нищими. В каком-то смысле это справедливо. Представление о жизни имеют жрецы, воины и нищие. Все остальные врут. Фальшиво звучит, но чес-слово, так оно и есть.
Она и здесь больше всего заботилась о том, чтобы не звучать фальшиво.
Тогда он причислял себя к жрецам, потому что марал бумагу и пытался разобраться в происходящем; потом понял, что пора записываться в воины. Не то чтобы Громов разочаровался в своих жреческих данных: кое-что он понимал и умел, но время было не жреческое. В Помпеях не гадают по звездам: пелена опустилась, и звезд уже не было видно.
Перед войной настолько не было смысла ни в какой деятельности, что все, у кого был доступ к компьютерам, либо писали бесконечные и бессмысленные ЖД, либо раскладывали пасьянсы. Живой дневник был Громову не нужен – он вообще не понимал, к чему исповедоваться на публику, – а пасьянсов разложил великое множество. Все – и он со всеми – словно спрашивали ответа, что будет, но ответ каждый раз выходил разный. Перед войной в воздухе бродили и сталкивались почти видимые, скользкие, туманные сущности, из которых вот-вот должно было оформиться конкретное – но все никак не оформлялось; ясно было, что на глазах свершается поворот в сторону чего-то жалкого и грозного, кровавого, но страшно неумелого, такого же половинчатого и пошлого, как палач-недоучка. Ясно было, что на полноценный террор не хватит ни времени, ни сил, а тот, который получится, будет смешон и жертвам, и исполнителям – так и будут хохотать, глядя друг другу в глаза у пресловутой стенки; роли были расписаны, но актерам давно надоели, и притом эти актеры не знали никаких других. Надо было или ломать театр, или срочно тренировать в себе святую ярость. И для того, и для другого лучше всего годилась война. Не учли только, что и война будет соответствующая – выродившаяся: ярость нарастала, театр разваливался, а гниль никуда не девалась. Громов знал, что должен доиграть эту пьесу, и доигрывал честно – с тем же чувством, с каким актер в проваливающемся спектакле раз за разом честно повторяет «кушать подано», отлично видя, что премьер пьян, трагик забыл текст, суфлер сбежал еще позавчера, а зрители постепенно, с нагловатой застенчивостью разворовывают бархатные портьеры и обдирают кресла. Роль была простая: встать, сесть, правое плечо вперед, в случае чего умереть по команде или в порядке проявления разумной инициативы.
Маша писала ему из Махачкалы скупо – прямым, мелким, плотным почерком; жизнь там, судя по всему, была несладкая. Она несколько раз ездила туда девочкой и неплохо уживалась с дагестанской родней, местное население относилось к русским с легким презрением, но впрямую пока не нападало, и даже работа была – какая-то канцелярщина, связанная с прижизненным увековечением местного князька. Мать уже не работала, трудно переносила жару, расклеилась, и Маше пришлось браться за эту поденщину, хотя если бы речь шла о ее личном выживании – она ни за какие лукумы и дыни не притронулась бы к редактуре поэмы «Сорок поучений кочевника домоседу» и умерла бы с голоду, улыбаясь. Громов с первого взгляда, с первого ее слова знал, что она найдет в себе силы улыбаться в последнюю минуту. Ненадежная в простейших обязанностях, в выполнении пустячных и суетных поручений, она была непробиваемо надежна в главном, и сколь бы ни было трудно жить с ней – умирать лучше всего было в ее спокойном и дисциплинирующем присутствии.
Постукивало, сопело, тикало. Он стал вспоминать Машу, вызывать ее в тысячный раз, понимая, что при встрече все будет другим и сама она, наверное, другая. Единственный раз прислала фотографию, которую он тут же порвал, – фотография была компромиссом, а компромиссы они ненавидели. Она посмуглела, сильно похудела, снималась в ситцевом цветастом халате. Снимок был блеклый, словно выцветший от жары. Волосы – как всегда, коротко остриженные – выгорели, стала заметней складка у рта, а выражение лица он хорошо знал: ну, посмотрим, что вы все еще придумаете.
Он помнил ее на Тверском бульваре, в шерстяной красной кофте в белую полоску; помнил, как среди долгого, бессмысленного, полупьяного спора – о судьбах и перспективах, разумеется, – она вдруг подошла к нему сама, резко потянула за руку и сказала: «Пошли», и судьбы с перспективами перестали что-либо значить. Помнил ее напряженные ноги и спину, когда она стремительно задергивала занавески на окнах. Помнил ее исчезновения на рассвете, бесшумные, без прощальных поцелуев и тем более записок: иногда он просыпался, но не подавал виду. Помнил весь ее гардероб – очень хороший и очень небольшой. Когда она уходила, сразу становилось невозможно поверить, что она существует, и он еле мог дождаться вечера. Иногда она пропадала на неделю, однажды даже на месяц – и, появляясь, скупо и хмуро признавалась, что опять попробовала жить без него, без всех, но на этот раз еще не смогла; когда-нибудь сможет непременно. Этого он боялся больше всего, хотя и готовился подспудно именно к такому исходу: однажды вдруг выяснится, что ее просто не было. Она слишком была сделана по его мерке, чтобы такое совпадение могло быть правдой. Ему нравилось ее угрюмое немногословие, ее нелюдимость, избавлявшая его от мелочной ревности, до конца все равно не исчезавшей, но хоть не такой острой, как в первые дни; нравился низкий голос с переливом, хотя музыкальность его она всячески прятала и никогда не пела при нем – потому что серьезно занималась пением лет до пятнадцати и бросила, а все, что бросала, – бросала бесповоротно; нравилось, как она нехотя, не сразу, глухо сопротивляясь, забывалась рядом с ним, ослабляла защиту, начинала смеяться, а во сне, когда не могла запретить себе, все-таки прижималась к нему. Он вспомнил все это опять и понял, что спать больше не будет. К утру, может, сон и вернется, но сейчас было только три. Громов натянул сапоги и отправился проверять посты.
4
Он все еще не верил, что уедет. Может, тоскливый сон и был выражением тайной тревоги – Громов не признавался в ней даже себе, но так до конца и не выучился самурайскому равнодушию. Он научился ходить в атаку, почти не думая о смерти, – да и атаки были так омерзительны, что смерть представлялась чуть ли не избавлением; однако легко относиться к отмене отпуска и сопутствующим издевательствам не мог до сих пор. Набор местных воинских добродетелей образовывал кодекс пожестче самурайского – требования подобрались взаимоисключающие и потому невыполнимые; самурай мог бравировать презрением к смерти, ибо утешался величием собственной личности, обожествлял честь и никому не позволял обходиться с собой, как с собакой. Если забывался феодал – самурай мог снести башку и феодалу, предупредив сквозь зубы: «Господин, я исполнен решимости». Местному солдату и младшему офицеру вменялось в обязанность рисковать собой, презирать опасность и быть при этом готовым к любой выволочке от начальства – вероятно, таким образом солдата приучали не бояться противника, потому что неизвестно еще, кто страшней. Противник был зол, коварен, хитер, но расстреливал пленных куда реже, чем свои своих. Солдаты не сдавались толпами только потому, что после этого родне, оставшейся в тылу, был один путь – в лагерь; если бы у этой армии не было заложников, никто уже не поднял бы ее в бой. Некоторые горячие головы из партии «Легион доблести», покрывшей всю Россию сетью молодежных тренировочных лагерей, где устраивались языческие игрища в честь громовержца нашего Перуна, вообще предлагали универсальную программу: призывника – в армию, а всех родственников – в лагерь. Призывник плохо служит – удвоить родственникам норму выработки и срезать пайку, призывник перебежал – расстрелять, а лучше повесить перед строем. Население поделилось бы на тех, кто воюет, и тех, кто сидит, с небольшой верхушечной надстроечкой из тех, кто регулирует потоки. Три касты: жрецы, воины и зэки. Непонятно было, правда, куда девать бездетных – некого призвать и соответственно не за что сажать: разве на сельхозработы… или сразу в расход, чтоб не жрали лишнего. Один русский витязь из одноименного блока, спецназовец, мастерски раскалывавший на трибуне кирпичи, серьезно предлагал расстреливать за бездетность: саботаж роста славянского населения! пособничество азиатам! Потом, когда испарилась исламская опасность, бездетность стали приравнивать к пособничеству Европе, которая и сама вымирала быстрей России.
Громов знал, что долг повелевает ему служить, но знал и то, что выслушивать бесконечные нотации и терпеть позорные выволочки никак не входит в его обязанности. Здрок обожал отпустить офицера и вернуть его с порога: постой, постой, я не все твои документы видел. Это что? Это что, я спрашиваю вас, товарищ капитан?! Я вижу, что это членская книжка добровольного спортивного общества «Буревестник», но я спрашиваю вас, почему у вас не плочены взносы с января месяца?! Вы боевой офицер, вы, может быть, за ребенка нас всех тут считаете? Кр-р-ругом, я вам объявляю взыскание, и отпуск ваш вы будете иметь в дежурствах по части! В дежурствах по части вы будете его проводить, товарищ капи-тан-н-н, нерадиво относящийся к своим обязанностям члена! И офицер заступал дежурным, и еще три недели его имя полоскали на ежеутренних собраниях, которые давно уже из одних этих полосканий и состояли.
Громов проверил промокшего солдатика у склада боеприпасов – в случае нападения такого солдатика хватило бы только на то, чтобы крикнуть по-заячьи, – осмотрел пост у продсклада и направился к штрафному бараку на окраине Баскакова, когда заметил, что его уже кто-то опередил. Около барака, поблескивая мокрой лысиной, стоял Гуров.
– А, капитан, – сказал он устало. – Чего не спится, капитан? Боишься в отпуск не уехать?
Громов пожал плечами.
– Уедешь, уедешь, – рассеянно сказал Гуров. – Ты москвич сам-то?
– Да.
– К родителям поедешь?
– Никак нет, товарищ инспектор. В Махачкалу, к невесте.
– В Махачкалу? Дело хорошее. Кстати, это… – Гуров неожиданно посмотрел на Громова с интересом. – Ты в Москву-то заезжай все-таки, а? Как? Я тебе лишних деньков пять нарисую. Тебя прямо Бог принес. Дело к тебе будет, милый. Ты это, – обернулся Гуров к часовому, – иди валяй. Можешь быть свободен.
– Оставление поста, товарищ инспектор, – робко начал часовой.
– Р-разговорчики! – тонко прикрикнул Гуров. – Совсем оборзели, с инспектором седьмой степени пререкаются! Фамилия!
– Пахарев, – обиженно сказал часовой.
– Трындите много, рядовой Пахарев! Вы будете у меня пять, шесть, пятнадцать караулов подряд вне всяких очередей ходить! К вам из Москвы приехал хер моржовый или кто? Я спрашиваю вас: я хер моржовый?!
– Никак нет, – испугался Пахарев.
– Слава тебе господи, признал. Не хер я. А может быть, товарищ рядовой, я ваш боевой товарищ? По соседству сплю, во сне пержу? Я, может быть, ваш сосед по казарме? Смирно стоять, не расслабляться! – громче прежнего заорал Гуров, да так, что Громов машинально вытянулся и расправил плечи. – Я, может быть, вам солдатская мать или баба ваша, что вы можете тут панибратство разводить? Отвечать, когда спрашивает инспектор шестой ступени!
– Никак нет, – пролепетал рядовой.
– Кру-гом! Кру-гом! Кру-гом! К бою! Лег, отжался! (Пахарев плюхнулся в грязь.) Еще отжался! По-пластунски в караульное помещение ползком шагом марш! На брюхе, падла! Увижу, что встал, сука, – будете у меня сейчас окоп отрывать полного профиля, рядовой Пахарев! Отдыхать, бля! Отбиваться ползи!
Пахарев, смешно задирая тощий зад, пополз под дождем в сторону караулки.
– Пополз, чмо варяжское, – непонятно выругался Гуров. – Ты, капитан, тоже чмо варяжское, ты в курсах?
– Никак нет, – сказал Громов. – Во-первых, товарищ инспектор, я не чмо, во-вторых, не варяжское, а в-третьих, я вам не рядовой Пахарев, который от инспекторского крика обсирается. Я боевой офицер и на вас, крысу московскую, кладу. Внятно ли я выразился, товарищ инспектор?
Если бы ему не приснились стихи и не вспомнилась Маша, он бы, конечно, не сказал ничего подобного, но после мыслей о Маше терпеть гуровское хамство не мог ни в коем случае. Его внезапно подхватила и понесла та же волна, которую он знал по атакам. Громов сейчас не боялся ничего, вдобавок он оскорблял Гурова без свидетелей, и пойди что докажи. Инспектор инспектором, однако пробрасываться боевыми офицерами в штабе явно не были готовы. А хоть бы и были, Громова это сейчас в самом деле не волновало.
Гуров посмотрел на него с любопытством, еще более живым, чем прежде.
– Молодец, капитан, – сказал он с улыбкой. – Достойный ответ боевого офицера. Инспектор проверяет как? Инспектор проверяет разнообразно. Солдат, который не подчиняется, есть плохой солдат, говно солдат. Но офицер, который позволяет на себя тявкать хоть бы и инспектору, есть плохой офицер, дрисня офицер. Заслужил себе пять суток к отпуску, заслужил. Инспекторская проверка – такое дело, не всякий и поймет. Ты мне скажи-ка, некось на голубу дорого возбить оболок?
– Как? – переспросил Громов.
– Я тебе айно аю, расколыть переголяк ли ай за крыльцо перетоптать? – строго спросил Гуров, и Громов, кажется, узнал звуки той речи, которая долетала до него в Дегунине, пока он спал в Галиной избе. – Черешень заступ колубал, ай чекуляку гордубал? Аю ты ни упороса не продавишь, ни сумерек не разломишь?
– Не понял, товарищ инспектор, – пробормотал Громов.
– Добре, – сказал инспектор. – А то, знаешь, доверяй, но проверяй. Мне именно такого, как ты, в данную минуту и нужно. Варяг, как есть варяг, достойный сын Одина, только с легкой человечинкой. Примесь какая-то была, нет? У тебя есть примесь, капитан?
– Не понял, товарищ инспектор.
Громов пристально посмотрел на Гурова. Он явно был пьян и говорил как пьяный, но спиртным от него не пахло.
– Не понял – и не надо. Не всем понятливыми быть, верно? Зачем в армии столько инспекторов? Слушай меня теперь внимательно. Я выведу сейчас отсюда рядового Воронова, которого по моему личному – ты понял? личному! – приказу майор Евдокимов приуготовлял к специальному боевому заданию. Ты возьмешь рядового Воронова и двинетесь с ним в сторону Блатска, что на московском направлении. Далее в деревню Копосово, Плахотского района, это пятнадцати километрах к северу. Не записывай, я инструкцию распечатал, Воронову лично вручу. И там, ежели Воронов все сделает, как надо, ты его возьмешь под мышку и в Москву доставишь к его родителям. После чего действуй по собственному распорядку, никто тебе не препятствует. Хорошо меня понял?
– Так точно, – ответил ничего не понявший Громов.
– Но учти, – сказал Гуров тихо и чрезвычайно серьезно. – Ты помни, капитан, такую вещь. Вы должны быть в Копосове быстро, понял? Вам надо послезавтра там быть кровь из носу, не то поздно будет, капитан. Тогда и Воронов никакой ничего не сделает, если вы там не будете двадцать первого. Поезд туда сутки идет, должны успеть. Должны, Громов, понял ты меня? Встретится тебе там, Громов, вот этот мужчина с девушкой, – Гуров достал фотографию и навел на нее карманный фонарик. Фотографию он держал бережно, прикрывая рукавом, чтобы не намокла. – Ближе рассматривай, не стесняйся. И теперь, Громов, особо внимательно меня слушай, потому что я тебе задание даю. Тебе конкретно, понял меня? Воронова сопроводить – это так, не по делу, ты мне головой, конечно, отвечаешь за Воронова, но это все так. А это уже не так, а суть. Если Воронов придет к тебе и скажет, что извини, мол, товарищ капитан, но никак, – ты должен будешь этого мужчину и эту девушку застрелить на месте, понял меня?
– Никак нет, – сказал Громов. – Я вас не понял, товарищ инспектор седьмой ступени, и расстрелами мирного населения, как боевой офицер, заниматься не буду.
– Будешь, капитан, – сказал Гуров. – Обязательно будешь, иначе в Жадруново пойдешь. Слыхал про Жадруново? Макар телят туда не гонял, куда ты пойдешь.
Гуров стоял очень близко, и Громов прямо перед собой видел его круглые очки, круглые маленькие глаза за ними и блестящую лысину.
– Я тебе приказ на бланке сделаю и к ордену представлю, и будешь у меня в масле кататься. А если не сделаешь, я тебя, Громов, под землей найду и за яйца повешу, понял меня, капитан? И невесту твою найду в ее Махачкале, хотя и не будет к тому времени никакой Махачкалы. Или ты не знаешь меня, капитан? Не слыхал про инспектора Гурова? Ответа не слышу!
– Я по штатским не стреляю, товарищ инспектор, – повторил Громов.
– Ты присягу давал? – спросил Гуров и вдруг подобрался, с доверительного полушепота перейдя на командный голос. – Капитан Громов! Слушайте приказ: в деревне Копосово обнаружить данного мужчину и его спутницу и по сигналу рядового Воронова уничтожить объекты. Приказ ясен?
– Так точно, – ответил Громов.
– Выполнять. Сейчас возьмешь Воронова и с ним немедля отбудешь на станцию. Машину дам мою. Первый поезд на Блатск – в шесть пятьдесят три. Стой здесь, жди.
На секунду он умолк, глядя в землю. Дождь усилился.
– Мало нас, вот что, – сказал Гуров. – Очень мало, пять процентов. Кабы чуть побольше, так и без тебя бы обошлись. Ну да ладно. Я не говорил, ты не слышал.
Гуров вошел в барак. Громов стоял под дождем, не понимая, снится ему все это или происходит на самом деле. Через пять минут Гуров вышел с высоким, тощим и взлохмаченным рядовым. Ремня на рядовом не было. Гуров вручил ему мешок:
– Тут все. На станции оденешься. Документы все на тебя выписаны. Потом останешься в Москве, сиди и не рыпайся. Если в Копосове у тебя не выйдет, доложишься ему, – Гуров кивнул на Громова. – Он тебе во всем первая защита. Ну, алатырь на поступь.
– Доломянем на приступок, – ответил рядовой. – Здравия желаю, товарищ капитан.
– Машина моя у штаба, – сказал Гуров. – Оба марш туда, я сейчас шофера пришлю.
Громов и Воронов медленно направились под дождем к штабу.
– Меня вообще-то Алексеем зовут, – сказал Воронов. Он, кажется, все еще не очухался от внезапного спасения и теперь в избытке счастья готов был фамильярничать со старшим по званию.
– Вас вообще-то зовут рядовой Воронов, – сказал Громов, – и будьте любезны вести себя по уставу.
5
Поезд стоял на станции Баскаково две минуты. Вагон был пустой, только несколько мешочников нахохлились на желтых деревянных лавках, прижав к себе жалкий скарб, словно обернувшись вокруг него.
Воронову очень хотелось разговаривать. Он только что чудесно спасся и все еще не мог прийти в себя от радости. Громов смотрел на него брезгливо, хотя в душе и понимал, что парня чуть не расстреляли без вины, а потому предъявлять к нему претензии жестоко.
– А вы сами москвич, товарищ капитан? – спросил Воронов.
Громов хотел отрезать, что это не его рядовое дело, но вместо этого сухо кивнул.
– Я в Москве уже полгода не был, – мечтательно сказал Воронов. – Мать не видел, девушку не видел… – Ему казалось, что упоминание о девушке разжалобит сурового капитана. Человек, у которого есть девушка, все-таки уже не выглядит полным ничтожеством.
Громов молчал. Он не понимал, почему должен тащить с собой в давно вымечтанный отпуск болтливого труса, да вдобавок с заездом в Блатск, где он вовсе не планировал задерживаться.
– Я сейчас заткнусь, товарищ капитан, – радостно сказал Воронов. – Мне просто, понимаете… я сейчас видел очень хорошего человека. Я и не знал, что такие бывают. А после этого в первое время, сами знаете, очень трудно опять думать, что все кругом вот такие, – он постучал по спинке сиденья. – Ну и разговариваешь, хотя нельзя. Я же понимаю, вы тоже не вот такой. Так что можно бы и сказать какое-нибудь человеческое слово.
Громов опешил от этой наглости и посмотрел на Воронова молча, в упор, как он хорошо умел. Это был натренированный командирский взгляд, но Воронов не отводил глаз, словно пребывание в соседстве смерти навеки отбило у него страх перед земным начальством. По первому году боев – когда, собственно, еще бывали бои – Громов знал эту солдатскую храбрость. По большому счету командовать можно было только необстрелянными – обстрелянные не боялись крика и уважали только компетентность. Поэтому Громов не стал кричать на Воронова, а сказал:






