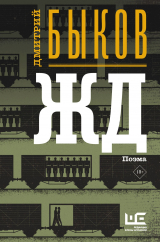
Текст книги "ЖД"
Автор книги: ДМИТРИЙ А. БЫКОВ
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
В остальном ЖД были очень веселой публикой. Они много танцевали под местную музыку – заразительную и яркую, хотя, на волоховский вкус, несколько однообразную, как однообразна яркость восточного базара. И в этом их «веселитесь!» было тайное знание о том, что чем хуже им будет – тем лучше они потом на этом сыграют; каждая новая беда добавляла аргументов в копилку и усиливала чувство тайной правоты; вместо «радуйтесь!» им следовало бы припевать «злорадуйтесь!». И на лицах их во время танца – страстного, почти ритуального – он читал это же сложное сочетание отчаяния и восторга: так нас! так! о, как вам все это припомнится потом! Взглянув в родное Женькино лицо – закинутое, со сдвинутыми бровями, с глазами, зажмуренными от удовольствия, – он и в нем все это увидел; и страшно было подумать, что таким же это лицо бывало в любви. Ох, как мне еще за это отомстится, понял он. Как всегда, почувствовав его взгляд, она открыла глаза и хитро ему подмигнула.
Однажды она повела его на квартирник Псиша Коробрянского. Псиш был ему немного известен по Москве – мультиинструменталист, выступавший в продвинутых клубах, где танцевальные вечера чередовались с филологическими и политологическими дискуссиями (впрочем, на филологических и политологических давно выступали одни и те же люди, ибо влияние политолога на политику скукожилось до влияния интерпретатора классики на текст: оболгать еще можем, но изменить – уже никак). Коробрянский жил между Москвой и Каганатом, много ездил по провинции, играл на синтезаторе, гитаре, флейте, позвякивал бубенчиками, пел то на идише, то на древнеславянском, и в Москве его считали очень заводным. Концерт он давал на квартире своей страстной и, кажется, неплатонической обожательницы Маши Голицыной, считавшейся отпрыском сразу двух аристократических родов: кто-то из князей Голицыных в двадцатые годы скрывался от грозной Чеки под чужой фамилией, служил в учреждении под началом прекрасной еврейки Лизы Каган, влюбился в нее, женился, взял ее фамилию, и гены русской аристократии, смешавшись с генами самой что ни на есть хазарской, дали блистательное потомство. За эту блистательность Лизе простили даже брак с захватчиком. ЖД вообще были снисходительны к смешанным бракам, вот и Женьку не осуждали за Волохова – вероятно, потому, что это тоже было оружием грядущей победы.
Машина старшая сестра преподавала в Штатах, младший брат был в Москве экспертом по живописи двадцатых; он был одним из кураторов антирелигиозной, как называл ее он сам, выставки, на которой экспонировался, в частности, Христос в потеках кока-колы с подписью «Сие есть кровь моя». За этот концептуальный жест младший брат Маши чуть не угодил под суд, зато получил приглашение преподавать сразу в трех крупнейших университетах Европы. В одном из них – Гейдельбергском – он сейчас и читал цикл лекций «Ритуал и стиль».
Сама Маша была крупна, громогласна и ассоциировалась у Волохова с миндалем – миндалевидные темные глаза, миндалевидные красные ногти и духи с запахом горького миндаля, да и пила она амаретто. «Здравствуй, мать!» – «Здравствуй, солнце»; они с Женькой тут же защебетали о неведомых Волохову общих знакомых. В углу обширной комнаты, увешанной венецианскими масками (Маша увлекалась театром и сама недурно делала из папье-маше портреты приятелей и классиков), настраивал гитару сам Псиш – тоже крупный, полный детина с аккуратной лысиной на макушке и длинными темными кудрями вокруг; он ласково улыбался всем входящим. На запястье правой руки у него были привязаны бубенцы, это напоминало тфелин – хазарский мешочек с молитвой. Сам Псиш предпочитал называть свои песенки псалмами, гимнами, а то и просто молитвами, да большинство их и были выдержаны в стилистике панибратской беседы со снисходительным, чудаковатым, но властным папашей, с которым можно поторговаться и даже поспорить, пока он благодушествует. В них, однако, как-то подспудно чувствовалось то самое, что так мучило Волохова во всех хазарских планах: ощущение чужой временности и своей вечности.
О происхождении псевдонима московского концертуалиста, как называл себя он сам, говорили разное. Псиш – это как бы душа, но мужского рода, снисходительно пояснила Маша; Короберь – название хазарского местечка, откуда происходили предки Псиша. Он проповедовал – хотя и шутовски с виду, но в душе, как уверяла Маша, вполне искренне – возвращение именно в местечки, штетл, с их особой культурой. Его сетевое сообщество собирало воспоминания о тамошних традициях и фольклоре. Псиш уверял, что идиш органичнее и попросту понятнее иврита: «В конце концов, – объясняла Маша, – это язык хазар, вынужденно ушедших в Европу, язык ашкеназов, как доказано у Кестлера, живое свидетельство нашего изгнания». Были, правда, люди, утверждавшие, что идиш древнее всех европейских языков – это истинный первоязык Иудеи, на котором говорили повседневно, а богослужебные и священные тексты писались на иврите, бывшем достоянием немногих жрецов. Сначала идиш – удобный и рациональный – усвоили римляне, поработившие Иудею, а потом от него произошли все романо-германские языки.
Псиш не заходил так далеко, считая, что идиш был вынесен хазарами из Германии, где они укрылись после разгрома. Ему было жаль терять этот чудесный жаргон, на котором написаны лучшие хазарские тексты от Паркиша до Фингера. Древнеславянских песен у него было меньше – Маша объясняла их появление особой толерантностью Псиша. Да, захватчики, но в те времена в их боевом примитивном фольклоре было хоть что-то огненосное. «О, Велесе! Я в лесе», ну, и прочие языческие прибамбасы.
Все это Маша излагала еще до концерта, при первом знакомстве. Теперь Волохов созерцал псалмопевца лично. Тот представлял новый альбом «Душечка», названный так по песенному обращению к собственной душечке, Психее, Псише. Душечка вызывала у Псиша чрезвычайно теплые чувства. Он по-розановски предлагал ей: «Гуляй, славненькая, гуляй, тепленькая!» – после чего повторял то же самое на идише, а в конце обращался уже к «божечке», прося «потерпеть немножечки». Прочие песни из альбома поражали языковым смешением – старославянизмами, французским и английским. Псиш, сообразно собственной концепции, стирал границы. По неотступным просьбам собравшихся была исполнена «Пизда-матушка» – «моя главная песня о Родине», как пояснил Псиш под общий хохот. «Ах, Пизда-матушка, Пизда Ивановна, – пел он глубоким крестьянским басом, – ах, сколько ты есть глубока, ах, сколько ты есть широка… пи-и-зда… пиззз-да…» Далее перечислялось все, что в ней помещается, включая Русь, Каганат и самого исполнителя.
После концерта Псиш с той же ласковой улыбкой выслушивал восторги. Волохов молчал, чувствуя себя совершенно неуместным на этом празднике жизни. Восторженный толстяк Ося Бакулин в порядке тоста зачитал собственное трехстраничное эссе о Псише – разумеется, с подробно прослеженной «интертекстуальностью», писанное на тартуском птичьем языке с вкраплениями мата.
– А вам понравилось? – спросила Маша.
– Очень не понравилось, – сокрушенно произнес Волохов. Он ответил тихо, но в этот момент эссеист как раз замолчал, набирая воздуху, и все услышали неприличный ответ.
– Один из всех нашелся честный человек, – ласково сказал Псиш, снимая неловкость.
За столом засмеялись, но Маша не на шутку обиделась.
– Что, действительно? – переспросила она.
Волохов понял, что терять нечего.
– Очень, – кивнул он. – По-моему, это совсем плохо.
– По-моему, тоже, – радостно сказал Псиш. – А они никто не хотят верить.
– Да ладно, – сказал Волохов. – Вы же так не думаете, Псиш. Вам очень нравится. И все у вас получится.
– Что получится? – не понял Псиш.
– Все. Ну, вот это. Все, что вы хотите сделать с литературой.
– Я ничего не хочу делать с литературой, боже упаси! – поклялся Псиш, прижимая руку к груди и звеня еще не снятыми колокольчиками.
– Нет, хотите. Вы хотите, чтобы она вся была такая, по крайней мере большая ее часть. Я уверен, что для себя – и, может, для десятка избранных – вы пишете что-то настоящее, тяжеловесное и торжественное, настоящие псалмы. А для остальных – вот это. Чтобы любое серьезное высказывание воспринималось как моветон.
– А вы откуда, простите? – спросил опомнившийся эссеист.
– А я из Москвы, простите, – ответил Волохов.
– А… ну да. Ну я тоже из Москвы вообще-то, – улыбнулся эссеист, предлагая не придавать его вопросу серьезного значения. Так в компании горожан разговаривали бы с безнадежной деревенщиной, которая, однако, может врезать – так что опускать сельского гостя надо так, чтобы он ничего не понял. Волохов вдвойне обозлился на себя за идиотскую ситуацию, в которую влип.
– Все отлично, Псиш. Мне в самом деле было интересно.
– Всегда пожалуйста, – кивнул концертуалист.
– Нет, погодите! – Маша завелась не на шутку. – Если вы позволяете себе так высказываться, хотелось бы, в конце концов, каких-то аргументов…
– Это вы мне позволяете так высказываться, – грустно сказал Волохов. – Вы же меня спросили, верно? Я вам ответил.
– И на чем основана такая оценка? Я просто хочу понять, в конце концов…
– Да не оценка это! – поморщился Волохов. – Это мнение мое. Имею я право на мнение?
– Маша, ну что в самом деле, – сказал томный юноша из угла. На каждом собрании ЖД был томный юноша – или один и тот же? Волохов вскоре научился распознавать эту хазарскую наступательную триаду: начинает девушка; за девушку вступается томный; после томного вступает решительный и завершает дело. – Ну не понял человек, чакры какие-то закрыты у человека… Не будем же мы здесь, сейчас, за столом, чистить человеку чакры?
У Волохова появилось и, по счастью, тут же пропало желание начистить кое-кому чакры, хотя он никогда прежде не любил драться и презирал тех, кто в пылу спора начинал хватать оппонента за грудки.
– Не будете, конечно, – вступила Женька. – И не будете разговаривать с гостем в таком снисходительном тоне, ладно, Рома?
– Ну, родная… – протянул Валя. – Почему я не могу сказать? Человек высказался довольно резко, человек предполагает же, наверное, что с ним могут не согласиться… Если бы человек читал хотя бы Гадамера, он бы подумал, прежде чем ляпать…
– Он высказался, потому что его спросили. А что будет, если я скажу то же самое? Прости, Псиш, но мне тоже совсем не нравится то, что ты сейчас делаешь. Когда у тебя был блюзовый период, это было мило и смешно, а это уже совсем не смешно и не мило.
– Так. – Псиш посмотрел на нее серьезно. – Я чувствую, что напросился наконец на обсуждение. Мальчики, девочки. Я для того и показываю вещь, чтобы услышать мнение. Никаких обид, честное слово.
– Но тогда надо хоть разговаривать, как серьезные люди! – фальцетом потребовал эссеист. – Нужен элементарный уровень разговора! Что это – нравится, не нравится? Коробрянский предъявил законченную работу, надо судить о ней хотя бы со знанием контекста…
– Ося, – с истинно псишевской ласковостью сказал Волохов. Он уже начал соображать, как бить врага его же оружием. Нужней всего здесь была непробиваемая самоуверенность. – Вы мне не скажете, зачем читать Гадамера?
– Ну, если вы не понимаете, – Ося пожал плечами и возвел очи горе́.
– А вы представьте, что не понимаю. Что я вообще о герменевтике впервые слышу. Представьте себе, многие серьезные немцы Хайдеггера не читали, и ничего, никто не умер. Вы мне можете внятно объяснить, что такого сделал Гадамер? Или вам просто слово нравится?
– Гадамер – гадомер, измеритель количества гадов, – в последний раз попытался Псиш перевести все в шутку.
– А, – сказал Волохов. – Ну да, конечно. Ада мэр. Любитель садомер. Вопрос снят, всем спасибо.
– Я не готов сейчас к лекции, – фальцетом сказал эссеист. – Никто не предупреждал, что будут дети…
– Ну да, ну да, – еще ласковей сказал Волохов. – Все дети, а вы взрослые. Хотите, я вам сейчас скажу, Ося, что такое ваша герменевтика, и ваш Гадамер, и в особенности ваш усатый Лоцман? Простите меня тысячу раз за кощунство. Вся ваша семиотика, и Соссюр, и структурализм, и тартуские сборники, с точки зрения нормального соседа-гуманитария, – вы не забывайте, друг мой, истфак ведь в том же первом гуманитарном корпусе… У нас знаете как шутили? Хорошую вещь Соссюром не назовут! Все это дешевый способ подавлять собеседника, система переименований, жалкие понты, банальный перенос каббалистики на вещи, которые каббалистикой не исчерпываются. Поэтому вы так любите ритуалы и прочие магические штучки, а также книжки про тайные общества и эзотерические братства. Все это, знаете, попытка сажать огурцы посредством геометрических вычислений. Знаете такую сказку?
Все молчали, демонстративно не глядя на Волохова, но это его уже не останавливало.
– Вы «Магизм и единобожие» читали? Там это подробно прописано… У всей вашей филологической каббалы довольно низменные цели – тот же самый эзотерический язык, чтоб чужие боялись, все черты секты… И главное – презрение ко всему, что не секта. Я только не понимаю: вы действительно хотите, чтобы вся литература перестала существовать, или кое-что оставите? Из того, что нравится вам лично? А, да, забыл. Тут же еще и фрейдизм, тоже ваша вера. Получаем, значит, такой синтез: с одной стороны, всем управляет срамной низ, а с другой – ритуал. Ничему божественному и просто хорошему вообще места не остается. Мне особенно нравится ваша манера излагать, этот ваш новый РАПП, с первых фраз уничтожающий оппонента. Но это все потому, Ося, что оппонент до времени молчит, подавленный количеством иностранных имен и непонятных слов. А потом он в один прекрасный день устанет от ваших толкований слова «хуй», инцестуозности, интертекстуальности – и скажет вам открытым текстом, что и литература ваша, простите, говно, и наука, ее обслуживающая, не лучше. Простите мой французский, но у Псиша в текстах и не такое случается. Нос не надо драть, Ося. Вы поняли меня? Га-да-мер, – передразнил он. – Я знаете где видал вашего Гадамера? И Лоцмана? И что вы имеете на это возразить?
– Господи, да кто же будет возражать? – снова возвел очи к небу Бакулин. – Дикаря привели в кают-компанию, показали компас, дикарь на него помочился – что тут возразишь? Чтобы спорить, надо, чтобы оба собеседника по крайней мере знали слова…
Псиш оглушительно захохотал.
– Женя, – сказал томный из своего угла. – Женя, зачем ты водишь в кают-компанию дикарей, которые мочатся на компасы?
– По-моему, вы обидели девушку, Роман, – улыбнулся Волохов, прибегая к любимому приему ЖД.
– А-а, – протянул томный. – Ну да, конечно. Можно, я не буду отвечать? – отнесся он к хозяйке. – Мне скучно, мебель хрупкая…
– Да, действительно, – поддержал юношу его сосед справа, бровастый, с ярким румянцем. – Давайте пить чай. Маша, солнце, что к чаю? Я весь день жду и трепещу!
– Ну ладно, – сказала Женька. – Вы тут посидите еще, помажьте компас жертвенной кровью, а мы с дикарем пойдем, пожалуй.
– Но я не понимаю! – внезапно обрела дар речи Маша. – Я не понимаю, как это можно – вот так прийти и… Есть же, в конце концов… – Она не договорила и бурно разрыдалась.
– Маша! Маша, сердце мое! – подскочила к ней с утешениями толстая очкастая девушка, слушавшая Волохова с таким непримиримым выражением лица, что от ярости, казалось, испарились все ее рациональные аргументы. – Маша, как ты можешь? Ты! Он пальца… он ногтя твоего не стоит! Маша! Из-за кого?!
– Пошли, дикарь, – Женька потянула Волохова к двери.
– Простите, если что, – сказал Волохов уже из прихожей.
– Бог простит, – сказала Женька, когда они спускались по узкой и темной лестнице. – Кажется, теперь меня не ждут и в этом доме… Поразительное место Каганат – все двадцать раз со всеми переругались по принципиальным соображениям. До этого в России ругались, но Россия хоть большая. А тут посрешься с кем-нибудь насмерть – и приходится на другой день мириться. Куда на фиг денешься с подводной лодки? Тесно, все со всеми… Встретимся где-нибудь – придется делать вид, что не было ничего. Я в этой кают-компании раз по десять со всеми так. Во времена размежевания знаешь что было? Раз по пять рвешь отношения навсегда, а наутро как ни в чем не бывало.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.






