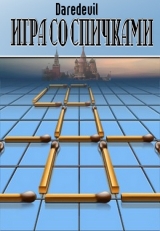
Текст книги "Игра со спичками"
Автор книги: Daredevil
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– К тому, что если бы Вы стали ругать там рынок и американскую демократию, то быстро узнали бы цену тамошней свободе. Никакой полной свободы слова не бывает нигде и никогда! По крайней мере, продолжительное время. Просто там вместо идеологической цензуры – экономическая. А это едва ли не самый поганый вариант. Чем вещь пошлее, тем она выгоднее! Рынку абсолютно наплевать, какие это имеет последствия для человеческих душ. Выгоден разврат – и давайте его сюда! Вы наверно, плохо марксизм в своё время усвоили.
– Меня от него всегда тошнило!
– И потому Вы не знаете и знать не хотите, что при 10 % прибыли с Капиталом можно договориться, 15 % – зона риска, при 100 % Капитал свернёт себе шею, а при 300 % нет такого преступления, на которое бы не пошёл Капитал даже под угрозой виселицы!
– Ох, коммунистка! – вздохнула моя мать.
– Мама, ну скажи, в чём я не права!
– В том, что ты зануда! Слушай, кончай! Давай лучше попоём песенки.
– Но я же не виновата, что он такие песни поёт.
– Маша, мы же договорились, парткомов здесь не устраивать. Проводи свою воспитательную работу где-нибудь на комсомольском собрании.
– Но ведь его туда не заманишь.
– Маша, с тобой просто невозможно! – затем она обратилась к Галицкому, – Вы уж извините нас, пожалуйста, она у нас такая правильная…
– Да ладно, много я таких на своём веку перевидал.
Я была вынуждена замолчать. Мне было ужасно обидно. Как будто мне прощают какую-то вину. А я знала, что с точки зрения своих принципов поступаю правильно. Не могу поступиться принципами, хоть режьте. Но за это не режут, над этим почему-то всегда смеются. Но подо всем, что я сказала в тот вечер, я и сейчас готова подписаться, ведь я не флюгер, который меняет свои убеждения от малейшего порыва ветра.
Когда я спорила с Галицким, я испытывала эмоциональный подъём, но теперь, после, испытывала страшную усталость. Сколько я спорила? Час? Два? Мне очень хотелось убедить не Галицкого, нет, я знала, что это невозможно, но всех зрителей этой драмы. Но убедила ли я их в чём-нибудь? Не знаю и теперь не узнаю уже никогда. Во время спора они молчали и не вставляли реплик. Но было ли это молчание знаком согласия? И согласия с кем? Со мной или с Галицким? Я была так сосредоточена на том, что я говорю, что просто не могла смотреть по сторонам, и потому ничего не могу сказать об их реакции. Хотя в наш спор со стороны было действительно трудно вклиниться, теперь post-factum мне кажется, что «комсомольская зануда» им действительно надоела. Ну почему, почему, когда я пытаюсь донести до людей правду, я бьюсь, как бабочка о стекло? Говоришь метафорично, так отец возражает: «Это недостаточно доказано», перечисляешь сухие факты, так мать сразу «Это скучно, это надоело». Почему же тогда всяких Галицких им слушать не скучно?! Потому что ложь интереснее правды? Или потому что в песенной форме? Конечно, примитивную ахинею проще изложить в песенной форме, чем ту сложную диалектику, которая делает историю наукой. Я порой понимаю муки Кассандры, предсказаниям которой никто не хотел верить. Они казались слишком сложными, чтобы в них вникать. Но почему, почему?
Я сидела в кресле и молчала. Дальше опять пели какие-то песни, кажется, не про политику, а впрочем, я не слушала. После всего того, что он наговорил, я просто не могла наслаждаться даже самыми аполитичными из его песен. Надеюсь, вы меня поймёте. Я думала о том, какой всё-таки след мне удалось оставить в их душах. Они опять молча слушали его, но какие-то сомнения, наверное, я в них заронила. Не сочтите за самодовольство, но и тогда, и теперь мне мои аргументы кажутся убедительней. Однако в тот момент я попросту забыла об одном элементарной вещи. Эта ошибка непростительна для историка, мне стыдно в ней признаться, но я раз уж я решилась рассказать всю правду, то никуда не деться. Я забыла, что для успеха речи вовсе не обязательно, чтобы она была глубоко содержательной. Ведь те, кого считают обычно самыми гениальными ораторами двадцатого века, например, Керенский, Троцкий, Геббельс, зажигали толпу на редкость пустыми речами. Это становится очевидным, если записать эти самые речи на бумаге и попытаться законспектировать: основных мыслей не уловить. Поэтому об их взглядах судят не по речам, а по письменным источникам, то есть по дневникам, мемуарам и т. д. А речь на публику – это своего рода сеанс массового гипноза. А я гипнотическим способностями не обладаю, поэтому спорить было бесполезно. В конце концов, всё перевесил его ореол мученика, хотя в тот момент я об этом не догадывалась.
Я помню, Марина и ещё некоторые гости засобирались домой. Я вышла в прихожую их проводить.
– Ну что, юная спорщица, скажешь? – обратилась она ко мне.
– А разве я в чём-то неправа?
– Ты большая идеалистка, нельзя быть такой!
Прямо как в том мире! Я взглянула на часы. Было пол-одиннадцатого. Но тогда она уходила последняя… А через час часы должны остановиться.
– Да мы, в общем-то, все с тобой согласны, – сказала Катя (не та Катя, что сообщила мне про теракт, а её тезка).
Я улыбнулась. Эти слова звучали для меня сладкой музыкой.
Но когда, закрыв за ними дверь, я вернулась в гостиную, меня опять ждал неприятный сюрприз. Галицкий опять взялся за старое. Из песни, звучавшей в этот момент, я запомнила только припев. Я никогда не слышала её раньше или позже, и потому понятия не имею, чьи авторские права нарушаю, её цитируя, но слова припева там были такие:
Ростовщик, но чужих окраин,
Кредитор, но своих развалин,
Я рифмуюсь со словом Сталин,
Я коричневый город Таллинн.
Я так и застыла в распахнутых дверях. Наверно, со стороны я напоминала гневного ангела. Когда песня кончилась, все как-то смущённо замолчали под моим взглядом.
– Закрой дверь. Дует, – сказала моя мать. Балконная дверца была приоткрыта на щеколду, и по комнате действительно пролетал холодный ветерок.
– Вы опять! – только и сказала я, но дверь за собой всё же закрыла, хлопнув ею чуть сильнее, чем это было бы вежливо.
– Никто не дал Вам права устанавливать здесь цензуру, Мария, – холодно сказал Галицкий.
– А кто дал Вам право восхищаться фашистами?
– А разве Сталин поступил лучше фашистов, когда захватил Прибалтийские республики?
– Если бы он этого не сделал, то они достались бы Гитлеру. В конце концов, там был референдум. Большинство пожелало присоединения к Советскому Союзу.
– Референдум под давлением войск!
– Голосование было тайным, и подтасовок там не было. Я не понимаю, чего Вы хотите. Ведь если бы их сдал Гитлеру Чемберлен, Вы бы, наверное, восхищались им как дальновидным западным политиком. Если бы были живы, конечно. Потому что тогда бы Великую Отечественную мы могли бы и не выиграть! И тогда ваши предки сгорели бы в печах крематория! Вам что, жить надоело, я вас не пойму!
– Тогда бы мне, наверное, пришлось удирать бы в Америку, – задумчиво произнёс Галицкий.
– А Вас бы туда пустили — вопрос большой и зелёный?!
– А почему бы и нет?
– А Вы помните у Ремарка «Ночь в Лиссабоне»? Чтобы получить визу в Америку, нужно было или поручительство какого-нибудь американца, или надо было доказать, что ты крупный художник, поэт, философ, и так далее… То есть доказать, что твоя личность представляет собой ценность. Ни о каком априорном уважении к личности речи нет. Спасти людей только потому, что они люди и хотят жить, американцы не хотели. Чем это отличается от расистской идеи сверхчеловека? Между американской демократией и фашизмом не такое уж большое расстояние.
– Не знаю, Мария, может Вы в чём-то и правы. Но депортациям нет оправдания…
– Вы говорите так, точно был выбор между депортацией и мирной идиллией. Но на самом деле выбор стоял между депортацией и затяжным межнациональным конфликтом. Ведь они же активно сотрудничали с немцами! Всё-таки выслать гуманнее, чем убивать. А выбор стоял именно такой…
– Какая ты жестокая, Маша, – сказала моя мать. В том мире она не могла, конечно, помнить, как во время «Норд-Оста» кричала: «Выслать всех чеченцев, как кулаков!».
– Мама, неужели ты не помнишь, как в детстве, когда мы ссорились, бабушка приходила и говорила: «разойдитесь по разным комнатам!». Ведь тогда просто сделали то же самое, – сказав эту фразу, я тут же поняла, какую ошибку я допустила…
– Хорошая мысль! Маша, пошли отсюда, – тут же жестко сказала моя мать.
– Не пойду, – заупрямилась я. – Сначала объясните, где я неправа.
– Конечно, не пойдёт, – сыронизировал Галицкий, – иначе отчёт, который эта наследница палачей завтра сдаст в КГБ, будет неполным. Не зря она так защищала Сталина. Он, наверное, одобрительно кивает ей с того света, глядя, как она готовится пойти по стопам своего любимого героя – Павлика Морозова. Отправит завтра своего родного отца в тюрягу, не посмотрит, что дал когда-то ей жизнь! Что попишешь – молодёжь не задушишь, не убьешь!
Помню, я чуть не упала в обморок. Ноги стали как ватные, и я бессильно прислонилась к стенке книжного шкафа, стоявшего возле двери. Ведь такое обвинение перечёркивает всё. Если за мной закрепится репутация стукачки, мне – конец. Я уже не смогу никогда нормально общаться с людьми, во всяком случае, в этом кругу.
Раз уж я дала себе слово быть откровенной, то я должна признаться, что кое в чём с его точки зрения я была всё-таки виновата. В душе мне хотелось, чтобы его поскорее вычислило КГБ и выставило обратно на его любимый Запад. Чтобы он больше не смог проводить здесь свою разрушительную пропаганду. Но сама я стучать не собиралась. Может, это выглядит не очень логично, но я просто не смогла бы этого сделать. Как, скажем, убить. Прочитаешь, бывает, в газете историю преступлений какого-нибудь бандита и подумаешь, какой кары он заслуживает. Маньяк и убийца, конечно, заслуживает смертной казни, но многие ли из тех, кто скажет так в сердцах, способны были бы сами привести приговор в исполнение? Думаю, немногие. Странное дело, если бы он был террористом-убийцей и я бы донесла на него, вряд ли кто-нибудь бы осудил меня за это. А то, что он натворил впоследствии, ничем не лучше. Но я ничего не знала тогда о его планах. Я думала, что он ограничится болтовнёй…
Дальше у меня совсем небольшой провал в памяти. Кажется, мама сказала что-то в мою защиту, Галицкий возразил, но что именно, я не помню…Помню только, что потом мама взяла меня за руку и решительно вывела из комнаты. Я была в таком состоянии, что почти не могла возражать. Я только сказала вслух:
– Мам, я не собираюсь ни на кого стучать.
– Я знаю, – ответила она жёстко. Или эта жёсткость в её голосе мне только померещилась?
Мы вышли из гостиной и направились в мою комнату. Как только мы вошли туда, мать плотно прикрыла дверь и уселась по-турецки на мою кушетку, что всегда предвещало серьёзный разговор.
– Ты понимаешь, что так нельзя? – спросила она.
– Что нельзя?
– Нельзя так обращаться с людьми!
– А ты считаешь, что он прав? Во всём? Что это можно – уехать за границу и писать там гадости о нашей стране?!
– В этом, конечно, его падение. Человек слаб и грешен, но всё равно нам его судить нельзя.
– А ему нас можно?
– В конце концов, он много выстрадал. У него в своё время отца сослали. Его КГБ травило. Его из страны выслали. Ты даже представить себе не можешь, что он пережил!
– Могу. Я согласна, что ему было несладко. Но это не даёт ему права предавать свою Родину.
– Он и не предавал.
– А разве то, что он делал, – не предательство? Или, по-твоему, это нормально – расписывать перед иностранцами, какая у нас плохая страна, самая худшая на свете?
– Человек имеет право на ошибки.
– А если они ведут к фатальным последствиям?
– По счастью, не всегда.
– А если это именно тот случай?
– Каким образом?
– Очень просто. Ведь он нас тараканами обозвал! А если мы тараканы, значит, нас можно травить! Дихлофосом!
– Что ты за чушь несёшь!
– Это не чушь! Вспомни Вьетнам!
– Сколько лет назад это было?
– По историческим меркам – недавно!
– Но ведь нам-то это не грозит.
– Потому что наш бронепоезд стоит на запасном пути!
– Вот видишь!
– Всё равно, расписывать, какие мы плохие – нельзя!
– Ты слишком большая максималистка.
– Пойми, то, что такие как он, рисуют нас полными исчадьями ада, даёт моральное оправдание агрессии со стороны Запада. Пусть у них сегодня нет технических возможностей для неё. Кто может поручиться, что их не будет завтра! Такие как он, просто мечтают угробить нашу страну! И я должна это терпеть?!
– Ну, допустим, он во многом неправ. Допустим, ты права. Но всё равно, здесь не место и не время для подобных парткомов. Ты должна перед ним извиниться!!!
– Я? За что?!
– За то, что сказала про «свинство».
– А разве я не права?
– Нельзя так выражаться.
– Я только называю вещи своими именами.
– Какая ты недобрая, жестокая. Ты ради своих дурацких принципов готова человека убить. Послушай! В твои годы я была точно такая же. Правильная, жёсткая, недобрая. Говорю перед тобой как на исповеди. Когда я училась в школе, с нами учился один мальчик. Родители у него работали в посольстве и всё время были в командировках за границей. А он жил с бабушкой. Учился он плохо и получал двойки. А бабушку он обманывал. Он завёл другой дневник, в котором не было двоек и который он ей показывал. А когда однажды его родители вернулись, всё открылось. Был большой скандал. Мы устроили комсомольское собрание. Вызвали его к доске и ругали. Ему было стыдно, он плакал, а мы не понимали, как ему плохо. Потом стали предлагать меры наказания. Предлагали разное: выговор сделать, например. А я встала и сказала: исключить его из комсомола. Единственная из всех! Ты представляешь, какая я была дура! Мне принципы были важнее человека! Живого человека! А когда я сегодня увидела, как ты нападаешь на Галицкого, я вспомнила себя, и мне стало стыдно.
В глазах у неё блеснули слёзы.
Где-то с минуту я пыталась уложить в голове рассказанную мне историю. По поводу неё у меня были сложные чувства. Когда мать была права: тогда или сейчас? С одной стороны, этого мальчика жалко, а с другой – если таких, как он, не исключать из комсомола, они проберутся в партию, например, и станут заниматься очковтирательством там. И в результате – социализм загнивает. И приходит перестройка, а вместе с ней хаос, распад и погибель. Не надо, нельзя этого допускать… Впрочем, если тот мальчик и в самом деле раскаялся, то его можно и нужно было простить. Но как узнать, что происходит у человека в душе? Чужая душа – потёмки. Я когда-то читала фантастический роман, где на планете БрастАк живут похожие на котят брастАки, у которых всего один глаз на лбу, но зато он, как индикатор, указывает на характер хозяина. Если глаз серый или голубой, то значит, это честный брастак. Если зелёный, то так, ни то, ни сё. Если жёлтый, или вообще оранжевый, то значит, перед тобой отъявленный негодяй. Да, в таком мире просто не могло бы быть невинно осуждённых или политиков-обманщиков. Ведь если бы Горбачёв был брастаком, сколько бы он ни говорил правильных фраз о верности идеи социализма и продолжении дела Ленина (а он в своё время говорил их немало), ярко-оранжевый глаз сразу же указал бы на предателя Родины. Увы, тогда этот глаз был виден немногим… А если бы Галицкий был брастаком, какой бы у него был глаз? Всё говорит, что ярко-жёлтым. Только вот как доказать это тем, у кого глаза, я знаю, наивно-голубого цвета. Я не утверждаю, что они ангелы, у них есть свои слабости и недостатки, они недопонимали порой последствий иных своих слов и поступков. Но они никогда бы не стали сознательно творить зло, то есть делать что-то такое, выгодное для себя, но что принесло бы страдания и гибель другим, ни в чём не повинным людям. Даже в наше постперестроечное время большинство людей таковы, хоть они и бессильны что-либо изменить. Ну а при социализме такими были почти все. Благодаря отсутствию насилия и жестокости по телевидению и сравнительной редкости их в жизни, люди в основном жили как в библейском раю – не зная зла. И вот явился демон-искуситель…
– Так что ты скажешь? – голос матери вернул меня к действительности.
– Скажу, что ты кое-чего не понимаешь. Тут просто другой случай.
– Такой же.
– Понимаешь, тебе и всем остальным кажется, что Галицкий, ругая Советскую власть, действует из лучших побуждений. А на самом деле он просто мстит.
– Ну, правильно, у него же отца сослали.
– Да даже если бы расстреляли! Всё равно это месть Кримхильды! Знаешь эту историю?
– Не знаю и знать не хочу. Ты такую чушь несёшь, что просто уши вянут.
– Не чушь! По древней легенде, у Кримхильды братья убили мужа Зигфрида. И она решила отомстить. Она вышла за вождя гуннов Аттилу, а потом направила орды гуннов на своё королевство. В результате – горы трупов, море крови и гибель государства. (Говоря это, я, конечно, думала о нашем кошмарном мире, но, разумеется, она не могла понять намёка).
– Ну и при чём тут мы? Ты хоть думай, о чём говоришь!
– А при том, что он наше государство разрушить хочет. И нам тогда конец.
– Смешно. Правильно отец сказал. Неужели ты думаешь, что у нас государство настолько слабое, что его может развалить несколько инакомыслящих?
– Вирусы тоже маленькие. Однако от них болеют и иногда даже умирают.
– Ой, не могу тебя слушать.
Я старалась переносить брань как можно терпеливее. Ведь я понимала, что в основе всех её выводов лежит незнание. А вправе ли я, благодаря уникальному стечению обстоятельств знающая так много, упрекать кого бы то ни было в том, что он знает меньше. К тому же я слишком хорошо помнила, каково мне было без неё одной в пустой квартире. Мамочка, я тебя очень люблю, несмотря ни на что. Ругай меня сколько хочешь, только не уходи, не умирай, пожалуйста!
– Мама, ну почему ты мне не веришь?
– Дурочка ты заидеологизированная, – впрочем, сказала она это почти нежно.
– Ну, мама, мама. Ну почему ты меня не понимаешь?
– Ладно, будешь ты извиняться перед Галицким?
– Я не могу.
– А можешь, по крайней мере, обещать не спорить на политические темы?
Я на секунду задумалась. Я уже говорила, что не умею лгать. И я слишком хорошо знала себя, чтобы понять: я не смогу сдержать такое обещание. Хотя теперь, когда всё погибло, я иногда сожалею, что не притворилась. Может быть, тогда я бы сумела помешать Галицкому сотворить его чёрное дело. Но теперь уже ничего не поделаешь, поезд ушёл…
– Нет, я не могу этого обещать, – сказала я.
– А раз так, то я тебя туда больше не пущу.
– Как не пустишь?
– А так. Он наш гость, и нельзя, чтобы ты к нему приставала с глупостями.
– Это не глупости, это умности.
– Всё равно, нельзя так приставать к людям.
– Неужели ты так ничего и не поняла?
Она взглянула на будильник и её озарила внезапная мысль:
– Знаешь, Машка, а ложись-ка ты спать, уже час ночи.
– Мама! Ты же знаешь, я всё равно не усну.
– Ты что, хочешь скандала? Хочешь, чтобы к нам гости больше никогда не приходили?
– Ну ладно, ладно, – сказала я и стала стелить постель.
– Не сердись на меня. Тем более, что тебе завтра надо за курсовую садиться. А они до шести утра будут здесь сидеть. А я так не могу. Может, я потом к тебе присоединюсь. Ладно?
– Ладно.
Я обняла её, и мы нежно поцеловались. В душе я её уже простила, да и мне самой уже до смерти надоело «говорить и спорить». Лучше и в самом деле лечь спать. Потом она вышла.
Я действительно легла, но мне не спалось. Нет, я нисколько не обижалась на мать, ведь когда человек действует из лучших побуждений, на него нельзя обижаться, и даже не очень жалела, что была вынуждена уйти. Мне самой надоело спорить про политику. Всё что я могла сказать, я уже сказала, а тут уж им делать выводы. Правда, тут я не обольщалась. Всё равно симпатии большинства будут на его стороне. Впрочем, чёрт со всеми их глупостями. В какой-то степени отец прав. От наших разговоров ничего не изменится. Галицкий скоро опять уедет в свою Америку. Жизнь вернётся в свою колею. Конечно, время от времени они будут слушать радио «Свобода» и читать «самиздат», – и всё. Перестройки не будет ещё долго, может, вообще никогда, это в том мире я вслед за отцом в какой-то степени привыкла смотреть на неё как на фатальную неизбежность. А в этой реальности всё может быть по-другому. Так, как пророчили в советской фантастике: коммунизм победно шествует по планете… И тогда уже не будет вражьей пропаганды, а значит, никто под видом усовершенствования социализма не будет предлагать его разрушение… Никогда, никогда я не ошибалась так жестоко, как в тот момент!
Потом я стала думать о Галицком. И почему ему так надо всё разрушить? Ведь то, что есть – едва ли не лучший вариант из возможных. Правда, он не знал о том, что было бы, и это его в какой-то степени оправдывает… Но всё равно, он глубоко неправ. Я вспомнила, как когда-то давно спросила у дедушки, кто такие диссиденты. Он ответил, что это такие эгоисты, обиженные, которых не устраивает, что многим хорошо, а им плохо и поэтому они хотят, чтобы немногим, в том числе и им, было хорошо, а всем остальным – как придётся. «Дедушки – это серьёзно» – вспомнились мне слова А. Вообще-то дедушка не очень-то одобрял такого рода посиделки, потому что считал, что мы поём исключительно диссидентские песни и поклоняемся диссидентам, как богам. Хотя тот же А., если его попросить, будет петь и «Гренаду» с «Каховкой», правда, при этом у него обычно бывает несколько насмешливое выражение лица.
Я опять подумала о Галицком. Никакой злости на него у меня не было. Я, наоборот, его жалела и чувствовала себя даже в чём-то виноватой. Да, я разрушила мечту его жизни, сделала её невыполнимой, и мне ли не знать, что человек при этом не может не испытывать в глубине души чувства разочарования и обиды. Обиженные… Хорошо, конечно, у Стругацких. СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ! Но увы, слишком хорошо знаю, что это невозможно. И даже волшебные спички тут бессильны. По той простой причине, что у людей бывают противоположные желания, как в той балладе про короля: «тишь да гладь нужна одним, другим – война». Одним нужен социализм, а другим – рынок. А что такое рынок, как не конкуренция, то есть тоже своего рода война? Стремление заработать деньги, обскакав конкурентов, часто сменяется стремлением стать наёмником и уйти воевать за заведомо неправое дело, если на нём можно заработать. Самые активные фашистские палачи были именно из мелкобуржуазной среды. Такие, которым всё равно – людей убивать или колбасу резать, лишь бы это дело приносило прибыль.
Но тогда, убаюканная тем, что у нас теперь всегда будет социализм, я заснула. Сон, который мне снился, был далеко не спокойный и безмятежный. Когда-то давно, ещё в детстве, я видела туркменский фильм про какого-то мальчика. В чём там было дело, я теперь уже не помню, но мне врезался в память один эпизод, где мать рассказывает древнюю легенду, что на луне живёт ведьма, которая только тем и занимается, что пересчитывает песчинки. И каждая из этих песчинок – человеческая жизнь. И когда она пересчитает их все, то сможет уничтожить весь род человеческий. Но всякий раз, когда остаётся совсем немного, прилетает ласточка и смешивает все песчинки. Мальчик всё спрашивал: «А вдруг ласточка опоздает?» И мать успокаивала его тем, что ласточка всегда прилетает вовремя, потому что знает, как это важно. А затем мальчику приснилось, будто он идёт по луне и встречает там лунную ведьму. Мальчик не понимает зла и не может поверить, что можно хотеть уничтожить весь человеческий род. И он просит её уничтожить всех фашистов. А ведьма уничтожила вместо этого всех со словами: «Пусть вся ваша Земля превратится в могилы». И ласточка опоздала. А потом он бежит по кладбищу среди белых могильных плит и плачет, приговаривая: «Бабушка, ну зачем, бабушка, ну за что…». И мне теперь снилось, будто это не он, а я слышу страшные слова про могилы и бегу по кладбищу.
Помню, я внезапно проснулась, как от резкого толчка. Села и поняла, что больше не могу спать. Поэтому я решила одеться и пойти обратно в гостиную. В темноте меня не заметят. Ну а заметят, так что же. Вряд ли у кого-либо, даже у Галицкого, возникнет желание поднимать по этому поводу скандал…
Я вышла в коридор и взглянула на часы. Их не было на месте. И тут меня, как ножом, полоснуло страшное предчувствие. Быстрым шагом я подошла к двери и попыталась её открыть, но, к несчастью, она была заперта изнутри на крючок. Теперь я понимаю, что это было сделано не из-за меня, а чтобы избежать сквозняка. Но тогда мне показалось, будто это нарочно и всё – против меня. Я постучала. Мне никто не ответил. Все были слишком поглощены тем, что происходило внутри. Я прислушалась, и внутри у меня всё похолодело. Галицкий говорил чётко и размеренно:
– Хочу, чтобы 1 мая 1986-ого года пуля, убившая Горбачёва, пролетела мимо. Чтобы перестройка победила. Чтобы тоталитаризм рухнул.
В отчаянии я стала рваться внутрь, в безумной надежде сорвать дверь с петель, или уж, во всяком случае, вырвать с мясом проклятый крючок. В конце концов, кто-то, я даже не разобрала впопыхах, кто, открыл мне изнутри. Я пулей влетела в комнату. Единственное, что я видела перед собой – это Галицкий, стоявший напротив двери с догорающей спичкой в руке. Как мне тогда показалось, он усмехался надо мной, впрочем, за те доли секунды, в которые это всё происходило, было трудно разглядеть и запомнить детали. Я ещё успела крикнула:
– Немедленно! Бросьте! Или мы все погибли!
Но он отвечал мне лишь едва заметной усмешкой.
Я рванулась к нему, но между нами стояла мать, в последнее мгновение мы сцепились, но, впрочем, и без неё уже было слишком поздно…
Как и в тот раз, голова у меня закружилась, я поняла, что падаю куда-то во тьму, кажется, было даже что-то похожее на удушье, и я потеряла сознание…







