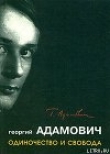Текст книги "Живые лица"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Скоро «Друг» потребовал, чтобы Аня тоже ездила в Ставку. Едут. Не раз и не два. Аня пишет: «Императрица не сознавала, какой нежеланной гостьей была там… Иностранные офицеры во всеуслышание делали замечания: вот она опять приехала к мужу передать последние приказания Распутина». «Свита ненавидела ее приезды; это обозначало перемену в правительстве…»
Даже не веришь, что это Аня такую святую правду написала. Приказания Распутина там быстро исполнялись, а он подваливал новые, телеграммами. В одно из пребываний царицы в Ставке было их послано десять, самых длинных.
Но время не терпит, ведь нужен же министр внутренних дел.
Григорий не забыл Хвостова. Он не верит больше никаким «светлым головам». Ему давай такого, «чтоб был попростее». То есть, говоря обыкновенным языком, – с идиотизмом. Наконец находится такой: Протопопов.[166]166
Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) – министр внутренних дел и шеф жандармов в 1916 г. См. сделанную 29 октября 1916 г. запись Гиппиус о нем: «Надо отметить, что он сделался тов[арищем] председателя Государственной Думы лишь выйдя из сумасшедшего дома, где провел несколько лет. Ярко выраженное религиозное умопомешательство» (Дневники, с. 138).
[Закрыть] Не доверяя больше и Ане, Распутин испытывает его сам; главным образом – таская по своим оргиям, даже московским. Ничего, «ладный»…
В сентябре – свиданье царицы с Протопоповым, при Друге, в Маленьком Домике. Мгновенный энергичный нажим, еще один визит в Ставку – и Протопопов министр. И такой «плотный» министр, каким не был ни один до него. Он (и царь) – власть исполнительная, покорная власти законодательной – Маленькому Домику.
Некий серьезный общественный деятель, вполне разумный, на моих глазах начал истерически хохотать, узнав о назначении Протопопова. А когда нам показали стенограмму «чашки чая» – первого свиданья министра с думцами и политиками, – мы все чуть не впали в такую же истерику неудержимого хохота.
– Да это нарочно! Кто это выдумал?
– Не выдумал, а официозная стенограмма…
Протопопова периодами, на 2, на 3 месяца в году помещали в лечебницу; выйдя, он не сразу опоминался, ходил растерянный, рассеянный, то глупо-предупредительный, то наивно-дерзкий. Его идиотизм был хотя и маниакального свойства, но не в той мере, чтобы при неусыпном бдении нельзя было этого министра «направлять».
Царица и Распутин оценили счастливую находку. Об Ане и говорить нечего. Аня хоть и пишет теперь: «Протопопов мне лично казался слабохарактерным», – но он ей, в сущности, – как брат, как равный по своей «простоте» и покорности. В Маленьком Домике он ей сплетничает насчет «врагов»: Родзянки,[167]167
Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – председатель Государственной Думы; Гучков Александр Иванович (1862–1936) – промышленник, лидер партии октябристов; Трепов Александр Федорович (1862–1928) – в 1916 г. председатель Совета министров.
[Закрыть] Гучкова, Трепова… Оба, раскрыв рты, невинно смеются… Но время не ждет, царица серьезна: «Наш Друг и Калинин (так почему-то прозвали они дорогую находку) умоляют тебя закрыть Думу… Я бы не писала, если б не боялась за твою мягкую доброту, готовую сдаться, когда я, Аня и Друг не поддерживают тебя. Дурные ненавидят наше влияние, а оно на благо. Поскорее распусти Думу. Помни о снах нашего Друга. Тебе никого, кроме Протопопова, принимать не нужно… Брусилов – дурак, запрети ему…»
Как будто чувствуя сдвигающиеся стены ненависти (Распутин – ничего не чувствует, покоен с Протопоповым, предается разгулу, бахвальству, ласкам и баловству дам), – царица начинает впадать в напряжение, близкое к безумию.
Она уже почти не пишет о детях, о доме. О родственниках – только с бранью и с требованиями: «Сошли, вышли, прекрати… ведь ты царь!» О мальчике почти не вспоминает: он в Ставке непрерывно, и какие резоны ни представляет ей француз-воспитатель Жальяр, доказывая, что ребенку это вредно физически и морально, – не слышит. Для нее муж и сын уже странно слиты в одном понятии «царя»; около царя «наследник», как бы утверждающий его бытие. Не разбирается, конечно, и сама в этом кошмаре, но твердит: «С тобой Бэби… Ради Бэби, который тебя должен укреплять, будь самодержцем!»
Распутин для нее давно слился с Христом. «Как Христа, его гонят книжники и фарисеи…» Видятся у Ани почти ежедневно. Днем министры, главным образом Протопопов, вечером – Друг и его (Божьи!) указанья.
Кроме военных дел (они разрабатываются очень подробно) – есть важный внутренний вопрос – продовольственный. Друг настаивает – со Ставкой сноситься некогда – и царица берет решение на себя:
«Прости мне, что я это сделала; но Друг сказал, что это безусловно необходимо». И она посылает в Ставку на подпись срочную бумагу, передающую продовольствие в руки Протопопова, – «прежде, чем соберется Дума. Мне пришлось взять этот шаг на себя, так как Гр. говорит, что тогда Протопопов покончит со всеми Союзами и таким образом спасет Россию».
Дума, союзы… и далее открытое признание: «Мы с ними со всеми в войне и должны быть тверды».
Аня стерлась: она лишь «служба связи» между царицей и Другом. Каждое утро летает к нему от царицы – с портфелем. Но и она чувствует, что атмосфера сгущается, лепечет что-то о заговоре в Ставке, о том, что царицу хотят «заключить в монастырь…». Распутин спокоен. Ему важно одно: чтобы остался Протопопов: «тогда все будет хорошо».
А «подлые рабы-враги», Дума и все остальные, вплоть до некоторых еще не успевших полететь министров, возроптали против бедного «Калинина». До такой дошли «наглости», что стали требовать удаления министра с идиотизмом, министра, у которого оказалось «все в руках».
И письма царицы делаются все бешенее. В них теперь только одно: «Держи, держи Протопопова. Не меняй, не меняй Протопопова». Без доказательств, уговоров, просьб: голое повторенье, по пяти – семи раз в день, одних и тех же слов: молоток по черепу.
Тринадцатого ноября, не стерпев, она опять бросилась, с Аней, в Ставку. Туда, ежедневно, телеграммы Распутина. Темно, то угрозно, то ласкательно, с нарочитым косноязычием, и все о том же: держать «Калинина». «Моя порука этот самый Калинин, а вы его маленько кашей покормите. Дай власть одному, чтобы работал разумом Новый».
Калинина держат, но «рабы» продолжают свои протесты, а царица свой бешеный нажим: «Не меняй, не меняй… Хвати кулаком по столу, не уступай. Царь правит, а не Дума!»
Лишь после краткого визита царя в декабре – царица отдыхает: «Не напрасно мы страдали. Ты выдержал борьбу за Протопопова. Будь тверд, не сдавайся. Я страдаю за тебя, как за нежного ребенка (мальчик опять с ним в Ставке). Ты нуждаешься в руководстве, но Посланец Божий говорит тебе, что надо делать».
Насчет Протопопова царица успокоилась, но бешенство ее тем сильнее обращено на «врагов».
«Наш Друг просил же тебя закрыть Думу, Аня и я тебе об этом писали. Будь Императором. Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом… Львова[168]168
Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – председатель Всероссийского Земского союза, председатель Совета министров при Временном правительстве.
[Закрыть] – в Сибирь. Гучкова, Милюкова,[169]169
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – лидер партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства.
[Закрыть] Поливанова[170]170
Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) – был военным министром с июня 1915 по март 1916 г.
[Закрыть] – тоже в Сибирь…»
Накануне рокового для нее дня она еще пишет: «Почему Милюков на свободе? Почему у нас рамольная тряпка в должности министра Двора?.. Не мешкай, милый, поверь советам нашего Друга и Протопопова…»
Эти советы – репрессии. Что ж, война так война!
Но вот короткое, взволнованное последнее письмо: «Я не верю, я не могу верить, что Он убит… Приезжай поскорее…»
Газеты писали: «Одно лицо было у другого лица еще с несколькими лицами. Первое лицо после этого исчезло; Одно из других лиц заявило, что первое лицо у второго лица не было, хотя известно, что второе лицо приехало за первым лицом поздно ночью» и т. д.
Распутина убили во время попойки. Убили члены царской семьи и крайне правый думский депутат – Пуришкевич.[171]171
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – черносотенец, член Государственной Думы. См. его книгу «Убийство Распутина» (Париж, 1923). Кроме него, в убийстве Распутина принимали участие князь Ф. Ф. Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович.
[Закрыть]
Это убийство было отнюдь не началом войны, но первым актом обороны в войне, которую объявило русское правительство, – фактически правительство Маленького Домика – всем своим подданным. Войне беспримерной: в ней погибли все боровшиеся, с той и с другой стороны. И почти все не боровшиеся – тоже.
На опустелое поле битвы пришли третьи и завладели им.
17
«Прощай, дорогая…»
Июньский вечер; я на том же балконе. Направо, за решеткой, кудрявятся деревья Таврического сада. Чуть виден широкий купол дворца, но это уже не Дума: это «дворец Урицкого». А прямая, как стрела, улица – не улица: зеленая тропа, заросшая травой. Но то же солнце пологими лучами осверкало широкую тропу, – и так же, как три года тому назад (только три года!), потерялся ее конец в золотом тумане.
Босые, полуголые ребятишки роются меж плитами развороченного тротуара. Напротив – грязный, с осыпающейся штукатуркой дом. Окна открыты. На подоконниках лежат – солдаты.[172]172
На подоконниках лежат – солдаты. – См. запись июня 1919 г.: «Все хорошо. Все как быть должно. Инвалиды (грязный дом напротив нас, тоже угловой, с железными балконами) заводят свою музыку разно: то с самого утра, то попозже. Но заведя – уже не прекращают. Что-нибудь да зудит: или гармоника, или дудка, или граммофон. Иногда граммофон и гармоника вместе. Кто не дудит – лежит брюхом на подоконниках, разнастанный, смотрит или плюет на тротуар. […] Инвалиды (и почему они – инвалиды? все они целы, никто не ранен, госпиталя тут нет) – «инвалиды» – здоровые, крепкие мужчины. Праздник и будни у них одинаковы. Они ничем не заняты» (Дневники, с. 23–24).
[Закрыть]
А может быть, и не солдаты. Если те, что тогда, давно, выливались сомкнуто и стройно из-за угла, пели «прощайте, родные, прощайте, друзья» и пропадали в закатном солнце, если они – солдаты, эти – не солдаты. Просто деревенские парни, молодые мужики без дела, неизвестно зачем надевшие трепаные защитные куртки, расстегнутые или без пуговиц.
Навалившись животами на подоконники, мужики плюют на улицу. За их спинами, в комнате свистит и хрипит граммофон. Что-то веселенькое, романсик теноровый, искаженный пластинкой.
Войны больше нет, – войны «с Вильгельмом». Может быть, есть где-то, далеко, в стороне, где солнце закатывается, но чего ж туда смотреть? Солдаты и не смотрят, смотрят вниз, на тротуар, куда плюют. У них с Вильгельмом теперь мир, а если «похабный», по их определению, то ведь они своей жизни в этом мире так же не понимают, как не понимали смерти в войне.
Улица – солнечная пустыня; даже ребятишек больше нет. Прохожий виден далеко-далеко, за полверсты.
Вот как раз кто-то идет. Удивительно! Идет в нашу сторону.
Очень скоро узнаю, кто идет. По знакомой, припадающей походке. Идет хромая Аня. Вот она совсем близко, с палкой своей, на которую налегает, но движется она бодро и живо. В скромной блузке, старенькая юбка черная, под мышкой пакет – провизию какую-то добыла опять.
Увидала нас, остановилась под балконом, разговариваем.
Она идет в наш дом. Поднялась на минуточку в квартиру знакомой семьи, потом – к нам.
Сидит тяжеловато, но прямо – в кресле, в длинной моей комнате, смотрит круглыми глазами, похожими на хрустальные или стеклянные, и рассказывает.
Ее опять возили в Че-Ка. По доносу сестры милосердия, наверное, которая их грабила, ковер даже с полу стащила… Ну, опять допрашивали, целую ночь, как будто она не рассказала всего, что знает! Были любезны, не мучили, скоро отпустили.
– Вам бы уехать, Анна Александровна, – говорю я тихонько. – Если только возможно…
Аня, по сцеплению идей, перескочила на «затворника», – он ей не велит еще бежать, велит оставаться. Затворник в Александро-Невской лавре. Он сидел там в затворе 25 лет, только в самое последнее время показался. Аня сподобилась видеть его, беседовать с ним. Как он говорит! Этого описать нельзя. Истинный посланец Божий. Аня ходит теперь к нему в Лавру постоянно. И вот он не велит ей уезжать. Велит, чтобы оставалась…
Совсем особенно произносит она это: «велит, не велит». Как воздух для дыханья, ей необходим кто-то «велящий» или «не велящий». Я не думаю, чтоб затворник смог ей заменить Распутина. Это лишь первые инстинктивные и неизбежные поиски. Их будет очень много…
Аня, конечно, не забыла Распутина. Нет, она по существу верная, по природе верная; она не предаст Распутина никогда, хоть жги, хоть режь ее. Но Распутина нет. А она живет. Ей нужна постоянная «Божья», как она думает, помощь, чтобы жить. И помощь осязательная, видимая, наглядно-чудесная. Ведь Аня – материалистка, совершенно как царица; только царица активная материалистка, Аня же в каждой капельке крови своей пассивна. Чтобы действительно жить, ей необходимо потерять себя, носить в себе чужую волю, радостно слушать чужое приказание. Бог ей, в конце концов, бесполезен. Но ей совершенно необходим человек, который позволил бы верить в себя, как в Бога.
Смотрю в Анины хрустальные глаза. Слушаю детский ее, незабавный, лепет. Жалко? Не знаю. Странно, что вот кончилась та, первая сказка, другая началась, еще, пожалуй, страшнее, – но другая, не Анина: Аня – живой тенью перешла в нее, из одного мира в другой, словно из одной пустоты в другую, – ничего не знающая, неизменная, неуязвимая.
И кажется, так хорошо. Есть вина, страшная вина – но кто в ответе? Немой царь, призрак, несуществующий, как сонное марево? Убитая, на куски разрезанная, в лесу сожженная царица? Обалделый от удачи, похотливый и пьяный сибирский мужик? Или уж не эта ли стеклоглазая, круглолицая русская баба-фрейлина, хромая Аня?
Все равно. Все равно. Нельзя сделать, чтобы не было бывшего. Не для осуждения, не для мести надо вспоминать его, понимать его, держать в уме. Но в бывшем – теперешнее, а главное – будущее. Сказка, которую еще будут рассказывать…
Те же окна, тот же свет в них золотой, улица та же:
Прощайте, родные,
Прощайте, друзья,
Прощай, дорогая
Невеста моя…
Аня болтает, граммофон журчит напротив. Я не слышу. У меня кошмар будущего. И мне кажется – идут, идут за окнами невидимые полки, текут в закат и тают —
Прощайте, друзья,
Прощай, дорогая
Россия моя!
1923
Задумчивый странник
О Розанове[173]173
Отношения Мережковских с Василием Васильевичем Розановым (1856–1919) были длительными и нередко весьма конфликтными. Однако Гиппиус эти конфликты, чрезвычайно ранившие Розанова, старается затушевывать. Цитаты из книг Розанова «Уединенное» (СПб., 1912) и «Опавшие листья» ([Короб первый]. СПб., 1913) не раскрываются.
[Закрыть]
«Странник, только странник, везде только странник…»
«Иду. Иду. Иду… Даже «несет», а не иду. Что-то «стихийное, а не человеческое».
«Во мне есть чудовищное: это моя задумчивость».
(Уединенное)
Часть первая
1
Василий Васильевич Розанов
Что еще писать о Розанове?
Он сам о себе написал.
И так написал, как никто до него не мог и после него не сможет, потому что…
Очень много «потому что». Но вот главное: потому что он был до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать «явлением», нежели «человеком». И уж никак не «писателем», – что он за писатель! Писанье, или, по его слову, «выговариванье», было у него просто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал – «выговаривал» – все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально.
Писанье у писателя – сложный процесс. Самое удачное писанье все-таки приблизительно. То есть между ощущением (или мыслью) самими по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове – всегда есть расстояние; у Розанова нет; хорошо, плохо – но то самое, оно; само движение души.
«Всякое движение души у меня сопровождается выговариваньем», – отмечает Розанов и прибавляет просто: «Это – инстинкт».
Хотя и знает, что он не как все, но не всегда понимает, в чем дело; и, сравнивая себя с другими, то ужасается, то хочет сделать вид, что ему «наплевать». И отлично, мол, и пусть, и ничего скрывать не желаю. «Нравственность? Даже не знал никогда, через «ѣ» или через «е» это слово пишется».
Отсюда упреки в цинизме; справедливые – и глубоко несправедливые, ибо прилагать к Розанову общечеловеческие мерки и обычные требования по меньшей степени неразумно. Он есть редкая ценность, но, чтобы увидеть это, надо переменить точку зрения. Иначе ценность явления пропадает, и Розанов делается прав, говоря:
«Я не нужен, ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен».
Он, кроме своего «я», пребывал еще где-то около себя, на ему самому неведомых глубинах.
«Иногда чувствую чудовищное в себе. И это чудовищное – моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит.
Я каменный.
А камень – чудовище…
…В задумчивости я ничего не мог делать. И с другой стороны все мог делать» («Грех»).
Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня».
Но, конечно, соприсутствовало в Розанове и «человеческое»; он говорит и о нем с волшебным даром точности воплощения в слова. Он – явление, да, но все же человеческое явление.
Объяснять это далее – бесцельно. Розанова можно таким почувствовать, вслушиваясь в его «выговариванье», всматриваясь в его «рукописную душу». Но можно не почувствовать. И уж тогда никакие объяснения не помогут: Розанов действительно делается «не нужен».
Я буду, помня об этой, ясной для меня, розановской исключительности, говорить, однако, о нем – человеке, о том, каким он был, как он жил, об условиях, в каких мы встречались. Иногда буду прибегать к самому Розанову, к его записям о себе – ведь равных по точности слов не найдешь.
Больше я ничего не могу сделать. Жаль, нет у меня здесь ни писем его, ни ранних, ни предсмертных; и даже из книг его (воистину «рукописных», как он любил их называть) всего лишь две: «Уединенное» и I том «Опавших листьев».
2
Весной
Зеленовато-темным апрельским вечером мы возвращаемся в первый раз от Розанова по дощатым тротуарам глухой Петербургской стороны. Розанов жил тогда (в 1897? или 98?) на Павловской улице, в крошечном домике.
Только что прошел дождь, разорванные черные облака еще плыли над головой, доски и земля были влажны, и остро пахли весной едва распустившиеся тополевые листья, молодые (так остро пахнут они только в России, только на севере).
– Да… Вот весна… Весна! – сказал Философов (он был с нами у Розанова, и еще кто-то был).
Мы все думали молча о весне и потому не удивились.
– Весна. «Клейкие листочки»… А что же вы скажете о Розанове?
И заговорили о Розанове.
Решительно не помню, кто нас с ним познакомил. Может быть, молодой философ Шперк[174]174
Шперк Федор Эдуардович (1872–1897) – малоизвестный философ, друг Розанова.
[Закрыть] (скоро умерший). Но слышали мы о нем давно. Любопытный человек, писатель, занимается вопросом брака. Интересуется в связи с этим вопросом (о браке и деторождении) еврейством. Бывший учитель в провинции[175]175
Бывший учитель в провинции. – Розанов преподавал в 1880–1890-е гг. историю и географию в гимназиях различных провинциальных городов – Брянск, Елец, Белый.
[Закрыть] (как Сологуб).
У себя, вечером, на Павловской улице, он показался нам действительно любопытным. Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала интимность. Делала каким-то… шепотным. С «вопросами» он фамильярничал, рассказывал о них «своими словами» (уж подлинно «своими», самыми близкими, точными, и потому не особенно привычными. Так же, как писал).
В узенькой гостиной нам подавала чай его жена,[176]176
Его жена – Варвара Дмитриевна Бутягина. Падчерица – Александра Михайловна Бутягина (ум. 1920). У Розановых было четыре дочери (одна умершая в младенчестве) и сын.
[Закрыть] бледная, молодая, незаметная. У нее был тогда грудной ребенок (второй, кажется). Девочка лет 8–9, падчерица Розанова, с подтянутыми гребенкой бесцветными волосами косилась и дичилась в уголку.
Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, недостача, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость.
Ведь вот и наружность, пожалуй, чиновничья, «мизерабельная» (сколько он об этой мизерабельной своей наружности говорил, писал, горевал!), – а какой это, к черту, контрольный чиновник? Просто никуда.
Не знаю, каким он был учителем[177]177
Не знаю, каким он был учителем. – См.: «…учительство не было его призванием, и не к учительству тянулась его душа. Он чувствовал себя не на месте в этой роли» (Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пб., 1922, с. 11).
[Закрыть] (что-то рассказывал), – но, думается, тоже никуда.
3
Всегда наедине
Кажется, с 1900 года, если не раньше, Розанов сближается с литературно-эстетической средой в Петербурге. Примкнул к этой струе? Отнюдь нет. Он внутренно «несклоняемый». Но ласков, мил, интересен – и понемногу становится желанным гостем везде, особенно у так называемых «эстетов». Дружит с кружком «Мира искусства», быстро тогда расцветшего.
И к нам захаживает Розанов постоянно. Между прочим, нас соединял и молодой соловьевец Перцов, большой поклонник Розанова. Перцов – фигура довольно любопытная. Провинциал, человек упрямый, замкнутый, сдержанный (особенно замкнутый потому, может быть, что глухой), был он чуток ко всякому нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским умом. Сам как писатель довольно слабый – преданно и понятливо любил литературу, понимал искусство.
Как они дружили – интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов? непонятно, однако дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: «Голубчик, голубчик, да что это, право! Ну как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится, на ушко, шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом».
Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои, – не сердился, не отвечал.
С другим человеком, еще более сдержанным, каменным (если Перцов был деревянный), вышло однажды у Розанова в редакции «Мира искусства» не так ладно.
Постоянное «ядро» редакции, тесно сплоченный дружеский кружок, были: Дягилев,[178]178
Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – один из крупнейших деятелей русского искусства конца XIX и первой трети XX в., издатель журнала «Мир искусства». Нурок Альфред Павлович (1860–1919) – музыкальный деятель.
[Закрыть] Философов, Бенуа, Бакст, Нувель и Нурок (умерший). Около них завивалось еще множество людей, близких и далеких. По средам в редакции бывали собрания, хотя и не очень людные: приглашали туда с выбором. Розанову эта «нелюдность» нравилась. Он, впрочем, везде был немножко один или с кем-нибудь «наедине», то с тем – то с другим, и не удаляясь притом с ним никуда: но такая уж у него была манера. Или никого не видел, или в каждый момент видел кого-нибудь одного и к нему обращался.
Ни малейшей угрюмости; веселый, даже шаловливый, чуть рассеянный взгляд сквозь очки и вид – самый общительный.
В столовой «Мира искусства», за чаем, вдруг привязался к Сологубу, с обычной каменностью молчащему.
Между Сологубом и Розановым близости не было. Даже в расцвете розановских «воскресений», когда на Шпалерную ходили решительно все (вот уж без выбора-то!) – Сологуба я там не помню.
Но для коренной розановской интимности все были равны. И Розанов привязался к Сологубу.
– Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас – и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке!
Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно:
– А я нахожу, что вы грубы.
Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный, – груб! И, однако, была тут и правда какая-то; пожалуй, и груб.
Инцидент сейчас же смазали и замяли, а Розанов, конечно, не научился интимничать с выбором: интимность была у него природная, неизлечимая, особенная: и прелестная, и противная.
4
Наименее рожденный
Вот сидит утром в нашей маленькой столовой, в доме Мурузи на Литейном, – трясет ногой (другую подогнул под себя) и что-то пишет на большом листе – меленько-меленько, непонятно, – если не привыкнуть к его почерку. Старается все уместить на одной странице, не любит переворачивать.
Это он забежал с каким-то спешным делом, по Рел[игиозно-]философским собраниям, что-то нужно кому-то ответить, возразить или к докладу заседания что-то прибавить… все равно.
Сапоги у него с голенищами (рыжеватыми), с толстыми носами. Брюки широкие, серенькие в полоску. Курит все время – набивные папиросы, со слепыми концами. (По воскресеньям, за длинным чайным столом, у себя, где столько всякого народу, набивает их сам; сидит на конце стола, спиной к окнам, и тоже подогнув ногу.)
Давно присмотрелись мы к его лицу и ничего уже в нем «мизерабельного» не находим. Кустиками рыжевато-белокурая бородка, лицо ровно-красноватое… А глаза вдруг такие живые, и плутовские – и задумчивые, что становится весело.
Но Розанов все не может успокоиться и часто повторяет:
– Ведь мог бы я быть красив! Так вот нет: учителишка и учителишка.
Потом он это и написал (в «Уединенном»): «Неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал перед зеркалом…» «Сколько тайных слез украдкой пролил. Лицо красное. Волоса… торчат кверху… какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все – не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало: «Ну, кто такого противного полюбит? Просто ужас брал». «…В душе думал: женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего…»
Он прибавляет, однако, что «теперь» это все «стало ему даже нравиться»: и что «Розанов» так отвратительно», и что «всегда любил худую, заношенную, проношенную одежду».
«Да просто я не имею формы… Какой-то «комок» или «мочалка». Но это оттого, что я весь – дух; субъективное развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого». «И отлично…» Я «наименее рожденный человек», как бы «еще лежу (комком) в утробе матери» и «слушаю райские напевы» (вечно как бы слышу музыку, моя особенность). И «отлично! Совсем отлично!». На кой черт мне «интересная физиономия» или еще «новое платье», когда я сам (в себе, в комке) бесконечно интересен, а по душе – бесконечно стар, опытен и вместе юн, как совершенный ребенок… Хорошо! Совсем хорошо!..»
С блестящей точностью у Розанова «выговаривается» (записывается) каждый данный момент. Пишет он – как говорит: в любой строке его голос, его говор, спешный, шепотный, интимный. И открытость полная – всем, т. е. никому.
Писать Розанов мог всегда, во всякой обстановке, во всяком положении; никто и ничто ему не мешало. И всегда писал одинаково. Это ведь не «работа» для него: просто жизнь, дыханье.
Розанов уже не в контроле; он на жалованьи в редакции «Нового времени». Печатает там время от времени коротенькие, яркие полуфельетончики; Суворин издает его книги. Старик Суворин,[179]179
Старик Суворин – Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) – писатель, издатель газеты «Новое время», в которой постоянно сотрудничал Розанов. Гиппиус состояла с Сувориным в переписке, в 1904 г. он обещал поддержку журналу «Новый путь». Одно время Мережковский думал о сотрудничестве в «Новом времени» (см.: Максимов, с. 167–168).
[Закрыть] этот крупный русский нигилист, или, вернее, «je m'en fісhе'ист»,[180]180
Человек, относящийся ко всему наплевательски (фр.). – Ред.
[Закрыть] очень был чуток к талантливости, обожал «талант». Как некогда Чехову – он протянул руку помощи Розанову, не заботясь, насколько Розанов «нововременец». Или, может быть, понимая, что Розанов все равно ни к какой газете, ни к какому такому делу прилипнуть не может, будет везде писать свое и о своем, не считаясь с окружением. В редакции его всерьез не принимали, далеко не все печатали, но иногда пользовались его способностью написать что-нибудь на данную тему вот сейчас, мгновенно, не сходя с места – и написать прекрасно. Ну, почеркают «розановщину», и живет.
Мы все держались в стороне от «Нового времени»; но Розанову его «суворинство» инстинктивно прощалось: очень уж было ясно, что он не «ихний» (ничей): просто «детишкам на молочишко», чего он сам, с удовольствием, не скрывал. Детишек у него в это время было уже трое или четверо.
Так называемые розановские «вопросы» – то, что в нем главным образом жило, всегда его держало, все проявления его окрашивало, – было шире и всякого эстетизма и уж, очевидно, шире всяких «политик». Определяется оно двумя словами, но в розановской душе оба понятия совершенно необычно сливались и жили в единстве. Это Бог и пол.
Шел ли Розанов от Бога к полу? Или от пола к Богу? Нет, Бог и пол были для него – скажу грубо – одной печкой, от которой он всегда танцевал. И, конечно, вопрос «о Боге» делался благодаря этому совсем новым, розановским; вопрос о поле – тоже. Последний «вопрос» и вообще-то, для всех, пребывал тогда в стыдливой тени или в загоне; как же могло яркое вынесение его на свет Божий не взбудоражить, по-разному, самые разные круги?
Пожалуй, не круги – а «кружки». Ведь и «эстетизм» и другие петербургские едва намечавшиеся течения – были только кружки. Да в Розанове самом сидела такая «домашность», «самодельность», что трудно и вообразить его влияние на какие-нибудь «круги».
5
Духовные отцы
В область розановского интереса очень трепетно входил вопрос о «церкви». И не только потому, что жена его, духовного происхождения и вдова священника, была крепко и просто верующей православной. Нет, с вопросом о церкви Розанов был связан собственными внутренними нитями. Вопрос этот окрашивался для него в свой цвет – благодаря его отношению к христианству и Христу.
Однако мысль «Религиозно-философских собраний» зародилась не на Шпалерной (у Розанова), а в наших литературно-эстетических кружках. Они тогда стали раскалываться; чистая эстетика уже не удовлетворяла; давно велись новые споры и беседы. И захотелось эти домашние споры расширить – стены раздвинуть.
В сущности, для петербургской интеллигенции и вопрос-то религиозный вставал впервые, был непривычен, а в связи с церковным – тем более. Мир духовенства был для нас новый, неведомый мир. Мы смеялись: ведь Невский у Николаевского вокзала разделен железным занавесом. Что там, за ним, на пути к Лавре? Не знаем: terra incognita.[181]181
Неведомая земля (лат.). – Ред.
[Закрыть] Но нельзя же рассуждать о церкви, не имея понятия о ее представителях. Надо постараться поднять железный занавес.
Кто-нибудь напишет впоследствии историю первых Р[елигиозно]-ф[илософских] собраний. Тяжелого все это стоило труда. Об открытом обществе и думать было нечего. Хоть бы добиться разрешения в частном порядке.
К мысли о Собраниях Розанов сразу отнесся очень горячо. У него в доме уже водились кое-какие священники, из простеньких. Знакомства эти пришлись кстати. Понемногу наметилась дорожка за плотный занавес.
Однако в предварительных обсуждениях плана действий Розанов мало участвовал. Никуда не годился там, где нужны были практические соображения и своего рода тактика. С ним вообще следовало быть осторожным; он не понимал, органически, никакого «секрета» и невинно выбалтывал все не только жене, но даже кому попадется. (С ним, интимнейшим, меньше всего можно было интимничать.)
Поэтому ему просто говорили: вот теперь мы идем к такому-то или туда-то просить о том-то; брали его с собой, и он шел, и был, по наитию, очень мил и полезен.
Наконец собрания, получастные, были разрешены.[182]182
Наконец, собрания… были разрешены. – Первое Религиозно-философское собрание состоялось 29 ноября 1901 г.
[Закрыть] Железный занавес поднялся. Да еще как! Председатель – еп. Сергий Финляндский,[183]183
Еп. Сергей Финляндский – Сергий, епископ Ямбургский (в мире Иван Страгородский; 1867–1944), – впоследствии – патриарх Московский и всея Руси.
[Закрыть] тогда ректор Духовной академии; вице-председатель – арх. Сергий,[184]184
Арх. Сергий (в мире Иоанн Спасский; 1830–1904).
[Закрыть] ректор семинарии, злой, красивый монах с белыми руками в кольцах. Все это с благословения митрополита Антония[185]185
Митрополит Антоний (в мире Александр Вадковский; 1846–1912) – церковный деятель и писатель, митрополит Петербургский и Ладожский с 1898 г.
[Закрыть] и с молчаливого и выжидательного попустительства Победоносцева. Главный наш козырь был – «сближение интеллигенции с церковью». Тут очень помогло нам тщеславие пронырливого, неглупого, но грубого мужичонки Скворцова,[186]186
Скворцов Василий Михайлович (1859–1932) – чиновник Синода, редактор журнала «Миссионерское обозрение».
[Закрыть] чиновника при Победоносцеве. Миссионер, известный своей жестокостью, он, в сущности, был добродушен и в тщеславии своем, желании попасть «в хорошее общество» – прекомичен. Понравилась ему мысль «сближения церкви с интеллигенцией» чрезвычайно. Стал даже мечтать о превращении своего «Миссионерского обозрения» в настоящий «журнал».
Каюсь, мы нередко потешались над ним: посылали в этот «журнал» разные письма под самыми прозрачными псевдонимами, чуть ли не героев Достоевского или Лермонтова; невинный Скворцов не замечал и с гордостью письма печатал. На собраниях же мы ему спуску не давали, припоминая его миссионерские похождения.
Скворцов, конечно, сделался приятелем Розанова. У Розанова закипели его «воскресения», превратились в маленькие религиозно-философские собрания. На неделе собирались и у нас.
Странно, однако: весь этот мир «из-за железного занавеса», духовный и церковный, повлекся, припал главным образом к Розанову. Чувствовал себя уютнее с ним. А ведь Розанов считался первым «еретиком», и даже весьма опасным. Чуть ли не начались Собрания его докладом о браке и поле, самым «соблазнительным», и прения длились подряд три вечера.
А раз было следующее.
Розанов на Собраниях не только не произносил речей, но и рот редко раскрывал. Какие «речи», когда ни одного доклада своего, написанного, он не мог сам прочесть вслух. Другие читали. Ответы на возражения тоже писал заранее к следующему разу, а читал опять кто-нибудь за него.
Раз попросил он прочесть такое возражение, странички 2–3, молодого приват-доцента Духовной академии – А. В. Карташева. Карташев тогда впервые появился в Петербурге – из-за «железного занавеса у Николаевского вокзала», из иного мира, вместе со всей «духовной» молодежью. Кстати сказать: в этих «выходцах» многое изумляло нас, – такие они были иные по быту, по культуре; но изумительнее всего оказался их упрямый… рационализм. Вот тебе и «духовная» молодежь!