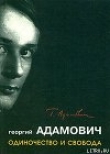Текст книги "Живые лица"
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Приложение
Владислав Ходасевич
З. Н. Гиппиус. Живые лица. I и II т.т. Изд. «Пламя». Прага, 1925 г.[290]290
Публикуемая рецензия В. Ф. Ходасевича (Современные записки, 1925, кн. XXV) представляет собой наиболее содержательный отклик на мемуары Гиппиус и вносит значительное количество фактических уточнений. Письмо Гиппиус, написанное как ответ на рецензию и открывающее ряд ныне известных писем ее к Ходасевичу (Гиппиус З. Н. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor, 1978), определяет многие важные положения, касающиеся как текста мемуаров, так и собственной позиции Гиппиус.
[Закрыть]
«Суд истории нелицеприятен». Да. Но для того, чтобы он был справедлив, одной воли к нелицеприятию мало. Чтобы судить верно, история должна опираться на документы и сведения, добываемые от современников данного лица или события. Без того все ее оценки не стоят ничего. Пока совершается этот «процесс первоначального накопления», историк, в сущности, не может разбираться в качествах собираемого материала. В этом периоде он подобен Плюшкину: его добродетель – жадность. Только после того, как материал накоплен, начинается пресловутый «суд». Дело его – разобраться в документах и показаниях, отделить правду от лжи, точное от неточного и проч. Тут и сами свидетели попадают под тот же суд.
Под общим заглавием «Живые лица» З. Н. Гиппиус собрала свои литературные воспоминания. Отдельными очерками они ранее появлялись в разных журналах и сборниках. Кое-кто из людей, упоминаемых З. Н. Гиппиус, еще живы, иные умерли лишь недавно. Но я не буду касаться вопроса о своевременности появления в печати этих мемуаров. Меж тем как обыватель в ужасе, не лишенном лицемерия, покрикивает: «Ах, обнажили! Ах, осквернили! Ах, оскорбили память!» – историк тщательно и благодарно складывает эти воспоминания в свою папку. Его благодарность – важнее обывательских оханий. Кроме того, наше время, условия нашей жизни – неблагоприятны для рукописей. Сейчас печатание мемуаров – единственный верный способ сохранить их для будущего.
Все это я говорю потому, что на книги З. Н. Гиппиус не могу не смотреть прежде всего как на ценнейший мемуарный материал. Конечно, они написаны в литературном смысле блестяще. Это и сейчас уже – чтение увлекательное, как роман. Люди и события представлены с замечательной живостью, зоркостью, – от общих характеристик до мелких частностей, от описания важных событий до маленьких, но характерных сцен. Но, несомненно, свою полную цену эти очерки обретут лишь впоследствии, когда перейдут в руки историка и сделаются одним из первоисточников по изучению минувшей литературной эпохи. Пожалуй, точнее сказать: двух эпох.
Сколько людей прошло перед Гиппиус! Плещеев, Вейнберг, Суворин, Полонский, Григорович, Горбунов, Майков, Минский, Андреевский, Чехов, Толстой, Розанов, Брюсов, Сологуб, Блок, Андрей Белый, Игорь Северянин! Один этот перечень (сокращенный к тому же) указывает на огромный круг ее наблюдений. И все эти люди показаны не в недвижных «портретах», а в движении, в действии, в столкновениях. А сколько событий, кружков, собраний! Тут и пятницы у Полонского, и зарождение и история Религиозно-философских собраний, и среды Вяч. Иванова, и ранние сборища московских декадентов, и редакции «Северного вестника», «Нового пути», «Вопросов жизни», «Весов».
В своих описаниях Гиппиус отнюдь не гонится за беспристрастием и бесстрастием. Она, видимо, и сама хочет быть мемуаристом, а не историком; свидетелем, а не судьей. Она наблюдает зорко, но «со своей точки зрения», не скрывая своих симпатий и антипатий, не затушевывая своей заинтересованности в той или иной оценке людей и событий. Поэтому сквозь как будто слегка небрежный, капризный говорок ее повествования читатель все время чувствует очень ясно, что ее отношение к изображаемому как было, так и осталось не только созерцательно, но и действенно – и даже гораздо более действенно, чем созерцательно. Таким образом, кроме описанных в этой книге людей, перед читателем автоматически возникает нескрываемое, очень «живое лицо» самой Гиппиус. И если для оценки всяких мемуаров историку методологически важно знакомство с личностью мемуариста, с его положением в круге изображаемых лиц и событий, то в данном случае историк оказывается в особенно выгодном положении: З. Н. Гиппиус дает ему обильнейший материал для суждения о ней самой, не только как об авторе мемуаров, но и как о важной участнице и видной деятельнице данной литературной эпохи. Не жеманничая, не стараясь умалить свою роль, но и не заслоняя своей особой тех, о ком пишет (общеизвестная ошибка многих воспоминателей), З. Н. Гиппиус мимоходом сообщает ряд драгоценных сведений о себе самой, о своем значении и влиянии в жизни минувшей литературы. Это влияние, кстати сказать, мне кажется, еще далеко не вполне взвешенным нашей критикой. Во всем объеме его еще только предстоит обнаружить будущему историку.
Как современный, так и будущий читатель, быть может, не согласится с некоторыми характеристиками и мнениями Гиппиус. Несомненно, однако, что с ее определениями надо будет весьма считаться. Но если кое на что придется, вероятно, взглянуть иначе, то это – лишь общая участь всех мемуаристов. История всегда располагает большей объективностью и большим запасом сведений, чем отдельный мемуарист. Можно, пожалуй, сказать, что оценки, даваемые мемуаристом, всего важнее для того, чтобы определить только его самого. Их роль вспомогательная, и история почти никогда не принимает их полностью, без поправок. Повторяю, очень хорошо, что Гиппиус дает нам столько характеристик и оценок, но в данном случае это хорошо потому, что мы имеем дело с такой крупной личностью, как Гиппиус. Из рядовых же мемуаристов наилучший тот, который, не мудрствуя лукаво, дает наиболее точные сведения о наибольшем количестве фактов. Общеизвестно, что иногда незначительная подробность или случайно упомянутая дата оказываются наиболее ценными и важными из всего мемуарного состава. И опять-таки, надо быть благодарными З. Н. Гиппиус, что она не поскупилась на подробные сообщения. Эта мелкая россыпь ее сведений в будущем сослужит свою службу.
Хорошо поэтому, что Гиппиус не откладывает писания до тех пор, пока мелочи исчезнут из памяти. Она сама говорит: «боюсь неточностей», и очень хорошо делает, что часто оговаривается: «кажется», «не помню» и т. д.: таким образом, она уменьшает свой риск внести путаницу и ввести в заблуждение. Некоторые неточности, однако же, вкрались. Напр[имер], жена Брюсова – чешка, а не полька; книга рассказов Брюсова, о которой упоминает З. Н. Гиппиус, называлась не «Проза поэта» (такой книги он вовсе не выпускал), а «Земная ось»; изд-во «Альциона» не существовало одновременно с «Весами» и «Золотым руном»; Брюсов жил не «против Сухаревки», а довольно далеко от нее, на 1-й Мещанской, 32; из иностранных писателей участвовал в «Весах» далеко не один А. Жид; как ни угодничал Брюсов перед большевиками, все же, вопреки ходячему мнению, цензором он ни минуты не был; брошюры «Почему я стал коммунистом» он также не выпускал, а только читал лекции на эту тему. В стихотворных цитатах память порядком изменяет З. Н. Гиппиус. Она пишет: «Я долго был рабом покорным», – надо: «Я раб и был рабом покорным». «Месть оскорбителям святынь!» – надо: «Казнь…» «Мне надоело быть Валерий Брюсов» – надо: «Желал бы я не быть Валерий Брюсов».
В очерке о Блоке измена памяти заставляет З. Н. Гиппиус намекнуть на то, что в стихах, посвященных ей, Блок будто бы написал некстати:
Вам зеленоглазою наядой
Петь, плескаться у ирландских скал.
После этих «скал» она ставит недоуменный вопросительный знак. Однако никакой бессмыслицы Блок здесь не написал, а лишь намекнул на стихи самой З. Н. Гиппиус:
О, Ирландия, океанная,
Мной не виденная страна!
Почему ее зыбь туманная
В ясность здешнего вплетена?
Я не думал о ней, не думаю,
Я не знаю ее, не знал…
Почему так режут тоску мою
Лезвия ее острых скал? —
и т. д.
Правдивость – главное, основное требование, предъявляемое к мемуаристу. Но – отец лжи усердно расставляет вокруг него свои сети. Из них главная – передача слухов и чужих рассказов. Поэтому Гиппиус очень хорошо сделала, поставив себе за правило – не передавать с чужих слов. В очерке о Брюсове она пишет: «Намеренно опускаю все, что рассказывали мне другие о Брюсове и его жизни… Никогда ведь не знаешь, что в них правда, что ложь, – невольная или вольная». В статье «Благоухание седин» этот методологический принцип формулирован так: «Всегдашнее мое правило – держаться лишь свидетельств собственных ушей и глаз. Сведения из третьих, даже вторых рук – опасно сливаются со сплетнями».
Однако мне хочется остановиться на одном случае, когда З. Н. Гиппиус отступила от этого правила, – поверила слухам и записала их без проверки. Дело идет о предсмертной поре Розанова[291]291
Дело идет о предсмертной поре Розанова. – 15 июля 1925 г. Ходасевич писал Горькому по поводу «Живых лиц»: «…кое-что прилгнуто, в частности о Вас (по поводу Розанова). Я знаю, что Вы не любите этого, но придется мне написать, что Вы – не изверг, а напротив того. Не сердитесь: я не собираюсь восхвалять Ваши деяния, я только осторожно вправлю клевету, как вправляют грыжу» (Контекст 1978. М., 1978, с. 328).
[Закрыть] и об отношении Горького к розановской участи. З. Н. Гиппиус очень не любит Горького. Может быть, у нее имеются самые веские основания. Но и на самого черного злодея не следует взваливать то, в чем он неповинен.
Однажды (по-видимому, в конце 1918 г.) З. Н. Гиппиус сказали, что Розанов, живший в Троицко-Сергиевском Посаде, «такой нищий, что на вокзале собирает окурки». Потом – будто бы он расстрелян.
Тогда З. Н. Гиппиус написала Горькому письмо, содержание которого она излагает так: «…вы вот, русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам «правительства» большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю – Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете ли вы по крайней мере сообщить, верен ли этот слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей «власти». Вы когда-то стояли за «культуру». Ценность Розанова как писателя вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы проверить слух…»
З. Н. Гиппиус прибавляет об этом письме: «Что-то в этом роде; кажется, резче. Не все ли равно?» Далее она негодует: «Горький, конечно, мне не ответил». Признаюсь, по-моему, он поступил очень хорошо: что можно ответить на оскорбления, основанные на нелепых слухах? Дело в том, что Розанова не только не расстреляли, но он даже и арестован не был. Далее, З. Н. Гиппиус сообщает, будто Горький «поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег». Все это сообщено с чужих слов и – неверно. Горький никому не давал таких поручений, ибо знал, что Розанов на свободе. Что же касается до посылки денег, то, как видно из письма, сама З. Н. Гиппиус Горького о том не просила. Об этом позаботились другие. И опять – не было здесь, конечно, ни «приспешников», ни клевретов, никаких вообще тайн Мадридского двора. Просто – пришел ко мне покойный Гершензон[292]292
Гершензон Михаил Осипович (1869–1925) – историк литературы и культуры, публицист.
[Закрыть] и попросил меня позвонить Горькому по телефону и сообщить о бедственном положении Розанова. Я так и сделал, позвонив по прямому проводу из московского отделения «Всемирной литературы». За это получаем мы ныне титул «приспешников». Кстати сказать, «приспешник» Гершензон не был знаком с Горьким, а я к тому времени однажды разговаривал с Горьким минут двадцать – о Ламартине. Конечно, З. Н. Гиппиус не хотела нас оскорбить: она просто изменила своему правилу и записала с чужих слов, даже не зная, о ком идет речь.
Как бы то ни было, Горький прислал денег. «Не много» – сообщает З. Н. Гиппиус. Опять – «слух». Деньги передавал дочери Розанова я. Суммы не помню решительно, ибо даже не помню, на что тогда шел счет: на сотни, на тысячи или на миллионы. Помню только, что дочь Розанова сказала: «На это мы (т. е. семья из четырех душ) проживем месяца три-четыре». Так ли уж это мало, когда речь идет о помощи частного лица?.. Сам Розанов в письмах к Гиппиус «все благодарил его» (т. е. Горького). Но З. Н. Гиппиус прибавляет: «За подачку: на картошку какую-то хватило». Очевидно, тоже с чужих слов.
К этому можно прибавить, что и самые слухи о крайней нищете Розанова были в Петербурге несколько неверно освещены. Мы, москвичи, знали, что Розанову очень трудно. Но – мы все голодали, распродавая последнее. Иным и продавать было нечего. И – были люди, которые завидовали Розанову. Дело в том, что не только «собственность Горького всегда была неприкосновенна», как сообщает З. Н. Гиппиус, но и собственность Розанова фактически оказалась такова же: он голодал, но не хотел продавать свою нумизматическую коллекцию, представлявшую большую ценность и находившуюся у него в неприкосновенности. Конечно, расстаться с нею для Розанова было бы ужасно. Мы это понимали, но понимали и то, что объективных причин голодать было у него меньше, чем у других… Однажды случилась беда. Розанов повез часть коллекции в Москву, кому-то на сохранение. Приехал поздно и, боясь идти по темным улицам, остался ночевать на Ярославском вокзале. Тут и украли у него сверток. Говорили, что этот случай подействовал на старика ошеломляюще. Окурки же… очень возможно, что он и стал собирать их, но не было ли и тут некоего «надрыва», а то и «стилизации»? Ведь прибедниться, принизиться, да еще после такого удара, – все это было вполне «в стиле» Розанова. З. Н. Гиппиус очень чутко и глубоко указала, что обычные критерии «правды» и «лжи» к нему не применимы. Морально – да, но фактически и ложь не становится правдой от того только, что ее произносит Розанов.
Я остановился на этих частностях не для того, чтобы, «начав за здравие, кончить за упокой». Отдельные неточности неизбежны в каждых воспоминаниях. Не портят они и прекрасную, нужную книгу З. Н. Гиппиус. Если же в этой статье мои поправки и дополнения заняли сравнительно много места, то это лишь потому, что всякая детализация всегда пространна.
Раз уж дело пошло о дополнениях, – я сделаю еще одно. Рассказывая о Сологубе и его покойной жене, З. Н. Гиппиус пишет, как они собирались в Париж, но их не выпустили из России. Это не совсем так. Ни З. Н. Гиппиус, ни сам даже Сологуб не знают некоторых подробностей этой истории. Весной 1921 года Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока – задержать. Узнав об этом, Луначарский написал в Политбюро истерическое письмо,[293]293
Луначарский написал в Политбюро истерическое письмо. – Это письмо полностью не опубликовано, и потому судить, насколько верно его содержание излагается в рецензии Ходасевича, трудно, но оно несомненно существует и частично процитировано по копии в архиве Горького (по которой его знал и Ходасевич) в статье М. А. Никитиной «М. Горький и Ф. Сологуб» (Горький и его эпоха, вып. 1. М., 1989, с. 200).
[Закрыть] в котором, хлопоча о Блоке, погубил Сологуба. Содержание письма было приблизительно таково: «Товарищи! Что вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, задерживая Блока, который – поэт революции, наша гордость и о котором даже была статья в «Times'e»! А что такое Сологуб? Это наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционного памфлета «Китайская республика равных»…» Дальше следовали инсинуации, которых я не хочу повторять. Зачем нужно было, обеляя Блока, чернить Сологуба, – тайна Луначарского. Как бы то ни было, его донос на Сологуба я читал в подлиннике. Он датирован, кажется, 22 июня 1921 года. Политбюро ему вняло. Сологуба задержали, а Блоку дали запоздалое разрешение, которым он уже не мог воспользоваться. Осенью, после смерти Блока, заграничный паспорт Сологубам все-таки выдали. Но к этому времени душевные силы Анастасии Николаевны были уже окончательно надорваны. Она несколько раз откладывала отъезд, пока не кончила самоубийством.
Особняком в «Живых лицах» стоит очерк «Маленький Анин домик». В отличие от других он изображает не литературную среду, а обитателей и гостей знаменитого вырубовского домика в Царском Селе. И написан он, в сущности, не по личным воспоминаниям. Непосредственно знакома З. Н. Гиппиус была только с Вырубовой, да и то лишь после революции. Но и не Вырубовой посвящен очерк, а главным образом – Николаю II и Александре Федоровне, отчасти – Распутину. Материалом для него лишь в малой степени послужили рассказы Вырубовой (лживые, – по наблюдениям Гиппиус и по тому впечатлению, которое производит книга вырубовских воспоминаний). В «Маленьком Анином домике» Гиппиус является не мемуаристом, а автором историко-психологического этюда, основанного преимущественно на переписке государя и государыни. В зарубежной печати уже раздавались голоса, негодующие на то, что Гиппиус будто бы оскорбила память этих людей, умученных большевиками. Не могу разделить этого взгляда. Громадная разница между оскорблением памяти и беззлобным, но правдивым изображением той политической и религиозной темноты, в которой, к несчастью, пребывали Николай II и его жена. Мученической смертью они, конечно, искупили свои ошибки, но не сделали их небывшими. З. Н. Гиппиус в своем очерке сделала лишь те выводы и наблюдения, которые, на основании бывшего у нее материала, представляются единственно возможными. И сделала в форме вполне корректной, оставаясь все время в области религии и политики и не вдаваясь в область морали. Если же настаивать на полном применении в истории принципа de mortuis nil nisi bene,[294]294
О мертвых – ничего, кроме хорошего (лат.). – Ред.
[Закрыть] то историческая наука станет невозможна – потому, между прочим, что с историографической точки зрения сам этот принцип глубоко безнравствен.
Письмо З. Н. Гиппиус к В. Ф. Ходасевичу
9/15/25
V. Alba, rue Jonquière
Le Cannet
Cannes (A. M.)
Нельзя ли сделать кое-где поправки к вашим поправкам?
«Проза поэта» – название моей статьи (одной «из») о «Земной оси».
«Я долго был рабом покорным» и т. д. – первоначальный текст данного стих[отворения] Б[рюсо]ва, тот, кот[орый] он и читал. Я знаю, что в позднейшем текст был очень изменен, по-моему – к худшему, что я и говорила самому Брюсову.
Я не помню, говорю ли я где-нибудь, что исключительно А. Жид писал в «Весах», а также что «Альциона» сосуществовала с «Весами». «Весы» и «З[олотое] руно» сосуществовали наверное.
Мой вопросительный знак к стихотворению Блока относится не к Ирландии (она очень нравилась Блоку, и мне легко было догадаться, откуда «Ирландия») – но к общенеуместному тону стихотворения в ответ на мое, – при всех данных обстоятельствах.
Затем – о «слухах». Вы, знаете, что это было время, когда все факты были слухами. Не все слухи фактами, правда, но тут уж требовалось, для отбора, обострить свои способности как интуиции, так и рассуждения. Иной раз удавалось угадывать, что потом и подтверждалось фактами. Если некоторых фактов я до сих пор не знаю, то других не знаете вы. (Между прочим – о Сологубе и его «Париже» я кое-что знаю из прямых источников, вам неизвестное, но что я очевидно не могла написать.)
Таким образом, «слуху» о расстреле Розанова не верить причин тогда не было: расстрел Меньшикова тоже дошел в виде «слуха». Я отнеслась, однако, к нему со всей осторожностью, что доказывает мое письмо к Горькому. Вы как будто считаете, что я должна была сразу отнестись к этому слуху как к вздорному и не «оскорблять» Горького предположением, что «дружественное» ему правительство способно на подобные дела. Мне кажется, что если вы действительно это считаете, то оснований у вас к тому нет. Что касается до «нужды» Розанова, «окурков» и т. д. – то здесь мы имели уже не «слухи», а сведения, через близкого к Р[озано]ву человека, детально его положение знавшего, ибо собственными глазами видевшего. «Приспешников» Горького – конечно, не вас и не Гершензона я разумела, – я знала много лет и своими глазами видела, притом не я одна, да и слово-то не мое, но друга Горького (не приспешника).
Теперь еще о правде и лжи. Конечно, ни мне, ни вам не дано знать, «что есть истина». Однако и для меня, и для вас должна быть какая-то общая мера для того, что истина и что ложь. Соглашаюсь, что я тут выхожу из круга фактов – только – фактов или очерчиваю их кругом очень широким. Но – позволим себе на минуту эту небесполезную роскошь, тем более что и факты не будут забыты.
Я хочу сказать, что мы с вами, при взгляде на эпизод «Розанов – Горький», находимся не в одинаковом приближении к «истине», а проще говоря – мы оба «пристрастны», конечно, но мое пристрастие – на стороне объективной правды, ваше – на противоположной. Почему у вас две мерки, для Горького и для Розанова, и, главное, каковы эти мерки? Почему Розанов сам виноват, что голодал, – не хотел продавать свои коллекции, а Горький ни в чем не виноват, хотя не только не продавал свои коллекции, но в то же время усиленно пополнял их? Правдивее была – тогда – мерка, разделение, которого мы придерживались: на покупающих и продающих. Очень глубокое разделение, со смыслом. Что Горький принадлежал к первым – это уже не «слухи»: я видела собственными глазами не только продавцов, но и приспешников-комиссионеров (один из последних – Гржебин), и даже самые «вещи», которые Г[орький] торговал и покупал. Мне очень неприятно говорить об этом; да и вспоминать неприятно, как долго торговался Г[орький] со знакомыми мне стариками за китайский фарфор и как признавался у нас один полячок из Публ[ичной] Библ[иотеки], что несколько «надул» Г[орько]го с порнографическими альбомами, ибо «эти – пяти-то тысяч не стоили, да он не понимает». Да и мало ли еще чего было! Хранить мое тогдашнее «негодование» к Г[орькому] до сих пор – было бы неестественно; я и не храню и, по правде сказать, сейчас Горьким совершенно не занимаюсь, даже в смысле «суда» над ним. Если говорю об этом, то ввиду вашей заботы о какой-то формальной «правде», которую иногда можно искать, лишь удаляясь от «истины».
Если же мы все это, вместе с фактами, оставим и перейдем в область просто-чувств, то нам не о чем спорить: вы больше любите Горького, я – больше Розанова. Можно закончить тем, что право каждого не быть вольным в своих чувствах.
Хочу надеяться, что вы не поймете это письмо как-нибудь превратно и неприятно. Верьте, пожалуйста, неизменности моего уважения и утверждения вашего поэтического дара.
З. Гиппиус
Примечания
В наше издание включены четыре книги стихов З. Н. Гиппиус и ее мемуарная книга «Живые лица». За пределами сборника остались все романы, повести и рассказы Гиппиус, ее критические статьи (лишь отчасти собранные в книге «Литературный дневник», вышедший в 1908 г. под псевдонимом Антон Крайний), дневники (в разные годы жизни Гиппиус писала дневники под различными заглавиями, посвященные различным проблемам) и многочисленные письма. Но даже стихотворения и воспоминания представлены далеко не полно. Помимо печатаемых книг стихов, Гиппиус издала еще сборник «Последние стихи» (Пг., 1918), произведения из которого практически все вошли в книгу «Стихи. Дневник», а также два сборника «агитационных» стихов: «Как мы воинам писали, и что они нам отвечали» (М., 1915) и изданные под псевдонимом Антон Кирша «Походные песни» (Варшава, 1920). Помимо этого, многочисленные стихотворения ее разбросаны по различным журналам и газетам и лишь отчасти собраны в двухтомнике «Стихотворения и поэмы» (München, 1972). Далеко не собрано и мемуарное наследие Гиппиус. «Живые лица» были первым опытом создания цикла воспоминаний, который был продолжен в последующие годы. Наиболее обширным мемуарным произведением Гиппиус является ее книга «Дмитрий Мережковский» (писалась в 1943–1945 гг., издана в Париже в 1951 г.), кроме этого следует отметить ряд очерков, разбросанных по эмигрантским изданиям, на часть из которых мы будем ссылаться в комментариях.
Тексты стихов печатаются по единственным прижизненным изданиям с учетом правки автора на известных нам экземплярах книг, а также с исправлением явных опечаток. Архивные источники, далеко не разработанные, использовались лишь в небольшой степени. Книга «Живые лица» печатается по единственному прижизненному изданию (Прага, 1925; репринтное воспроизведение – München, 1971). Орфография всюду унифицирована, за исключением тех случаев, когда это могло бы вступить в противоречие со звучанием стиха. Пунктуация приведена к современным нормам, однако сохранены те ее особенности, которые могут рассматриваться как индивидуально авторские и вследствие этого семантически значимые.
Комментарии составлены таким образом, чтобы расширить представление читателя о смысловых обертонах стихотворений Гиппиус и об эпохе, описанной в ее мемуарах. Не поясняются общеизвестные имена и факты, не указываются параллели с творчеством поэтов-предшественников и поэтов-современников. В связи с особой их важностью для Гиппиус и малой известностью для современного массового читателя раскрываются цитаты евангельские, а также приводятся параллели из дневников и писем Гиппиус. Однако составитель отдает себе отчет, что эта работа лишь начинается, потому в его труде неизбежны упущения. Многие места в примечаниях строятся на разысканиях Т. Пахмусс – основного публикатора наследия Гиппиус в I960–1970-е годы.